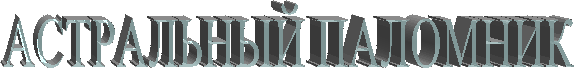С тех
пор, как Векслер понял Незримое, все остальное потеряло всякое
самостоятельное значение. Поверхность, преходящее и раньше мало
интересовали Векслера, но тогда он думал, что, может быть, это у
него только так, а на самом деле люди, передвигая предметы
внешнего мира, знают что-то свое, недоступное Векслеру, и
устраивают что-нибудь, необходимое миру. Теперь же он знал, что
и на самом деле перестановка внешних предметов есть занятие
совершенно пустое, и чем больше ему предаются люди, чем более
уверенно подчиняют себе внешнее, в тем более слепом рабстве у
вещей они на самом деле находятся, а если их действия все же
носят смысл, то не сами по себе, но из-за проницающего их
Незримого. Ведь даже главнейшая потребность тела – в пище, на
которую и ссылались всегда, когда почему-либо хотели убедить,
что вперед всего – хлеб насущный, а значит – перестановка
внешних предметов, – даже эта потребность была всего лишь плодом
временного невежества, помрачением, майей, – а что тогда
говорить о якобы потребности в модной одежде или красивом
автомобиле. На самом деле человеку ничего не было нужно, – это
он был нужен всему, – и вот, вещи льнули к нему и заглядывали
ему в глаза, и прямо-таки океан энергии терся о его ноги, и
требовалась-то всего капелька Знания, чтобы, например, есть
кожей, а пить глазами. Человек мог все, а делал только очень
немногое, и неудовлетворенное, изнывающее в простое, великое
тело человека восставало и само, как умело, пыталось восполнить
пробел, – а умело оно это только очень телесно. Вот здесь, в
телесно заполняемом невежестве разума и лежал корень всех зол,
люди же предпочитали обижаться на несовершенство мира и
переустраивали его себе на потребу, а то есть все дороже
оплачивали собственное неразумие, – так можно ли было после
этого всерьез относиться к их страстям, – и повседневным, и тем,
что казались вселенскими? Конечно, все это было не более
серьезно, чем жалобы на жажду сидящего по горло в реке или ссоры
детей из-за неподеленного песочника. И действительно, иногда
Векслер совсем уже был готов посчитать окружающее детской игрой
с ее слезами из-за лопатки песку и с ее смехом из-за лопатки
песку, но он всегда вовремя вспоминал, что мать продает девочку
проезжему шоферу за пять рублей, и останавливался. Ведь если
сплошь ничтожны были поводы детских ссор, если, вырастая,
человек не мог не перестать смеяться из-за лопатки песку, то
слезы все же лились настоящие, а человеческое страдание, какой
бы напрасной не была его причина, переступать не было дано
никому. Да, да, все так, они обжигались огнем, который сами же
разводили, да, не ведали, что творят, и не видели не то что
незримого, но очевидного, – но как и спрашивать с них за это?
Они не стояли у Башни времен, где во мгновение ока застаешь мир
миллионами лет другим, они никогда, даже в детстве, не открывали
Книги, – а Векслера еще до азбуки ночами окунали в ее страницы,
снимая, как головную боль, лжеуроки дневного, они кучей мертвых
предметов пытали тело живой хлореллы, хотя проще было позвать ее
душу и все узнать так, – а ведь все это еще не было истиной.
И все же дело не было безнадежно. Ведь истина была не в
том, чтобы ее знать, но она была в нравственном выборе человека,
а это высшее чудо дано всем поровну и каждому без изъятия, – и
тогда – что терять в промежуточном? Правда, это Векслер понял не
сразу, а сначала ему тоже казалось, что надо, во-первых, достичь
чудесного инознания, а во-вторых, овладеть для этого тайной
тела. Вот почему он рылся в текстах о совершенном дыхании и вот
почему перестал, устыдившись единоличной хорошести, что с ней он
бросит других в беде, и тут не совершенство, а воровство,
обираловка. Подумаешь, чудесность, – в нее входит и солдат,
взвинченный кровью, и куритель наркотика, и женщина, дуреющая в
похоти, – а с чем возвращаются? – да все с тем же, пустые.
Нет, не здесь путь, не здесь искомое, n'eti, – и вот,
едва Векслер отбросил остатки желания что-то иметь себе, едва
ему стало ничего не нужно, как само собой что-то сдвинулось, а
вслед за тем – и не как награда, но просто потому, что ничего
другого уже не оставалось – начались и не переставали какие-то
удивительные изменения, как если бы он поймал наконец нужный
воздушный поток и отдался ему, как если бы он был допущен в
некую лавку чудес и теперь их поочередно рассматривал, – и
чувства его были ярки, мысли наполняли все новое, и тело,
радостно им откликаясь, все надежней помогало Векслеру, и само
бросало курить, и само отказывалось пить крепкий чай, и все
смелее, как собака, забегающая вперед охотника, указывало на
какие-то, самому Векслеру неясные возможности, – наверное, там
был и полет, и память грядущего, и много, много высокого, – но
еще выше было оставить это в возможности, а самому идти дальше,
дальше, как и вела Векслера его мощная йога. Уже он знал снег не
отдельностью мира, но и не собой, а как нечто совместное, уже
разрешал себе увидеть поворот солярного цикла и догадывался
дальше – до Великого круга вещества, что протекает сквозь
человека, удивляется в нем и так строит здание мира, уже все
чаще находил себя частицей свободной радости, парящей там, где
светящиеся были не звезды, а печатлели что-то еще, глубже по
смыслу, – благодарные, внимательные, лучистые, они были повсюду
и поддавались прочтению, поддавались прочтению, поддавались
прочтению... Теперь пора было в лес – понимать язык птиц и
зверей, опрокинуться в сплетенный разум растений и, прорастая
его, догадываться о Незримом не прямоугольным языком техносферы,
но ближе – лопнувшей почкой и движением в корне воды.
Но тут Векслер почувствовал какой-то новый порог, – его
сдерживал город, – не так пылью и грязным воздухом, но, главное,
держать обретенное при себе становилось опасно, – Векслер был
теперь как бы в резонансной точке схождения мировых линий, а тут
все было непросто. Векслер помнил, как прошлым летом к нему
привязались двое и ему пришлось-таки одному из них двинуть в
лоб. Все бы ничего, но обернулось-то это южно-корейским
самолетом, – а что же может случиться сейчас? Нет, здесь можно
было оставаться только хранителем – средоточить в себе
досягаемые биения мира и уравнивать их собственным пульсом: да
расточится тьма, да не посмеет зло! – но так Векслер себя не
чувствовал. Получалось, надо оставлять кого-то взамен (Векслер
уже видел здесь Мальчика), а самому уходить. Но куда? Здесь был
не Восток, даже не Запад, Страна же больше не почитала своих
странников, в ее расхищенной и изуродованной культуре уже не
отводилось места для леса, и, хотя, скитаясь, прожить
было можно, но это все был не лес.
И тут Векслер вспомнил свой давнишний сон о переселении
на Марс. Там шел XХI век, когда люди, издеваясь над природой,
сумели задеть что-то в святая святых планеты, и планета сошла с
ума. Векслер был там в числе детей, которых в спешном порядке
вывозили на Марс, в поселения под стеклянными куполами. Сквозь
иллюминатор он смотрел на отдавлившуюся Землю, и даже ему, мало
понимающему в происходящем ребенку, было видно, что планета
бредит. Потом был Марс, ночная посадка, красный песок, бьющийся
о стекло освещенного купола, и кто-то говорил, что теперь этот
красный песок, хлещущий по стеклу, на долгие месяцы будет
единственным ликом мира, а Векслер – не переселяемый ребенок, а
тот, кто смотрел сон, – понимал, что это так и есть, что планета
потеряна безвозвратно, что на ней творится непотребно
нечеловеческое – мешаются времена, из-под земли вылазят ядовитые
злаки, невообразимая нечисть расползается по пустым городам, – и
это уже непоправимо.
Вспомнив это, Векслер понял, к исполнению какой задачи
вел его путь. Земля не должна была обезуметь, а значит –
Векслера ждала ночь между Западом и Востоком.
3.07.1988
|
|
...Перестань, ну, убился Векслер в своем махапаринирвана, ну, не
вытащил Алик Ленку из ресторанных шлюх – слабо, – что еще? – ах,
да, – Саша Попов не въехал в столицу на белом пегасе, – это еще
не все скорби мира, не конец их, но, значит, – не конец и миру.
«Но я, – скажешь ты, – и не собираюсь предаваться вселенской
скорби из-за придуманных или чужих мне людей, мне только больно,
когда в моей живой жизни мучаются близкие мне люди или я сам, –
ведь не может же мне это быть все равно?» «Ага! – скажу я. –
Значит, все-таки нет причин винить мироздание в краеугольной
несправедливости, а все дело только в бедах нашей жизни? Но это
уже, как-никак, наша жизнь, ее живем мы, и в ней наш выбор, –
так в чем же дело?» Ты заспоришь, но не спорь, я это знаю, –
слишком легко знать про правящие погодой жизни циклоны истории,
про несчастные случаи наподобие врожденных увечий или неумных
родителей, – но трудней и важней понять другое: что у тебя
все есть. В повседневности это почти неуследимо, тем более
это не увидеть в минуту уныния или когда после вчерашнего
раскалывается голова, – это делается иначе, на взлете, я скажу –
как, – ведь и мне, кстати, нужно, чтоб было с кем сверить
вопросы и ответы, чтоб ты все знал сам и мог объяснить мне. А
для этого так: сначала вспомни свое лучшее – удивленный
полуоборот любимой девушки, высокое-высокое небо детства, ребят
где-нибудь у костра, – что было, – помни это все ярче, на
полную, а потом легко и свободно, и уже забудь все, и теперь
смотри сам.
Вот взрывается вечность и в новосозданном небе во все
стороны мчится звездная пена, вот лепятся из нее солнце, луна,
земля, вот остывает вода, и на тысячи лет пошел дождь, и
наполняется океан, вот двоякодышащая кистеперая рыба выползает
на его берег, вот последние следы оставляют на нем исполинские
ящеры, вот мохнатый, с бивнями, мамонт, как живой, идет по стене
пещеры, вот раскинулась в степи скифская конница, вот взлетает в
космос Юрий Гагарин, а вот – ты, – паришь, как бог над
библейскими водами, в космосе материнского живота, и рождаешься,
и кричишь, и теперь твой черед жить. Ты получаешь имя, ты
пачкаешь пеленки и сосешь материнскую грудь, ты учишь слова и
уже умеешь ходить, ты совершаешь другие великие подвиги на
радость своим родителям, тебе повезло, – ты не попал в рабство к
наследственным миллионам, ты не родился где-нибудь в Венесуэле и
теперь не ночуешь вместе с другими беспризорниками в яме с
пистолетом на животе, – обошлось, ты – обычный мальчик, ты идешь
в школу, учишь уроки, слушаешься учительницу, – у тебя все как у
всех, вот только бессмертие твое почти безвозвратно загублено,
потому что в тысячах ошибок воспитания упущено время научить
ему, потому что с водой и воздухом ты каждый день глотаешь все
больше яда, потому что за появление на этот свет – виновен! –
тебе дали десять лет школы, потому что проклятье работы лежит на
твоих родителях, ведь им некогда заниматься тобой, они еще
молодые, и после рабочего дня им еще надо успеть жить. Но ты не
знаешь обэтом, ты поймешь это позже, а пока ты веришь в своих
родителей, что они не обычные смертные, ты ловишь каждое слово
любимой учительницы, и тебе радостно знать, что ты родился у
нас, где все всегда правильно и хорошо, и ты только не
понимаешь, почему нельзя унести с собой самый большой грузовик в
магазине, тебе только обидно, что твоя Всезнающая и Справедливая
отличает из всего класса подлизу Соньку да тупицу директорского
сына, ты только удивляешься, как это мама учит поступать хорошо,
а сама, приехав к тебе в летний лагерь, сует тайком лакомство и
говорит, чтобы ты съел его ни с кем не делясь. Зато бескрайни
прерии и удивительны приключения в них, зато меток Соколиный
Глаз и бесстрашен Спартак, зато отважны, благородны, всегда
вступаются за обиженных твои герои, и когда в седьмом классе ты
видишь, как тискают в углу самую красивую одноклассницу, то,
конечно, кидаешься на ее защиту, но останавливаешься, потому что
она и не думает обижаться, только взвизгивает и хихикает, и ты
не знаешь, что делать. Так, помаленьку, ты и осваиваешь
премудрость жизни, ее ритуалы и их изнанку, но все же и после
школы, даже отслужив в армии, даже поступив в институт, ты до
последнего противишься осознать, – и все же делаешь это с ужасом
и отчаянием, – что твоя великая, могучая, непобедимая Страна
далеко не безупречный образец совершенства, что если б одна ее
электроника была хуже и дороже японской, что ее пьянство и
прочие безобразия давно стали притчей во языцех во всем мире,
что в ней, как везде, лгут и воруют, и что ни тебя, никого, и не
собираются спрашивать, как с этим быть. Ты мог бы родиться
где-нибудь в Сенегале или Исландии, и тогда тоже самое ты бы
понял иначе, – например, ты бы знал цену, какой дается твоему
народу хранить себя в здравой памяти среди сильных мира сего, и
ты бы чувствовал боль и гордость, но ты родился в большой,
действительно великой Стране, и сейчас тебе так же больно и
стыдно, как если бы, случайно зайдя в суд, ты увидел свою мать
на скамье подсудимых. Поэтому ты говоришь и слышишь самые
радикальные речи, но это не в храме науки, куда ты вступил с
таким трепетом, – там что-то много торгующих, – а в вашем
приятельском кругу, – это здесь тебя приобщают наконец к
Сальвадору Дали и Мандельштаму, а еще ты узнаешь про летающие
блюдца Шамбалы и про то, что только постоянно развивающийся
человек способен оценить все до единого звуки – действительно,
хорошей – рок-группы «Лед Зеппелин», – и ты, конечно, стремишься
быть таким человеком, а еще – как ты ее раньше не замечал? – у
нее необыкновенные глаза, голос, походка, – ты влюбляешься. А
она – нет, ее избранник – известный на весь факультет шалопай, и
хотя он заджинсован сверху донизу и хотя вообще-то хороший
парень, чем он лучше тебя? У него нет к ней такого, – а к ней
должно быть только такое, почему она соглашается на меньшее? И
ты одну за другой делаешь глупости, а в мечтах их делаешь еще
больше, и не можешь найти себе места, потому что твое лучшее,
чего ты не создашь ни в какой книге, ни в какой музыке – громче
«Дамб» «Цеппелина», звездней «Sanctus»'а Баха – оказывается
никому не нужным, пропадает зря, как будто это какая-нибудь
никчемная ветошь, хлам, и тогда ничего не нужно, и вселенная
рушится от неправды, и незачем больше жить, – а меж тем, пока ты
слеп ко всему вокруг, за тобой точно так же бегает девочка из
твоей группы и с ней творится то же, что и с тобой.
И вот тебе двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь.
Ты уже не ставишь на полную громкость пластинку, чтобы вся улица
послушала твою музыку, ты уже прошел одиночество, женщину да и
работу и уже почти не ждешь, что кто-нибудь наконец придет и
что-нибудь наконец случится, – нет, и так уже столько убухано на
пустоту, но зато теперь ты – как стрела на натянутой тетиве, как
корабль, снаряженный к отплытию, – и только определиться, на что
положить жизнь, и идти, и оставить мир лучше, но – куда ж нам
плыть? – ты окончательно убеждаешься, что не только твое лучшее
остается невостребованным, а с тебя требуют чего-то меньше и
хуже, но и сам-то ты, похоже, не обязателен здесь, – допущен то
ли из милости, то ли по недоразумению, а у других то же самое, и
попробуй пойми, в чем же ты успел ошибиться и где же тогда
искать опору. А понять надо, жизни жить еще много, а уже
уступлено что-то важное, – не так ярки чувства, все тягостней
мысли, все безрадостней пробуждения, – что говорить, ты заперт в
чужих ошибках, но ты и повторяешь их на каждом шагу, ты поверил
принять малое лишь под залог чего-то необыкновенно великого – и
попался, стоило только начать делить неделимое, как тут же
что-то втиснулось в брешь, – и вот – стоит между тобой и миром,
тобой и Страной, тобой и тобой, и нет небывалых свершений, но
есть будни и снова будни, есть суета, дрязги, боли, есть слова,
в которых все названо, есть шум и дым большого города, где тебя
на каждом шагу заставляют думать о себе, – и ты снова поддался и
думаешь, что стеснен, унижен, умален здесь, – ну, как же, ведь у
человека все должно получаться, ведь он – вестник необыкновенно
важного чуда, ведь настанет же когда-нибудь Держава Света, – и
все так, наверное, так, – но именно поэтому остановись и пойми:
если боги, подвижники и герои выбирали славу дальних походов или
путь на Голгофу или горние пустыни Химавата, то только потому,
что ни одному из них не дано было свершить высшую, недосягаемую
жертву простого пути обычности, неизвестности, будней, – или же
он прошел незамеченным, – ну, так знай же себя искрой от
безначального пламени, – того, что взорвав вечность, летит
звездной пеной в новосозданном небе и метит берег плавником
кистеперой рыбы, и рисует мамонта на стене пещеры, и летит
дальше, дальше, – водой, светом, камнем, ветром, – всем тем, что
ты есть и без чего мир не сложится в мир, звезды – в небо, люди
– в человечество и время – в вечность. Знай, – еще не все, –
ярки ли твои дни, как фестивальные флаги или же, как это есть,
на тебя возложено великое дело обычности, тебе равно дано
прерывать цепь зла – как никому, и твой пульс не теряется, но
отдается в каждом закоулке вселенной, и Прекрасная Женщина –
увидь – рядом с тобой заглядывает в твое лицо, и содрогаются
индийские боги на твой ужасающий тапас, – так, как если бы ты
шел по проволоке над пропастью и в твоем равновесии был устой
мироздания, так, как если бы один за всех – нет сильней, нет
надежней, – ты был выставлен на поле брани в день Армагеддона, –
а всего-то ты каждый просыпаешься, чтобы жить. Но так и есть,
смотри, какая скоплена прорва злобы, – злобинка к злобинке, изо
дня в день, из тысячелетия в тысячелетие, – смотри, какой она
катится горой какого железа, какой лжи, каких адских машин, – и
все против тебя, все затем, чтоб, отчаявшись, ты стал видеть в
мире ее, свою женщину – шлюхой, себя – с ее разрешения, и
разуверился быть, и не хотел знать своей истины. Хоти, хоти, еще
не окончены тайны, еще неподотчетно, незнаемо, неотъемлимо твое
бессмертие, только решай свое сам да поменьше слушай ученых
наемников невежества, что объявляют тебя то песчинкой в песке
морском, то – венцом мироздания, – ты ни то и ни это, ты – в
Пути, а что на нем – Единое, Единственная, – иди, увидь: Мы.
15.01.1988 |
|
|