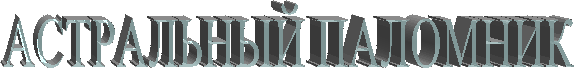|
Выдержки из произведения
Михаил
Ямпольский. Демон
и Лабиринт
(Диаграммы, деформации, мимесис)
Новое литературное обозрение Москва, 1996
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. VII
Редактор выпуска
С. Зенкин
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
...............................................................................................
4
Г л а в а 1. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
............18
Г л а в а 2. КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ .................. 52
Г л а в а 3.
ЛАБИРИНТ..................................................................
82
Г л а в а 4. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ: РАЗЛИЧИЕ И ПОВТОРЕНИЕ.........
117
Г л а в а 5. ЧУЖОЙ ГОЛОС, ЧУЖОЕ ЛИЦО .........................
171
Г л а в а 6. МАСКА, АНАМОРФОЗА И МОНСТР ................ 207
Г л а в а 7. ЛИЦО-МАСКА И ЛИЦО-МАШИНА ................ 253
Г л а в а 8. ТАНЕЦ И
МИМЕСИС................................................. 277
ЗАКЛЮЧЕНИЕ......................................................................................
306
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Антонен Арто. Страдания
"dubbing'a"................................. 310
2. Хорхе Луис Борхес. По поводу
дубляжа.................................. 312
Использованная литература....................................
314
ВВЕДЕНИЕ
В этой книге собраны этюды, объединенные одной темой. Все они посвящены
отражению телесности в культуре. Телесность же рассматривается под
определенным углом зрения. Меня интересовали различные формы деформации
тела. Само по себе понятие деформации требует уточнения. Я вовсе не имею
в
виду существование некой "нормы", по отношению к которой происходит
деформация -- нарушение, искажение этой нормы. Под деформацией я понимаю
некий динамический процесс или след динамики, вписанный в тело В таком
контексте деформацией может быть любое движение, любое нарушение
первоначального стазиса -- от гримасничанья и смеха до танца и блуждания
в
потемках.
Движение, о котором в книге говорится постоянно, должно, однако,
каким-то образом фиксироваться, сохранять деформацию как след В
интересующем
меня аспекте след движения неразрывно связан с понятием "поверхности". В
главе 6 книги упоминается один текст Леонардо да Винчи, в котором тот
анализирует понятие поверхности как некой границы, не принадлежащей ни
одному телу и одновременно принадлежащей двум "телам", например, воде и
воздуху над ней (Леонардо 1954 73--76). Причем тела эти, как указывает
Леонардо, неразделимы -- нельзя поднять воздух над водой, не поднимая
вслед
за ним самой воды. Это явление объясняет образование ряби и волн на
поверхности жидкости Волны оказываются не чем иным, как отражением на
воде
движения воздушной массы (ветра). При этом деформация воздуха как
отпечаток
воспроизводится в воде лишь благодаря существованию поверхности -- общей
границы между телами
Эти размышления Леонардо стимулировали мою работу над некоторыми
аспектами "поэтики деформаций". Деформации всегда возникают на
поверхности
(в глубинах воды рябь невозможна) и всегда касаются двух тел, между
которыми
располагается поверхность. Такое понимание деформации позволило связать
ее с
воздействием сил, нередко чисто физических. Упомянутые в подзаголовке
книги
"диаграммы" отсылают именно к силовой стороне деформаций Под диаграммой
я
понимаю как раз след динамического процесса, невозможного без приложения
сил.
Но главное, размышления Леонардо позволили подойти к описанию
деформаций телесности вне системы психологических мо-
5
тивировок. Вопрос, который я задал себе несколько лет назад, когда
начал работать над этой книгой, и ответ на который приходил лишь
постепенно,
может быть сформулирован следующим образом: "Что означают телесные
деформации, например, гримасы или конвульсии?" С самого начала для меня
было
ясно, что такого рода деформации не могут быть объяснены в терминах
психологии, что тело здесь функционирует наподобие машины, вне
сознательных
психологических мотивировок. Гораздо более адекватным выглядело
объяснение в
рамках представлений о миметизме. Тело как будто повторяет поведение
иного
тела. Мой друг, философ Валерий Подорога предложил понятие
"психомиметического события", то есть такого телесного события, когда,
например, скорость письма (в частности, у Достоевского) через
миметические
механизмы передается телу персонажа, которому приписывается повышенная
динамика. Но эта же скорость письма воздействует на читателя, включая
его в
сферу "психомиметического события".
Разным формам миметизма посвящены в основном первая, вторая и восьмая
главы книги. Однако само понятие поверхности позволило представить себе
миметический процесс не просто как некое подражание, а именно как
"впечатывание" оттиска в поверхность, то есть в границу, разделяющую два
тела и принадлежащую одновременно обоим телам. Толчком к такому
пониманию
миметизма послужили некоторые наблюдения Жана Пиаже над практикой
имитации в
раннем детстве. Пиаже заметил, что у новорожденных плач другого ребенка
вызывает "голосовой рефлекс из-за смешения со своим собственным плачем"
(Пиаже 1962 - 7) Речь идет о неком первоначальном неразличении между
своим
телом и телом другого. Постепенно, однако, такая ассимиляция чужого тела
опосредуется Движения чужого тела начинают проецироваться на внутреннюю
схему тела, которую усваивает ребенок Таким образом, различие между
собой и
другим начинает формироваться как различие между внешним (чужое, видимое
тело) и внутренним (свое, невидимое тело) Происходит, следуя Пиаже,
"постепенная ассимиляция видимых движений лиц других с невидимыми
движениями
собственного лица ребенка" (Пиаже 1962: 30). Пиаже указывает, что до
определенного момента зевание других не заразительно для ребенка, так
как
"не существует прямого соответствия между визуальным восприятием ребенка
рта
других и осязательно-кинестетическим восприятием собственного рта"
(Пиаже
1962: 41).
Миметизм становится эффективным тогда, когда внешнее (чужое тело)
обретает общую поверхность с внутренним (схемой собственного тела).
Тогда
движения других накладываются на тактильно-кинестетические схемы самого
субъекта. Метафорически выражаясь, движения воздуха приводят в движение
воду
лишь тогда, когда
6
они оказываются соединенными общей поверхностью. Приведу определение
поверхности, данное Леонардо. На мой взгляд, оно хорошо выражает
функционирование поверхности в миметическом процессе:
"...Поверхность -- это общая граница двух тел, которые не продолжают
друг друга, она не является частью ни одного из этих тел, потому что,
если
бы она была такой частью, она бы имела делимую толщину, в то время как
она
неделима и ничто не отделяет эти тела друг от друга" (Леонардо 1954:
76).
Поскольку деформация всегда возникает на поверхности (глубина воды
остается нетронутой), она всегда связывает между собой два тела, две
среды,
она всегда связана с силами, приложенными из одной среды по направлению
к
другой, а потому она диаграмматична и, конечно, миметична. Деформация
поэтому всегда включает в себя два тела, одно из которых действует как
печать, а второе выступает в качестве отпечатка.
Отсюда проходящий через большинство этюдов этой книги мотив двойника,
но двойника особого. Речь идет не просто о копировании одного тела
другим
(подобно отражению в зеркале), а о воздействии одного двойника на
другого. В
большинстве случаев такой двойник определяется в книге как "демон"1.
"Демон"
-- это силовая миметическая копия тела, чье сходство с ним выражается
прежде
________
1 Я назвал миметического двойника "демоном" отчасти вслед за Гете,
который пытался определить некую витающую в воздухе силу, пронизывающую
формы и тела, воздействующую на течение времени и конфигурацию
пространства.
Гете вспоминает, что мучительно не мог подобрать подходящего слова и в
конце
концов остановился на "демоне". Я испытал примерно такие же
лингвистические
трудности и потому решил последовать примеру Гете. Приведу тот фрагмент
из
"Поэзии и правды", который побудил меня к такому решению. Гете пишет о
себе
в третьем лице, как бы "демонически" удваивая собственную нарративную
позицию:
"Ему думалось, что в природе, все равно -- живой и безжизненной,
одушевленной и неодушевленной, он открыл нечто дающее знать о себе лишь
в
противоречиях и потому не подходящее ни под одно понятие и, уж конечно,
не
вмещающееся ни в одно слово. Это нечто не было божественным, ибо
казалось
неразумным; не было человеческим, ибо не имело рассудка; не было
сатанинским, ибо было благодетельно; не было ангельским, ибо в нем
нередко
проявлялось злорадство. Оно походило на случай, ибо не имело прямых
последствий, и походило на промысел, ибо не было бессвязным. Все
ограничивающее нас для него было проницаемо; казалось, оно произвольно
распоряжается всеми неотъемлемыми элементами нашего бытия; оно сжимало
время
и раздвигало пространство. Его словно бы тешило лишь невозможное,
возможное
оно с презрением от себя отталкивало.
Это начало, как бы вторгающееся в другие, их разделявшее, но их же и
связующее, я назвал демоническим, по примеру древних и тех, кто
обнаружил
нечто сходное с ним. Я тщился спастись от этого страшилища и, по своему
обыкновению, укрывался за каким-нибудь поэтическим образом" (Гете 1976:
650).
7
всего в общих деформациях, в общей поверхности, даже если эта
поверхность носит условный характер2.
Двойник, однако, не обязательно принимает форму демона. Чаще всего он
является неким отпечатком, импринтом в самом пространстве, окружающем
тело.
В этом смысле он является буквально негативным отпечатком, а не
позитивной,
телесной копией. На первый взгляд, такое представление о пространстве
как о
своего рода массе, несущей в себе отпечатки тела, кажется
экстравагантным
(хотя Леонардо даже говорит об отпечатках, сохраняющихся в воде). В
действительности дело обстоит гораздо проще, чем может показаться из
моего
путаного объяснения.
Тело формирует свое пространство, которое для внятности я буду называть
"местом". Оно вписывается в "место" и формирует его собой. В книге
возникает
множество таких "мест" -- это гнездо, которое лепит своим телом птица,
это
маска, снимаемая с лица человека, это лабиринт, в котором фиксируются
движения идущего в нем, это ткани, вибрирующие в такт движениям
танцовщицы,
это сад, миметически воспроизводящий образы памяти.
Спорное и влиятельное определение "места" принадлежит Аристотелю.
Аристотель по существу предвосхищает размышления Леонардо:
"Когда мы говорим, что [предмет] находится во Вселенной как в
[некотором] месте, то это поэтому, что он находится в воздухе, воздух же
во
Вселенной, да и в воздухе он [находится] не во всем, но мы говорим, что
он в
воздухе, имея в виду крайнюю, окружающую его [поверхность]" (Аристотель
1981: 130; 4, 4, 211, 24--27). Рассуждая таким образом, Аристотель одно
за
другим отвергает определения места как формы, материи и протяженности
между
краями некого объемлющего тела. В конце концов он приходит к заключению,
что
место -- это "граница объемлющего тела, поскольку оно соприкасается с
объемлемым" (Аристотель 1981: 132; 4, 4, 212а, 6). Иными словами,
место--
это поверхность. Это поверхность самого тела, в той мере в какой она
является и поверхностью "тела", объемлющего это тело.
Аристотель сравнивает место с неподвижным сосудом. Пиама Гайденко
называет аристотелевское место "абсолютной системой координат, по
отношению
к которой только и можно вести речь о движении любого тела" (Гайденко
1980:
322). Если бы места не существовало, движение было бы невозможно
отличить от
покоя. Ме-
___________
2 По мнению Роберта Бартона, именно демоны являются теми силами,
которые вызывают в телах метаморфозы: "... они вызывают настоящие
метаморфозы, подобно тому как Навуходоносор был воистину превращен в
зверя,
жена Лота в соляной столб, спутники Улисса чарами Цирцеи превращены в
свиней
и собак..." (Бартон 1977: 183).
8
сто у Аристотеля -- это неподвижная граница, объемлющая тела. В этом
смысле она может совпадать с поверхностью заключенного в ней тела, а
может и
не совпадать. В пределе место можно мыслить как границу, существующую
независимо от тела.
Сложности возникают именно тогда, когда место начинает служить своей
главной цели -- делать возможным движение. Комментатор Аристотеля
Филопон
(VI столетие), критикуя аристотелевское понимание места, указывал на
невозможность его сведения к неподвижной двумерной поверхности, а не к
трехмерному объему:
"...Если место должно быть неподвижным, а поверхность, будучи границей
тела, движется вместе с телом, то поверхность не может быть местом"
(Филопон
1991: 24). Аристотель дает следующее пояснение:
"Подобно тому как сосуд есть переносимое место, так и место есть
непередвигающийся сосуд. Поэтому, когда что-нибудь движется и
переменяется
внутри движущегося, например лодка в реке, оно относится к нему скорее
как к
сосуду, чем как к объемлющему месту. Но место предпочтительно должно
быть
неподвижным, поэтому место -- это скорее река, так как в целом она
неподвижна" (Аристотель 1981:132; 4,4,212а, 15--19).
Лодка, по мнению Аристотеля, может двигаться лишь в той мере, в какой
мы в состоянии определить для нее неподвижное место, некий невидимый
пространственный импринт, охватывающий ее хотя бы умозрительной пленкой
неподвижной поверхности. Пытаясь найти место для лодки, Аристотель
говорит о
"всей реке", не уточняя, впрочем, что имеется в виду -- вода ли, вода ли
с
берегами, берега. Не очень ясно и то, каким образом "вся река" может
быть
поверхностной границей лодки. Ясно, однако, одно -- лодка плывет по реке
потому, что река создает для нее неподвижного двойника-место.
Деформация реализует себя именно относительно места. Но и само понятие
места предполагает некую изначальную деформацию. Хайдеггер связал
понятие
места с понятием пристанища, в котором пребывает человек, в
котором он обретает бытие. В качестве примера пристанища он приводит,
однако, такое архитектурное сооружение, которое традиционно пристанищем
не
считается: мост.
"Он не просто соединяет берега, которые уже находятся здесь. Берега
возникают в качестве берегов только тогда, когда мост пересекает поток.
<...
> Одна сторона противопоставляется другой с помощью моста. Берега уже
больше
не тянутся вдоль потока как безразличные ограничительные полосы сухой
земли.
Вместе с берегами мост притягивает к реке просторы ландшафта, лежащего
за
ними. Он приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с другом.
Мост
собирает землю вокруг потока в
9
ландшафт. <... > Даже там, где мост покрывает поток, он поднимает его к
небу, вбирая его на мгновение под сводчатый пролет и затем вновь
выпуская
его на свободу" (Хайдеггер 1971: 152).
Это собирание пространств в целое, по мнению Хайдеггера, -- свойство
вещи. Вещь воплощает в себе некую собирательную природу,
собирательную энергию3. Она и создает место. Собирание пространства
вводит в него границы. Границы придают пространству бытие4.
"Соответственно,
пространства получают свое бытие от мест, а не от "пространства""
(Хайдеггер
1962: 154). Мост придает конкретность пространству, которое вокруг него
"собирается". Он придает этому пространству лицо, или, выражаясь иначе,
телесность. Эта телесность особого толка. Она выражается в
индивидуализации
пространства через место, она вписывает в пространство высоту и ширину,
интервалы, она делает его обитаемым для человека. Но эта
индивидуализация
пространства в месте как раз и похожа на импринт, на отпечаток вещи в
пространстве, на отпечаток, по-своему его деформирующий. Место
становится
слепком с человека, его маской, границей, в которой сам он обретает
бытие,
движется и меняется.
Человеческое тело также -- вещь. Оно также деформирует пространство
вокруг себя, придавая ему индивидуальность места. Человеческое тело
нуждается в локализации, в месте, в котором оно может себя разместить и
найти пристанище, в котором оно может пребывать. Как заметил Эдвард
Кейси,
"тело как таковое является посредником между моим сознанием места и
самим местом, передвигая меня между местами и вводя меня в интимные щели
каждого данного места" (Кейси 1993: 128).
Движение тела не только обживает место, вводит в него тело, но и
создает место, подобно тому как "движение" моста собирает ландшафт.
По-видимому, лабиринтные структуры древнегреческих храмов именно и
следует
понимать как способ интеграции тела человека в место. Убедительными
кажутся
выводы Винсента Скалли, утверждавшего, что ритуальный лабиринтный проход
через Кносский дворец и окружающие его пути есть одновременно и движение
через ландшафт, прямо ассоциируемый с телом богини. Лабиринтный ход --
это
превращение местности в ландшафт, в котором двурогая гора Jouctas играет
роль двурогой богини, ассоциируемой и с бы-
____________
3 Хайдеггер первоначально развивает свое понимание "места" как
окружения, насыщенного вещами и создающего близость, в "Бытии
и времени", в гл. 22. -- Хайдеггер 1962 135--136
4 Пиама Гайденко так определяет функцию границ у Аристотеля: "..
граница есть то основное определение, которое "держит в узде"
бесконечность,
делая ее из чего-то полностью неопределенного определенной величиной"
(Гайденко 1980 322-323).
10
ком. Ландшафт, образуемый лабиринтом, буквально вбирает в себя тело
богини, через которое и движется лабиринтный ход.
"Он вплел свои танцы лабиринта и рогов в большую полость охраняющей его
долины, одновременно являющейся богиней, и перед лицом насыпного холма,
который является ее обходительностью, и двурогой горы -- ее величия и
трона"
(Скалли 1969: 14).
Скалли показал, что развитие греческой архитектуры шло по пути
абстрагирования лабиринтных структур, исчезновения видимого лабиринта и
сохранения лишь потенциального. Тело постепенно приучалось
воспроизводить
обживание места путем проецирования схем, почти таким же образом, как
ребенок у Пиаже. Вот как Скалли характеризует, например, более поздний
вариант освоения "места" в храме на Самосе, известном под названием
"Лабиринт":
"Это был, однако, иной лабиринт, чем тот, который был создан критскими
дворцами. Теперь это было абстрактное место, рамка для движений
лабиринтного
танца. Таким образом, он провоцировал лабиринт, но не вел по нему, как
это
делал критский дворец. В результате лабиринт перестал быть направленным
потоком, но стал принципом действия, предполагавшего выбор и избирающего
путь, огибающий прочные, прерывающие движение стволы колонн" (Скалли
1969:
52--53). Лабиринт создает место, но постепенно само место становится
лабиринтным, оно теперь предполагает, вписывает определенный принцип
поведения в пребывающее в нем тело, оно деформирует его, но уже не
физической принудительностью единственно возможного пути. Место
становится
пронизанным невидимыми границами, где колонны лишь имитируют стволы
божественной рощи, но где нет видимого принудительного пути. Путь
предстает
лишь как граница, не имеющая материальности, но тем не менее оказывающая
формирующее (деформирующее) воздействие.
Не случайно, конечно, Скалли использует образ направленного потока--
тот же, который использовал Аристотель, а после него Леонардо. О
лабиринте
более подробно говорится в третьей главе книги, однако признаюсь
читателю,
что образы лабиринта и демона сопровождали меня с начала и до конца
работы
над книгой, так что в самой ее структуре, в самом характере ее
"повествования" лабиринтность и удвоение неизменно присутствуют. Сейчас
я
хочу еще раз остановиться на образе ручья и моста, но не
гейдельбергского,
описанного Хайдеггером, а иного, фигурирующего в знаменитом рассказе
Амброза
Бирса "Случай на мосту через Совиный ручей".
Рассказ начинается с описания приготовлений к казни отрядом
солдат-северян южанина Пейтона Фаркухара (Peyton Farquhar). Казнь через
повешение должна состояться на железнодорожном мосту в Северной Алабаме.
Рассказ Бирса строится на том, что момент
11
казни растягивается в сознании Фаркухара в длинную цепочку
галлюцинаций. Ему представляется, что веревка на его шее обрывается, что
он
падает в реку и спасается от казни, и даже в момент, когда веревка
переламывает его шейные позвонки, ему мерещится, что он возвращается
домой и
встречает свою жену.
Бирс дает детальное описание моста -- этой своеобразной машины казни и
последнего пристанища жертвы. Он останавливается на устройстве этой
машины
-- незакрепленных досках под ногами казнимого (через щели между досками
виден несущийся внизу поток воды), перекладине над его головой, к
которой
привязана веревка с петлей.
Бирс дает и тщательное описание расположения моста, соединяющего два
берега: один из них покрыт густым лесом, в котором исчезает петляющая
дорога, а второй в месте расположения моста имеет свободное
пространство.
Мост совершенно в согласии с Хайдеггером стягивает к себе ландшафт,
преобразуя его в систему сокрытия и экспонирования, своего рода театр, в
центре которого мост выступает в качестве сценических подмостков.
Машина казни имеет в структуре повествования особое значение. Построена
она следующим образом: сам мост создает некую горизонтальную тягу,
соединяя
берега и "уводя" пребывающее на нем тело в лес -- в невидимое. Внизу
река
задает иное направление горизонтального движения, ориентируя свою
динамическую энергию вдоль берегов. Казнь через повешение должна
совершаться
таким образом, чтобы тело падало с моста вниз и повисало под его
пролетом,
но не достигнув воды. Эта примитивная машина казни объединяет три
стихии:
землю, воду и воздух.
Казнь здесь четко задается как резкий переход из одной системы
пространственных тяг и скреп (системы мост-земля) в другую систему--
свободного полета и воздуха. Падение казнимого вниз, в пропасть, в
смерть
есть одновременно и его, используя выражение Жиля Делеза и Феликса
Гваттари,
"детерриториализация" -- решительное изгнание из места. Жизнь в таком
контексте может пониматься именно как пристанище, смерть -- как лишение
места. Падение тела оказывается не просто способом физического
умерщвления,
но и способом выталкивания из места. Николь Лоро показала, что в
древнегреческой трагедии самоубийство героинь через повешение -- aiora
--
ассоциируется с полетом птицы и освобождением, бегством (Лоро 1987:
17--20).
Падение Фаркухара с моста делает невозможным его движение по лесной
дороге
(жизни). Но сам момент падения, парадоксально выбивая Фаркухара из
"места",
предназначенного для живых, открывает для него некое новое измерение.
Фаркухар попадает под мост, где силовые поля места трансформируются.
Помните, у Хайдеггера: "... там, где мост покрывает по-
12
ток, он поднимает его к небу, забирая его на мгновение под сводчатый
пролет и затем вновь выпуская его на свободу". Свод моста деформирует
"место" реки, как бы поднимая ее вверх и затем вновь освобождая ее. Там,
где
мост пересекает поток, тот перестает разделять берега, перестает
функционировать как указание на их фундаментальную несводимость к некому
целому. Вода под мостом как будто испытывает два типа динамического
воздействия, одно стремительно толкает ее вперед, делая берега
несоединимыми, а второе как будто замедляет течение под напором некой
тяги,
действующей перпендикулярно ее течению и соединяющей берега.
Фаркухар смотрит на воду сверху сквозь щели у него под ногами:
"... Потом он позволил взгляду побродить по кружащейся в водоворотах
воде течения, бешено несшегося у него под ногами. Кусок танцующей
древесины
привлек к себе его внимание, и он проследил за ним вниз по течению. Как
медленно он, казалось, двигался!" (Бирс 1956:
88).
Падая вниз, Фаркухар переходит из одного "места" в другое и оказывается
как раз в той "магической точке", где динамический импульс собирания
взаимодействует с пучком иных сил, организующих иное "место".
Галлюцинация Фаркухара вызывается тем, что сам он воплощает ту силу
(силу падающего тела), которая позволяет ему на мгновение как бы
совпасть с
динамическими потоками, организующими переход из "места" в "место". Все
его
тело становится, подобно мосту или реке, не просто пребывающим в
пристанище,
но именно стягивающим, растягивающим, деформирующим импульсом, который и
позволяет ему "стать" рекой, воздухом, лесом, перестать быть
пребывающим телом. Смерть Фаркухара описана именно как динамический
вихрь, как взаимодействие энергий и сил:
"Острые, пронизывающие боли, казалось, стрельнули из его шеи вниз через
каждый фибр его тела и членов. Эти боли, казалось, вспыхивали вдоль ясно
обозначенных линий разветвлений и били с невероятно быстрой
периодичностью.
Они казались подобными потокам пульсирующего огня, нагревающего его до
невыносимой температуры. Что же касается его головы, он не сознавал
ничего,
кроме чувства наполненности, переполненности" (Бирс 1956:91).
Фаркухар преображается в тело, напоминающее реку. Боли бегут по неким
линиям тела и его разветвлениям, как по руслам, они бьются с
периодичностью
волны. Голова его наполняется, переполняется. И именно динамическое
абстрагирование тела и позволяет ему пережить казнь как галлюцинаторное
погружение в поду Бирс чрезвычайно подробен в своих описаниях
галлюцинации
воды.
13
Фаркухар, например, "почувствовал волны на своем лице и услышал
отдельные звуки их ударов" (Бирс 1956: 93). Но эти звуки лишь повторяют
извне периодическую пульсацию боли, ощущаемую им первоначально изнутри.
Это превращение внутреннего во внешнее, а внешнего во внутреннее,
превращение по существу и являющееся обменом между человеком и местом,
завершается погружением Фаркухара в водоворот, в котором он претерпевает
последнюю динамическую метаморфозу, как бы вообще лишающую его
автономного
тела:
"Вдруг он почувствовал, как его завертело вокруг и вокруг, и он стал
вращаться как волчок. Вода, берега, леса, теперь уже далекий мост, форт
и
люди -- все смешалось и смазалось. Предметы были представлены лишь их
цветами; круговые горизонтальные полосы цвета -- вот все, что он видел.
Он
попал в водоворот и несся вперед и вращался с такой скоростью, что
испытывал
головокружение и тошноту" (Бирс 1956: 96).
Телесная метаморфоза, развоплощение персонажа и его отделение от
первоначального места и первоначального времени происходит в этом
пароксизме
вращения, которое напоминает машину. Здесь буквально возникает иное,
нематериальное тело, которое может двигаться по некой иной временной
оси.
Это возникновение, рождение нового тела перекликается с впечатлением
Леонардо, зарегистрированным в его записях. Леонардо утверждал, что
однажды
видел над водой столб взвихренного ветра, образовавший на поверхности
воды
водоворот, а в воздухе симулякр человека (Леонардо 1954: 765).
Любопытно,
конечно, что сам момент этого магического развоплощения, этой высшей
"деформации" описывается через оппозицию движущегося глаза и неподвижных
объектов вокруг, которые постепенно теряют материальность, как бы
растекаясь
вокруг вращающегося тела цветовыми полосами -- поверхностями. При этом
то,
что первоначально задается как движение, -- мелькание неподвижных
объектов
на берегу-- постепенно перерастает в неподвижность -- мираж
горизонтальной
круговой ленты. Время парадоксальным образом останавливается как раз в
центре бешено вращающегося водоворота.
Фаркухар не просто погибает, трансформируется, он и возрождается. Вода
выбрана для этого не случайно. Она -- мифологическая стихия смерти и
рождения. А как показали психоаналитические исследования, погружение в
воду
может пониматься как возвращение в материнское лоно -- то есть как
исчезновение, смерть и рождение одновременно.
Шандор Ференци совершенно однозначно связывает мотив спасения из воды
или плавания в воде с репрезентацией рождения или совокупления (Ференци
1938: 48). С темой рождения, конечно, связана и распространенная
ассоциация
женского тела с водой (Теве-
14
ляйт 1987). В рассказе Бирса, разумеется, не трудно обнаружить
традиционную для психоанализа связь между смертью, оргазмом и
возрождением.
Меня же в данном случае, однако, интересует не эта устойчивая
символическая
связь, а нечто противоположное. Превращение места, динамическая
трансформация самого процесса собирания, производимая бирсовской
"машиной казни", позволяет остановить время, вводит тело в такие
отношения с
пространством, которые можно описать как выпадение из "места",
растворение в
потоке и удвоение -- тело как бы отделяется от самого себя и начинает
существовать в ином пространстве-времени.
Время, конечно, играет в рассказе Бирса принципиальную роль. Его мотив
вводится и усиленным до неузнаваемости звуком тикающих часов, и вторящим
ему
ритмическим биением волн. Да и сама река, разумеется, является
традиционной
метафорой временного потока. Падение Фаркухара не только меняет
взаимоотношение "мест", но и останавливает движение времени. Оно
вторгается
в поток, в непрерывность мощным толчком, разрывом. Оно выделяет момент,
мгновение, остановку в движении времени.
Бодлер в эссе "О сущности смеха" ("De l'essence du rire") анализирует
ситуацию человека, который падает на улице, а через мгновение начинает
смеяться над самим собой, над собственной неловкостью:
"Человек, смеющийся над собственным падением, -- совсем не тот, кто
падает, если конечно, он не является философом и не приобрел привычное
умение быстро удваиваться и присутствовать в качестве
незаинтересованного
зрителя при проявлении его собственного Я" (Бодлер 1962: 251).
Падение действует, "удваивая" человека, позволяя ему занять по
отношению к самому себе внешнюю позицию наблюдателя. Поль де Ман
подчеркивает, что у Бодлера "разделение субъекта в множественности
сознаний
имеет место в непосредственной связи с падением" (Де Ман 1983: 213).
Сартр
заметил по поводу эпилептического припадка (имитации смерти) и падения,
пережитых Флобером в 1844 году:
"В момент, когда Флобер обрушивается на пол экипажа, он находится в
ином месте, в мысль его вторгается фантасмагория, дистанцирующая его от
настоящей реальности: он становится всецело воображаемым" (Сартр
1991:66).
Сартр указывает, что падение производит во Флобере своего рода
психическую диссоциацию, отделение от себя самого. И это раздвоение в
падении связано с тем, что в падении Флобер превратился в пассивную
массу,
как бы отделенную от собственной воли и отчужденную вовне. Сартр пишет о
проявившемся в падении
15
"желании упасть, стать единым с землей или водой, с изначальной
пассивностью материи, с минеральностью..." (Сартр 1991:86).
Падение оказывается толчком вспять, к инертной материи еще до
органической жизни. Падение как будто останавливает время, позволяет ему
двигаться назад, оно создает ту самую фикцию мгновения (как
остановленного
времени), в котором два "Я", принадлежащие к разным временным пластам,
как
будто встречаются. Речь идет о преодолении времени в неком движении
вспять,
которое есть нечто иное, как повторение (см. Мельберг 1980).
Падение у Бодлера работает как смех, позволяющий субъекту
раздваиваться:
"Смех -- это выражение двойного или противоречивого чувства; вот почему
возникает конвульсия" (Бодлер 1962:253).
Конвульсия в данном случае оказывается знаком остановки, разрыва в
непрерывности, мгновения, повторения. Становление "Я" как будто
прерывается
падением, и этот перерыв выражается в конвульсии как неком знаке насилия
над
телом, к которому приложены силы, "останавливающие" время.
Падение Фаркухара описывается именно как останавливающее время.
Вращения водоворотов, в которые он попадает в своем воображении, лишь
выражают неожиданное преодоление линейности, поворот времени вспять. И
действительно, в последнем предсмертном видении герою чудится, что он
возвращается в свой дом и видит свою жену. Речь идет о воспоминаниях,
приобретающих остроту восприятия. В одной из своих ранних статей
"Криптомнезия" (Cryptomnesia) Карл Густав Юнг заметил, что воспоминания,
погребенные в Бессознательном, могут всплыть в сознании либо под шоковым
воздействием скорости, разрушающей автоматизмы сознания, либо в момент
предсмертной дезинтеграции последнего:
"Когда мозг умирает и сознание распадается <...> фрагментарные
воспоминания могут воспроизводиться с массой предсмертного мусора. То же
самое происходит и при безумии. Я недавно наблюдал случай навязчивого
говорения у слабоумной девочки. Она без умолку часами говорила о всех
тех,
кто за ее жизнь следил за ней, в том числе и об их семьях, детях,
расположении их комнат, описывая все подряд до самой невероятной детали
--
потрясающее действо, по-видимому неподвластное волевому припоминанию"
(Юнг
1970:105).
У Бирса это возвращение во времени назад, это повторение, это
превращение внутреннего (воспоминаний) во внешнее (восприятие) включены
в
функционирование конструкции и в пространственном смысле сводятся к
"смене места". Метаморфозы производятся динамикой тела внутри
конструкции. Я
называю такую кон-
16
струкцию "машиной" и говорю о сочетании моста, берегов, реки и тела как
о некой "машине казни", воздействующей на телесность (подробному анализу
работы "машины казни" будет посвящено специальное исследование, над
которым
я работаю).
Речь идет о процессах, которые я отношу к сфере деформации.
Процессы эти прежде всего фиксируются в чисто телесных изменениях, в
деформациях в самом прямом физическом смысле. Тело падает, вытягивается,
сквозь него проходят потоки энергии и ее пульсации, тело обрушивается в
воду, приводится во вращение, "растворяется" в воде, неподвижные
предметы
"смазываются" и т. д. Следы этих силовых воздействий можно описать как
диаграммы.
Описание этих следов и их анализ занимает значительное место в этой
книге. Я не намеревался создать какую-либо стройную все-объясняющую
теорию.
Я давно отказался от поиска подобных фантомов. При этом, не стремясь к
систематичности, я не старался избегать теоретизирования. Впрочем, под
этим
словом я понимаю сегодня фрагментарную рефлексию.
Книга писалась в разное время и в разных странах. Начата она была в
России, а завершена в США, где сделана большая ее часть. Первые варианты
большинства глав публиковались в виде статей в периодике. Правда, для
книги
все главы были переработаны, а некоторые переписаны почти до
неузнаваемости.
В соответствии с принятым ритуалом, укажу на место их первоначальных
публикаций.
Глава третья: Труды по знаковым системам, вып. 25, Тарту, 1992.
Глава четвертая: "Новое литературное обозрение", No 7, 1994;
сильно сокращенный английский вариант: "New Formations", 22, 1994.
Глава пятая: "Киноведческие записки", No 15, 1992; английский
вариант: "October", 64,1993.
Глава шестая: Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Москва --
Рига, 1994.
Глава седьмая: "Киносценарии", No 5, 1991; английский вариант:
"The Drama Review", 143, 1994; французский вариант в книге:
Vers une theorie de 1'acteur. Colloque Lev Koulechov. Sous la direction
de Francois Albera. Lausanne, 1994.
Глава восьмая: "Киноведческие записки", No 20,1993/1994.
Считаю своим приятным долгом поблагодарить тех людей, которые оказывали
мне помощь или поддерживали, как говорится, морально. В последние годы я
был
связан в России в основном с группами единомышленников, собравшихся
вокруг
нескольких изданий. Первое -- журнал "Киноведческие записки", с
которым меня связывает многолетнее сотрудничество в мою бытность
киноведом.
Тем, кто издает этот журнал, я многим обязан. На его страницах
опубликованы
первые варианты двух глав этой книги. "Киноведче-
17
ские записки" выпустили в свет мою первую монографию "Видимый мир", где
речь шла о репрезентации тела. Особую благодарность я выражаю Александру
Трошину, Нине Дымшиц, Ирине Шиловой, Нине Цыркун. Вторая группа --
московские философы, с которыми мы затеяли в Москве серию книг "Ad
Marginem". Моя вторая книга "Память Тиресия" была издана в этой серии.
Для "Ad Marginem" я готовлю сейчас дилогию "Физиология
символического". Три человека постоянно поддерживали меня в моей работе.
Это
Валерий Подорога, общение с которым было чрезвычайно стимулирующим
интеллектуальным фактором, Лена Петровская и Саша Иванов. Всем им я
выражаю
глубокую благодарность. Третья группа, с которой я нахожусь в постоянном
контакте, сосредоточена вокруг журнала "Новое литературное
обозрение". Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить главного редактора
этого журнала и друга Ирину Прохорову. Особая благодарность первому
читателю
этой книги и ее редактору Сергею Зенкину. Последние несколько лет я
преподаю
в Нью-йоркском университете. Многое из того, что вошло в книгу,
обсуждалось
с группой аспирантов этого университета, которым я многим обязан,
которых
люблю, но перечислять которых поименно было бы слишком долго. И,
наконец, я
должен выразить свою благодарность персоналу и администрации Центра
гуманитарных исследований Поля Гетти в Лос-Анджелесе, создавших
превосходные
условия для работы над шестой главой книги. Работа над книгой связана
для
меня с радостным событием -- рождением дочери Анны, которой я и посвящаю
эту
книгу.
Глава 1 КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
1. Тело как зеркало сказа
Борис Эйхенбаум начинает свою статью "Как сделана "Шинель" Гоголя" с
описания того, как читал свои произведения сам Гоголь -- декламационно,
особенно подчеркивая ритм, интонацию, жест. Описание гоголевской
писательской декламации позволяет Эйхенбауму сделать вывод,
принципиальный
для общего понимания гоголевского творчества: данный тип повествования
является "сказом":
"...Сказ этот имеет тенденцию не просто повествовать, не просто
говорить, но мимически и артикуляционно воспроизводить -- слова и
предложения выбираются и сцепляются не по принципу только логической
речи, а
больше по принципу речи выразительной, в которой особенная роль
принадлежит
артикуляции, мимике, звуковым жестам и т. д. < ...> Кроме того, его речь
часто сопровождается жестами <...> и переходит в воспроизведение, что
заметно и в письменной ее форме" (Эйхенбаум 1969:
309. -- Выделено мною).
Эйхенбаум определяет гоголевский сказ как "мимико-декламационный"
(Эйхенбаум 1969: 319), подчеркивает второстепенное значение "анекдота"
для
Гоголя. Миметизм текста направлен совсем в иную сторону. Правда, в
цитированном фрагменте Эйхенбаум сохраняет подчеркнутую неопределенность
по
поводу отмечаемой им миметической функции: текст "имеет тенденцию
мимически
и артикуляционно воспроизводить", речь "переходит в воспроизведение"...
Что,
собственно, имеется в виду? Эйхенбаум выражается с намеренным нарушением
принятых в русском языке норм:
воспроизводить -- что? в воспроизведение -- чего? На эти вопросы он не
дает прямого ответа.
И все же понятно, что текст Гоголя в своих жестах, ужимках, гримасах
имитирует ситуацию собственного производства, причем не как письменного,
но
как устного текста1. Эйхенбаум вынужден ввести в описываемую им ситуацию
образ автора как актера: "...не сказитель, а исполнитель, почти
комедиант
скрывается за печатным
_____________
1 Методологические последствия такого фоноцентризма рассмотрены в
статье: Липецкий 1993.
19
текстом "Шинели"" (Эйхенбаум 1969: 319). Поправка здесь весьма
характерна -- не просто исполнитель, а "комедиант", со всеми вытекающими
отсюда ужимками:
"Личный тон, со всеми приемами гоголевского сказа, определенно
внедряется в повесть и принимает характер гротескной ужимки или гримасы"
(Эйхенбаум 1969:320).
Или в ином месте: "Получается нечто вроде приема "сценической
иллюзии"..." (Эйхенбаум 1969: 320)
Неопределенность эйхенбаумовского "воспроизведения" объясняется
парадоксальностью ситуации "мимико-декламационного сказа". Материя сказа
с
ее интонационной возбужденностью, "звуковыми жестами" и маньеристской
орнаментальностью является зеркалом, в котором отражается "физика"
самого
сказителя, его телесность в самом непосредственном смысле этого слова.
При
этом сказитель особенно ничего и не рассказывает, история его не
интересует.
Он как бы стоит на некой невидимой сцене, и тело его движется, мимирует.
Он
-- комедиант, не производящий ничего, кроме комедиантства. Он напоминает
мима Малларме, который, по выражению Жака Деррида, "мимирует
референтность.
Это не имитатор, он мимирует имитацию" (Деррида 1972: 270).
В этом смысле воображаемое тело "исполнителя" -- не выразительное тело,
оно ничего определенного не выражает, оно просто вздрагивает, колышется,
дергается2. Тела гоголевских персонажей ведут себя сходно с воображаемым
телом мимирующего исполнителя-автора. Они как бы зеркально воспроизводят
его.
Валерий Подорога утверждает, например, что процесс чтения вообще может
быть сведен к бессознательному мимированию, к телесному поведению,
доставляющему читателю почти физиологическое удовольствие. Чтение
понимается
им как телесное перевоплощение:
"Мы читаем, пока испытываем удовольствие. Мы продолжаем читать не
потому, что все лучше и лучше понимаем (скорее мы в момент чтения вообще
ничего не
__________
2 Псевдо-Лонгин утверждал, что конвульсивный строй речи с явной
нарушенностью "нормального" развертывания может имитировать смерть или
ужас,
то есть явление или аффект, в значительной степени выходящие за пределы
репрезентируемого. "Возвышенное" (непредставимое) в данном случае вообще
отчасти снимает проблему референции. Конвульсивность слога отсылает к
непредставимому: "В словах "из-под смерти" он [Гомер] соединил обычно
несочетаемые предлоги различного происхождения и, нарушив привычный ритм
стиха, словно скомкав его под влиянием неожиданного бедствия, извлек на
поверхность самое бедствие, а весь ужас опасности отчеканил и запечатлел
неожиданный оборот "уплывать из-под смерти"". -- О возвышенном 1966: 25.
Гомер в данном примере прибег к слиянию Двух предлогов hupo и
ek в выражение "hupek tanatoio" -- "из-под смерти" в переводе
Чистяковой. Анализ этого фрагмента из Псевдо-Лонгина см. Деги 1984:
208--209.
20
понимаем), а потому, что наша ограниченная телесная мерность
вовлекается в текстовую реальность и начинает развиваться по иным
законам,
мы получаем, пускай на один миг, другую реальность и другое тело (вкус,
запах, движение, жест). Удовольствие зависит от этих перевоплощений, от
переживания движения в пространствах нам немерных <...>. Читаемый текст
--
это своего рода телесная партитура, и мы извлекаем с ее помощью музыку
перевоплощения..." (Подорога 1993:141)
Если понимать процесс чтения как "психомиметический процесс" (выражение
Подороги), то текст может быть почти без остатка сведен именно к статусу
"телесной партитуры". Подорога так описывает работу текста Достоевского
(хотя, без сомнения, эту характеристику можно отнести и к Гоголю):
"...Достоевский в своих описаниях движения персонажей не видит, что он
сам описывает, он только показывает, что эмоция "любопытство"
определяется
некоторой скоростью перемещения тела Лебедева в пространстве, ею же
создаваемом, именно она сцепляет ряд глагольных форм, которые, будучи
неадекватны никакому реальному движению тела, тем не менее создают
психомиметический эффект переживания тела, захваченного навязчивым
стремлением вызвать в Другом встречное движение и тем самым снять
эмоциональное напряжение психомиметическим событием" (Подорога 1994:
88).
Действия персонажей, по мнению Подороги, только усиливают миметический
эффект письма, глагольных форм, синтаксических конструкций. В мире,
описываемом Подорогой, действуют скорости. Писатель торопится писать,
персонаж спешит, потому что заряжен динамическим импульсом самого
письма, да
и нужен автору только для того, чтобы динамизировать форму, читатель
резонирует в такт этим скоростям и напряжениям.
В результате фундаментальный "активный слой" текста существует до
понимания, помимо понимания. Более того, он действует тем сильней, чем
ниже
уровень понимания, тормозящего действие внутритекстовых скоростей. Но
даже
если принимать с оговорками разработанную Подорогой картину текстового
миметизма, нельзя не согласиться с тем, что миметизм принципиально
противоположен пониманию и располагается в плоскости телесности и
физиологии. Именно это и делает его "автореферентным". Тело лишь
резонирует
в такт себе самому.
Впрочем, можно рассматривать психомиметический процесс не столько как
противоположный пониманию, сколько как некий "регрессивный" процесс,
пробуждающий некий иной архаический тип понимания, названный, например,
немецким психологом Хайнцем Вернером "физиогномическим восприятием". По
мнению Вернера,
21
на ранних этапах развития психики взаимодействие между субъектом и
объектом принимает динамическую форму. Движущийся объект вызывает на
этой
стадии прежде всего моторно-аффективную реакцию, ответственную за
интеграцию
субъекта в окружающую среду. Но сама эта среда в таком контексте
понимается
как нечто динамическое и пронизанное своего рода "мелодикой" Вернер
пишет:
"Подобная динамизация вещей, основанная на том, что объекты в основном
понимаются через моторное и аффективное поведение субъекта, может
привести к
определенному типу восприятия. Вещи, воспринимаемые таким образом, могут
казаться "одушевленными" и даже, будучи в действительности лишенными
жизни,
выражать некую внутреннюю форму жизни" (Вернер 1948: 69). Незатухающая
динамика таких объектов -- а к ним могут относиться и тела литературных
персонажей -- придает этим объектам странную амбивалентность:
"одушевленность" здесь всегда просвечивает через механическую
мертвенность
чистой моторики. К Гоголю это относится в полной мере.
Юрий Манн, рассматривая образы гоголевской телесности, обратил внимание
на некоторые повторяющиеся стереотипные ситуации -- прежде всего
пристальное
внимание Гоголя к сценам сна и могучего гиперболического храпа, а также
к
сценам еды. Манн приводит характерное описание сна Петра Петровича
Петуха из
второго тома "Мертвых душ":
"Хозяин, как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул.
Тучная собственность его, превратившись в кузнечный мех, стала издавать,
через открытый рот и носовые продухи, такие звуки, какие редко приходят
в
голову и нового сочинителя: и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый
гул,
точный собачий лай" (Манн 1988: 151; Гоголь 1953, т. 5: 312).
Петух в данном случае являет такое же тело, как тело комедиантствующего
автора Он совершенно бессознателен, в его поведении нет никакой
экспрессивности, потому что ему нечего выражать, он чистая физиология,
сведенная к механике ("кузнечный мех"). Это механическое тело как будто
что-то имитирует -- музыкальные инструменты, собачий лай, -- но
имитатором
оно не является. Тело Петуха имитирует референциальность, в
действительности, конечно, не отсылая ни к собачьему лаю, ни к барабану
и
флейте. Еда и связанные с ней физиологические ужимки также не
экспрессивны
Мы имеем дело не со знаками, отсылающими к какому-то внутреннему
"содержанию", но с телесными знаками, отсылающими к самой же физиологии
и
механике тела. Речь, по существу, идет о регрессии таких тел на чисто
моторный, бессознательный уровень поведения, пробуждающий у читателя
"физиогномические восприя-
22
тие" и создающий эффект одушевленности и неодушевленности одновременно.
Звуковое минирование в данном случае превращается в нечто механическое,
внешне-телесное. В пределе даже воображаемое тело рассказчика может
превратиться в машину. Гоголь, возникающий из конвульсий его сказа, --
это
по существу "машина-Гоголь" с программой своих уверток, с ограниченным
репертуаром телесной механики3. Показательно поэтому, что, по мнению
Эйхенбаума, его персонажи говорят языком, "которым могли бы говорить
марионетки"(Эйхенбаум 1969: 317). Машина исполнителя отражается в
машинах
персонажей.
Когда Эйхенбаум определяет Гоголя как "исполнителя", а не как автора,
он как будто предполагает, что писатель воспроизводит некий
предсуществующий
текст, а не создает новый. Такая ситуация имеет смысл лишь в контексте
телесного машинизма как генератора текста. Действительно, несмотря на
сложный конгломерат движений, включенных в телесные содрогания Петуха,
они
следуют механике "кузнечного меха", то есть воспроизводятся без
изменений в
каждом новом цикле. Движение Петуха, несмотря на всю его кажущуюся
изощренность, в действительности зафиксировано в некой неотвратимой,
почти
статической повторяемости.
Этим "машинизмом" объясняется и частый упрек в мертвенности гоголевских
персонажей, которые "ничего не выражают". Процитирую известное
наблюдение
Василия Розанова, буквально формулирующее поэтику Гоголя в терминах
"физиогномического восприятия":
"Он был гениальный живописец внешних форм, и изображению их, к чему
одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность,
почти
скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего в
сущности
не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их" (Розанов
1989:
50)4.
Замечание Розанова любопытно тем, что ставит знак равенства между
жизненностью и скульптурностью, между крайней степенью правдоподобия и
отчужденностью движения в камне.
Георг Зиммель, анализируя творчество Родена как скульптора
"становящейся" телесности, так описывал процесс его работы:
____________
3 Томмазо Ландольфи в рассказе "Жена Гоголя" придумал загадочную жену
русского писателя -- в виде резиновой куклы, вернее надувного шара,
которому
он придал форму, полностью отвечавшую его желанию -- Ландольфи 1963.
Фантазия Ландольфи может быть отчасти отнесена и к телу самого Гоголя,
увиденного в эйхенбаумовской перспективе
4 Андрей Белый идет еще дальше. "И самый страшный, за сердце хватающий
смех, звучащий, будто смех с погоста, и все же тревожащий нас, будто и
мы
мертвецы, -- смех мертвеца, смех Гоголя!" -- Белый 1994 361
23
"Роден утверждает, что он привык разрешать натурщикам принимать позы по
их собственному капризу. Неожиданно его внимание сосредоточивается на
особом
повороте или выверте члена, неком изгибе бедра, сгибе руки или растворе
сустава. И он фиксирует в глине только это движение этой анатомической
части, не лепя всего остального тела. Затем, часто через большой
промежуток
времени, перед ним начинает вырисовываться некая глубинная интуиция
всего
тела. Он видит его в характерной позе и мгновенно и твердо знает, какой
из
возможных многочисленных этюдов пригоден для него" (Зиммель 1980:129).
Роден как будто исходит из абсолютного правдоподобия, он не навязывает
своей воли натурщикам, а следует их капризу. Однако затем
зафиксированная им
натуралистическая деталь отрывается от тела, автономизируется и
помещается в
совершенно иной телесный контекст. Это новое тело, данное Родену в
интуиции,
интересно тем, что оно позволяет окончательно интегрировать
анатомический
фрагмент в некую иную ситуацию. "Выверт члена" находит для себя такое
тело,
которое придает капризу этого выверта все черты закономерности.
Гоголь, конечно, работает в ином материале. Но "выверты членов" его
персонажей, совершенно, казалось бы, автономные и почти марионеточные,
приобретают черты закономерности от их механической повторности.
Скульптурность Гоголя -- это также включение странной, но жизнеподобной
анатомической детали в структуру телесной машины.
Существенным следствием автомимесиса, "автореференции" является
парадоксальное снятие эйхенбаумовского фоноцентризма. Эйхенбаум считал,
что
фонетическая, звучащая речь предшествует письменной, что она является
перворечью гоголевского текста, задающей всю его смысловую структуру. В
действительности же звуковой жест, интонация лишь вписаны в моторику
письменного текста и отсылают не столько к звучащему слову, сколько к
мимической моторике "исполнителя". Если представить себе процесс
генерации
гоголевского текста по Эйхенбауму, то вначале мы будем иметь
кривляющегося
комедианта, чьи ужимки каким-то образом отражаются в интонации его речи,
чтобы затем зафиксироваться в неровностях и конвульсиях письма и в конце
концов преобразиться в марионеточное подергивание персонажей. Первичным
во
всей этой сложной миметической цепочке, транслирующей и перекодирующей
телесную моторику "исполнителя", будет немая гримаса, передергом своим
обозначающая иллюзию референциальности. Звучащая речь здесь -- не более
как
один из этапов миметической трансляции.
Гоголь, между прочим, в "Шинели" поместил сцену мимирова-
24
ния Башмачкина, переписывающего доверенный ему документ. Гоголь как
будто наделяет Башмачкина миметической чувствительностью к извивам
письма,
вовсе не предполагающим наличия звукового слоя:
"Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и
приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него
были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой:
и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его,
казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его"
(Гоголь 1952, т. 3:132)5. Подобная мимическая соотнесенность с
письменным
текстом позволила Андрею Синявскому увидеть в этой сцене описание
творчества
самого Гоголя, склонившегося над бумагой так, чтобы "трепет и мимика"
склоненного над бумагой лица оживляли воображаемый мир, отражаясь в нем:
"Склоненный над рукописью автор, как верховное божество творимого
из-под пера его микромира, вступает в таинственную игру с оживающими
фигурами, сплошь состоящую из шутливого подбадривания и подтрунивания и
воспроизводящую на бумаге священное лицедейство создателя, его
мимическую
активность, отраженную в зеркале текста. Авторские переживания в этом
процессе миротворения напоминают часы переписывания у Акакия Акакиевича.
Представим на минуту, что буквы, которые тот вдохновенно выводит, суть
герои
и события сцены, -- и мы получим подобие Гоголя, подобие Бога,
создающего
свет раскатами благодатного смеха" (Терц 1992:84).
Синявский буквально видит отражение в тексте мимической игры
склоненного над ним лица Гоголя. Правда, его сравнение с Акакием
Акакиевичем
выглядит несколько натянутым, хотя бы потому, что Башмачкин совершенно
не
похож на творящего Бога. Он действует исключительно как машина и
оказывается
даже неспособным "переменить заглавный титул да переменить кое-где
глаголы
из первого лица в третье" (Гоголь 1952, т. 3: 132) Его мимические
реакции
возникают вне всякого смысла, как чисто рефлекторные конвульсии, когда
он
"добирался" до "некоторых букв".
Сравнение Гоголя с Башмачкиным может быть справедливым только в одном
случае: если предположить, что Бог действует через
_________
5 Этот эпизод "Шинели", вероятно, как-то соотнесен с собственной
страстью Гоголя к каллиграфическому переписыванию А Т Тарасенков
вспоминал
"Гоголь любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он
иногда переписывал и то, что можно было иметь печатное У него были целые
тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукой были написаны
большие
выдержки из разных сочинений" -- Тарасенков 1952 513
25
тело Гоголя как через автомат, что писатель лишь корчится как
марионетка под воздействием высших сил, что он не творит, но
действительно
"переписывает" некий предсуществующий текст. В таком случае тело
писателя
удваивается неким сократовским демоном. Мне еще предстоит вернуться к
удвоению мимирующего тела, пока лишь констатирую эту странную и не
затрагивающую сознания миметическую реактивность, которой сам Гоголь,
по-видимому, придавал особое значение.
Идею гоголевского раздвоения высказал в статьях о "Мертвых душах" 1842
года С. П. Шевырев:
"Смех принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом,
может забирать в свои владения весь грубый скарб низменной природы
смешного;
но грусть его принадлежит в нем человеку. Как будто два существа
виднеются
нам из его романа: Поэт, увлекающий нас своей ясновидящею и причудливою
фантазиею, веселящий неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит
все
низкое в мире, -- и человек, плачущий и глубоко чувствующий иное в душе
своей в то самое время, как смеется художник. Таким образом в Гоголе
видим
мы существо двойное, или раздвоившееся; поэзия его не цельная, не
единичная,
а двойная, распадшаяся" (Шевырев 1982:56).
Анализ Шевырева произвел сильное впечатление на Гоголя и вполне совпал
с собственным самоощущением писателя6. Гоголь целиком приемлет
определение
себя как "двойного существа"7.
Раздвоение отражается и в гоголевской концепции двух типов смеха,
связанных с разными типами миметизма и телесного поведения. Еще за шесть
лет
до статьи Шевырева, в "Петербургских записках 1836 года" Гоголь
теоретизировал по поводу двух видов смеха -- "высшего", просветляющего,
и
"низшего":
___________
6 Гоголь реагирует на статьи Шевырева необычайно патетически. Он пишет
ему 18 февраля 1843 года. "Не могу и не в силах я тебе изъяснить этого
чувства, скажу только, что за ним всегда следовала молитва, молитва,
полная
глубоких благодарностей богу, молитва вся из слез. И виновником их не
раз
был ты И не столько самое проразуменье твое сил моих как художника,
которые
ты взвесил эстетическим чутьем своим, как совпаденье душою, предслышанье
и
предчувствие того, что слышит душа моя Выше такого чувства я не знаю,
его
произвел ты Следы этого везде слышны во 2-й статье твоего разбора
"Мертвых
душ", который я уже прочел несколько раз" (Гоголь 1988, т. 2. 294--295).
7 Общим местом стало понимание гоголевских персонажей как воплощений
"собственных гадостей" писателя, как бы зеркальных отражений низменного
в
нем самом При этом сам Гоголь указывал, что изживает в персонажах
низменное
в себе, таким образом производя себя "высокого". См. Жолковский 1994:
70--77. Переход Гоголя из низменного в возвышенное, таким образом, весь
осуществляется через раздвоение, составляющее характерную черту
гоголевского
мира См Фенгер 1979: 236.
26
"...Комедия строго обдуманная, производящая глубокостью своей иронии
смех, -- не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою
остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпой
общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы,
но
тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно,
свободно
и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума,
рождается
из спокойного наслаждения и производится только высоким умом" (Гоголь
1953,
т. 6:111).
Высший смех здесь определяется Гоголем через странный оксюморон. Он
"исторгается невольно" и "свободно", при этом он рождается "из
спокойного наслаждения". В этой формуле очевидны разные ее истоки.
"Спокойное наслаждение" и "высокий ум", вероятно, восходят к
шиллеровскому
определению комедии, задача которой -- "зарождать и питать в нас <...>
душевную свободу" (Шиллер 1957:418--419).
Идея же "живительного", "электрического" смеха, который "исторгается
невольно и неожиданно", восходит к Канту. Согласно Канту, "смех есть
аффект
от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто" (Кант 1966:
352).
Когда некое напряжение разряжается в ничто, на смену напряжению приходит
расслабление, которое выражается и в телесной конвульсии. Кант
настаивает на
целительности таких телесных содроганий:
"В самом деле, если допустить, что со всеми нашими мыслями гармонически
связано и некоторое движение в органах тела, то нетрудно будет понять,
каким
образом указанному внезапному приведению души то к одной, то к другой
точке
зрения для рассмотрения своего предмета могут соответствовать
сменяющиеся
напряжения и расслабление упругих частей наших внутренних органов,
которое
передается и диафрагме (подобное тому, какое чувствуют те, кто боится
щекотки); при этом легкие выталкивают воздух быстро следующими друг за
другом толчками и таким образом вызывают полезное для здоровья движение;
и
именно оно, а не то, что происходит в душе, и есть, собственно, причина
удовольствия от мысли, которая в сущности ничего не представляет" (Кант
1966:
353-354).
Таким образом, "живительный" смех у Канта совершенно противостоит идее
свободы, он действует помимо воли человека и именно через те конвульсии,
которые Гоголь относил к сфере "низменного смеха". Оппозиция между
свободным
и принудительным, спокойным, светлым и мучительно-конвульсивным,
становится
существенной для гоголевского творчества и его интерпретации критикой.
Иван
Сергеевич Аксаков в некрологе Гоголю буквально опи-
27
сывает писателя как своеобразную машину по трансформации конвульсивного
в созерцательное и спокойное:
"Пусть представят они себе этот страшный, мучительный процесс
творчества, прелагавший слезы в смех, и лирический жар любви и той
высокой мысли, во имя которой трудился он, -- в спокойное,
юмористическое
созерцание и изображение жизни. Человеческий организм, в котором
вмещалась
эта лаборатория духа, должен был неминуемо скоро истощиться..." (Аксаков
1981: 251) Сама смерть писателя понимается как результат такой
титанической
работы. Гоголь преобразует слезы в смех ценой телесных усилий,
позволяющих в
конце концов достичь высшей безмятежности созерцательного покоя.
Конвульсивное как будто гасится, поглощается телом, разрушающимся от
постоянного с ним соприкосновения. Писательское тело работает как
энергетическая, силовая машина. Эту работу Аксаков понимает именно как
телесный подвиг.
Отношения Гоголя с читателями в такой перспективе тоже могут
описываться как странное соотношение смеющихся читательских тел и
спокойного, бесстрастного писательского тела, взирающего на них сверху и
преодолевающего в себе миметическую заразительность смеха. Во время
своего
позднего богоискательского периода писатель счел необходимым высказаться
по
поводу театра, искусства подражания par excellence, которому сам он
служил
верой и правдой долгие годы. Статья была вызвана традиционно негативным
взглядом христианской церкви на театр и была своеобразной попыткой
оправдания. Называлась она "О театре, об одностороннем взгляде на театр
и
вообще об односторонности". Гоголь здесь противопоставляет два типа
театра,
соотносимые с двумя типами смеха. Первый тип театра -- позитивный,
который
он сравнивает с церковной кафедрой и который строится на принципе
сопереживания, когда толпа "может вдруг потрястись одним потрясением,
зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом" (Гоголь
1992:
98)8. Этому "высшему" театру противопоставляется театр "всяких балетных
скаканий" (по существу, театр конвульсий):
"Странно и соединять Шекспира с плясуньями или плясунами в лайковых
штанах. Что за сближение? Ноги -- ногами, а голова -- головой" (Гоголь
1992:
98)9. От балета, от оперы общество "становится легким и ветреным". Это
осуждение плясунов кажется странным на фоне типичной гого-
_________
8 Здесь Гоголь, разумеется, совсем не оригинален, но следует
традиционной теории симпатии или эмпатии. См. Маршалл 1988.
9 Тот же мотив встречается в "Театральном разъезде", где Гоголь
вкладывает в уста некоего господина сравнение драматического автора с
танцором. Сравнение это в устах невежды, разумеется, в пользу танцора:
"Рассудите: ну, танцор, например, -- там все-таки искусство, уж этого
никак
не сделаешь, что он делает. Ну захоти я, например: да у меня просто ноги
не
подымутся. А ведь писать можно не учившись" (Гоголь 1952, т. 4: 271).
28
левской преувеличенной моторики с ее танцевальностью и
конвульсивностью. Водораздел между "высшим" и "вредным" театрами,
проходит,
однако, не столько между разными типами моторики, сколько между разными
типами миметизма.
"Балетные скакания" плохи потому, что они выучены и повторяются чисто
механически. Здесь как бы господствует самая примитивная миметическая
форма
реактивности. В "высшем" театре заученности поведения противостоит
особый
тип реакции. "Высший" театр целиком строится вокруг "высшего" актера,
которого Гоголь называет "мастером":
"Покуда актеры не заучили еще своих ролей, им возможно перенять многое
у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается
правды и естественности, как в речах, так и в телодвижениях. Тон вопроса
дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный;
сделай простой вопрос, простой и ответ получишь. Всякий наипростейший
человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя
на
дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот
ответ
уже останется в нем навек..." (Гоголь 1992: 103).
Таким образом, позитивный театр -- тоже миметичен, но мимесис тут
строится иначе. Он целиком определяется первоартистом, но не в плане
механической реактивности, а неким мистическим способом, "не зная даже
сам
каким образом". Речь идет, например, о трансляции правды и
естественности,
но не в категориях механического копирования движений, а в категориях
некой
"эманации", исходящей от тела "мастера". К телу этому в таком контексте
предъявляется особое требование-- быть воплощением истины. Истина,
излучаемая "мастером", не может передаваться телесным копированием его
поведения. Она передается мимесисом особого типа, как бы поверх телесной
моторики. Поэтому столь существенно подавление моторики в теле мастера.
Чем
ближе тело подходит к передаче возвышенной идеи, тем более неподвижным
оно
становится. Конечно, Гоголь не может назвать в качестве первоартиста
Христа,
но само родство "высшего" театра с церковью делает подобное сближение
возможным10. Речь идет о том, чтобы "отвечать в такт" и таким образом
"набираться правды". Правда постигается в миметическом резонансе
мистического толка, существующем по ту сторону телесного.
В том же случае, когда телесное движение допускается, резонанс этот
предполагает определенный тип телесной механики, построенный не на
простом
дублировании движений, а на своего рода сбое,
_________
10 В 1844 году Гоголь посылает С Т. Аксакову, М П. Погодину и С П.
Шевыреву экземпляры "Подражания Христу" Фомы Кемпийского с призывом
следовать этой книге См Гоголь 1988, т 2. 302.
29
неадекватности. Речь идет о миметическом устройстве с нарушенной
телесной непосредственностью.
Вот как работает это устройство в знаменитом "гуманном месте" "Шинели",
где представлено нравственное перерождение петербургского чиновника,
которому открывается моральная истина в лице жалкого Акакия Акакиевича:
"Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под
руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: "Оставьте меня, зачем
вы
меня обижаете?" И что-то странное заключалось в словах и голосе, с каким
они
были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость,
что
один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру
других,
позволил себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто
пронзенный, и
с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом
виде.
<... > И закрывал себя рукой бедный молодой человек, и много раз
содрогался..." (Гоголь 1952, т. 3:131--132) В целом сцена, конечно,
следует
схеме преображения смехового в высокое (она описывает постепенную
метаморфозу "невыносимой шутки"). Но это преображение следует
определенным
телесным законам. Вся описанная здесь цепочка начинается с того, что
нарушается механизированный режим существования Башмачкина, его обычное
переписывание прерывается (его толкают под руку), он произносит свою
знаменитую фразу каким-то "странным голосом". Речь идет о нарушении той
автоматизированной механики, которая ассоциируется с "театром балетных
скаканий". Толчок под руку как будто пробуждает странное интонирование,
сдвиг в голосоведении. Этот сдвиг (именно странность голоса и слов)
неожиданно останавливают молодого человека, который замирает как
пронзенный, включая неподвижность в сюиту движений. И далее нравственное
перерождение шутника выражается в "странных" жестах -- молодой человек
закрывает себя рукой, содрогается.
Перед нами все та же цепочка "конвульсий", но производимых механизмом с
нарушенным миметизмом. Подражание здесь проходит через фазу своего рода
паралича, замирания. Конвульсии находятся в прямом соотношении с
неподвижным
телом нравственного "мастера".
При этом вся цепочка морального перерождения проходит помимо сознания
молодого человека (ср. с кантовским замечанием о мысли, "которая в
сущности
ничего не представляет"). Одно за другим тела вздрагивают,
останавливаются,
меняют свою механику. Нравственное перерождение, описанное в "гуманном"
месте, поэтому может быть представлено именно как цепочка неадекватных
реакций, как миметизм с нарушенной непосредственностью. Так
осуществляется
"высшее" миметическое постижение "правды", когда "всякий наипростейший
человек уже способен отвечать в такт".
30
2. Смеховой миметизм
Казалось бы, "гуманное место" с его моралистическим пафосом и
нарушенным миметизмом противоположно фарсовому, примитивно смеховому
типу
поведения. В действительности эта противоположность отнюдь не
безусловна.
Несмотря на многократно декларированное неприятие фарса, Гоголь, однако,
был
весьма чувствителен к "конвульсиям и карикатурным гримасам природы".
Владимир Набоков, например, придавал особое значение гоголевскому
утверждению, "что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это
судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома..." (Набоков
1987:176).
Эта садистическая комедия конвульсий была знакома Гоголю с детства,
поскольку в соседнем с отцовским поместье Дмитрия Прокофьевича
Трощинского
(бывшего министра юстиции) среди прочих развлечений (заводилой которых
был
Василий Афанасьевич Гоголь) особым успехом пользовались "проказы" над
умопомешанным священником отцом Варфоломеем:
"Он был главной мишенью для насмешек и издевательства, а иногда и
побоев со стороны не знавшей удержу толпы. Этого мало: была изобретена
особая, часто повторявшаяся потеха, состоявшая в том, что бороду шуту
припечатывали сургучем к столу и заставляли его, делая разные
телодвижения,
выдергивать ее по волоску" (Вересаев 1990:34).
Такого рода "потехи" -- чистая комедия конвульсий, в которой нет ничего
смешного, кроме нелепых телодвижений. Но сама непредсказуемая нелепость
таких движений отчасти (хотя бы чисто формально) сходна с телесной
хореографией "гуманного места", хотя существо ее, конечно, принадлежит
"низменному", примитивно-миметическому.
Показательно, что Гоголь превращает Чичикова в генератора такого рода
примитивного (в том числе и смехового) миметизма. Перед балом в городе N
он
упражняется перед зеркалом:
"Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале.
Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и
степенное,
то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без
улыбки;
отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных
звуков,
отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал
вовсе. Он
сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и
губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь,
оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен,
что
никто не заглядывает в щелку. Наконец он
31
слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: "Ах ты, мордашка эдакой!",
и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во время
одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и
кланялся с особенною ловкостью и хотя никогда не танцевал, но сделал
антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал
комод,
и упала со стола щетка.
Появление его на бале произвело необыкновенное действие" (Гоголь 1953,
т. 5:167).
Чичиков продолжает в обществе свои ужимки и "антраша", а собравшиеся на
балу вторят ему как зеркало. Показательно, однако, что сюита его
движений в
каком-то смысле непредсказуема, она построена на механике, существующей
на
грани между автоматизированным повтором и неловкостью, -- недаром он
почти
обрушивает комод. При этом Гоголь описывает воздействие Чичикова через
развернутую метафору смеха, заражающего присутствующих вопреки их воле и
разуму, хотя в поведении Чичикова, собственно, нет ничего смешного:
"...Словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было
лица, на котором бы не выразилось удовольствие или по крайней мере
отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во
время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после
того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится,
и он
сам изволил, наконец, пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой
несколько слов -- смеются вдвое в ответ на это обступившие его
приближенные
чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо
услыхали
произнесенные им слова, и, наконец, стоявший далеко у дверей у самого
выхода
какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и
только
что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам
отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более
похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку"
(Гоголь 1953, т. 5:168. -- Выделено мной).
То, что происходит на балу, подобно смеху, но к комическому
прямого отношения не имеет. Показательно, что Гоголь лишь использует
развернутую метафору смеха, определяя происходящее "законом отражения",
что,
собственно, и объясняет странную репетицию Чичикова перед зеркалом.
Когда
Чичиков каким-то удивительным жестом треплет себя по подбородку и
говорит
себе: "Ах ты, мордашка эдакой!", он лишь репетирует в зеркале реакцию на
себя окружающих. Действия и ужимки его бессмысленны, они свидетельствуют
о
раздвоении Чичикова, его умножении в зеркальной
32
игре имитаций, в которой уже нет оригинала, а есть только паясничанье
копий. В каком-то смысле это умножение симулякров соотносимо с "двойным
существом" самого Гоголя в описании Шевырева, когда личность лишается
некоего индивидуального ядра и начинает пониматься лишь как система
удвоений
и взаимоотражений. (Но между Гоголем и Чичиковым как будто есть
существенная
разница. Чичиков зеркально удваивает себя, Гоголь отчуждает себя от
имитирующего его тела, хотя и нуждается в нем11. Тот, кто ему подражает,
должен быть на него не похож. Ведь лишь отсутствие сходства
свидетельствует о достижении "высшего" типа миметизма12.)
Достоевский тонко почувствовал эту игру удвоений, спародиро-
___________
11 Ср. с зафиксированным Анненковым отношением Гоголя к своему
подражателю Евгению Павловичу Гребенке: "Вы с ним знакомы, -- говорил
Гоголь, -- напишите ему, что это никуда не годится. Как же это можно,
чтобы
человек ничего не мог выдумать. Непременно напишите, чтобы он перестал
подражать. Что же это такое в самом деле? Он вредит мне. Скажите просто,
что
я сержусь и не хочу этого. <... > Зачем же он в мои дела вмешивается?
Это
неблагородно, напишите ему" (Анненков 1952: 246). Гоголь явно не хочет
увидеть себя в поведении другого.
12 Гоголь отчуждается от прямого миметического поведения, подчеркивая
совершенную бессодержательность миметического автоматизма. В самом
начале
"Мертвых душ" Гоголь дает развернутое сравнение посетителей
губернаторской
вечеринки с мухами:
"Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как
носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета <
.. >
они влетали вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя,
пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние
или
передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши
обе
передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять
улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами" (Гоголь 1953,
т.
5: 14).
Шевырев выделяет это развернутое сравнение из массы сходных и пытается
найти ему гомеровские эквиваленты:
"Всмотритесь в этих мух: как они грациозны и как тонко заметил Поэт все
их маленькие движения! Приведем несколько подобных сравнений из Гомера"
(Шевырев 1982: 67).
Шевырев приводит ряд примеров из "Илиады", где толпы сравниваются с
роями пчел, осами и мухами. Например. "Они толпились около мертвого, как
мухи в хлеву жужжат вокруг подойников, переполненных молоком, в весеннюю
пору, когда оно льется через край в сосуды" (XVI, 641--643). -- Шевырев
1982: 67. Разумеется, гоголевское сравнение принципиально отлично от
клишированных эпических сравнений Гомера. Гоголь здесь сосредоточивается
на
совершенной машинальности, автоматизированности поведения абсолютно
неотличимых созданий. Шевырев же читает это описание как эпически
отстраненный, незаинтересованный взгляд с высоты Конвульсивное или
просто
бессознательно автоматизированное тело в описании Гоголя еще в большей
степени выявляет свою бессознательность, которая и перерабатывается в
надэмоциональное и "свободное". На этом примере хорошо видно, как Гоголь
перерабатывает низменное в возвышенное. Предельно механизированное
превращается в абсолютно свободное. И превращение это целиком строится
вокруг зеркального умножения тел. Именно множество "черных фраков" и
делает
их движения одноообразно бессмысленными и превращает их в насекомых.
33
вав поведение Чичикова в сцене бала в "Двойнике", где Голядкин, уже на
грани удвоения, повторяет жест Чичикова:
"Эх ты, фигурант ты этакой! -- сказал господин Голядкин, ущипнув себя
окоченевшею рукою за окоченевшую щеку,-- дурашка ты этакой, Голядка ты
этакой..." (Достоевский 1956, т. 1: 241)
Достоевский даже стремится сохранить звучание реплики Чичикова
(мордашка -- дурашка). Жест же окоченевшей руки, хватающей окоченевшую
щеку,
у него -- знак наступающего самоотчуждения Голядкина в собственном
зеркальном подобии.
Во втором томе "Мертвых душ" Гоголь дает иную, но также чрезвычайно
выразительную картину смеховой имитации у Чичикова:
""Ха, ха, ха, ха!" -- И туловище генерала стало колебаться от смеха.
Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и
поныне густые эполеты.
Чичиков разрешился тоже междометием смеха, но, из уважения к генералу,
пустил его на букву е: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало
колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили
густых
эполет" (Гоголь 1953, т. 5: 300).
Вновь мы имеем дело с конвульсиями, имитируемыми на уровне телесной
моторики.
Такого рода поведение, особенно хорошо выраженное в ситуации смеха,
действующего "по законам отражения", то есть исключительно миметически,
вызывает вопрос: что оно означает, каков смысл этого автоматизированного
миметизма? Что он, используя выражение Эйхенбаума, "воспроизводит"? Для
Эйхенбаума в этой ситуации первичным был голосовой жест Гоголя. Недаром
он
обращает внимание на богатое гоголевское интонирование во время чтения
своих
произведений. Никто из современников, правда, не отмечал в гоголевском
чтении гротескных ужимок и чичиковских антраша. Отмечались скорее
простота,
содержательность и даже торжественность каждого интонационного нюанса.
Эйхенбаум, например, приводит такую характеристику гоголевского чтения,
данную П. В. Анненковым:
"Это было похоже на спокойное, правильно-разлитое вдохновение, какое
порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Н. В. <...>
продолжал
новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и
мыслию"
(Эйхенбаум 1969: 309). Эйхенбаум отсылает к авторской интонации по
понятной
причине. Если принять ее за генератор миметических процессов, то им
придается определенная содержательная глубина. Поведение героев,
телесный
жест, проступающий в тексте, отсылают в таком случае к
34
интонационному богатству, порождаемому "сосредоточенным чувством и
мыслию". Эйхенбаум делает нечто подобное тому, что осуществляет сам
Гоголь,
противопоставляя чистой гротескной конвульсии высший юмор, пророческий и
меланхолический.
Если же принять, как я к тому склоняюсь, "бессмысленную", чисто
телесную конвульсию за первоимпульс миметического процесса, то ситуация
меняется. Впрочем, само понятие первоимпульса становится сомнительным в
системе зеркальных повторений, в которых инициатор миметического
процесса
"отделяется" от себя самого.
Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, следует сказать
несколько слов о смехе, который в рамках гоголевского комизма выполняет
основную миметическую функцию.
Смех организует микрогруппу, тесно объединяющую людей. Люди, не
включенные в группу смеющихся, чувствуют себя чужаками, покуда не
подключаются к общему смеху (Жорж Батай, например, считал смех одним из
фундаментальных коммуникационных процессов). Это подключение
одновременно
выражает регрессию на более низкую психическую стадию. В человеческом
теле
моторные и экспрессивные движения не отделены до конца друг от друга,
хотя
общая эволюция homo sapiens была ориентирована на специализацию
выразительных движений в основном на лице (патогномика) и на закреплении
чистой моторики в основном за руками и ногами. Эта дифференциация
связана с
тем, что рот становится органом речи -- то есть выразительности в самой
концентрированной форме.
Смех обыкновенно начинается на лице как выразительное движение
(улыбка), а затем постепенно распространяется на тело (у Гоголя даже как
бы
вне тела -- на несуществующие "густые эполеты"). Таким образом,
движение,
первоначально задаваемое как дифференцированное и выразительное,
превращается в чистую моторику. Регресс идет по пути пространственной
иррадиации движения от органа речи, рта -- вокруг которого формируется
первая улыбка -- к конечностям.
Лицо в такой ситуации как бы растворяется в теле (о взаимопроекциях
лица и тела см. главу 8). Если вспомнить поведение Чичикова перед
зеркалом
как первоначальную репетицию такого миметического процесса, кончающегося
смехом-чиханием отроду не смеявшегося полицейского, то мы увидим, что
первоначально Чичиков целиком сосредоточен на лице, он подмигивает
бровью и
губами, кое-что делает языком, треплет себя по подбородку -- первое
распространение чисто мимической игры на тело, -- а затем кончает
расшаркиванием, раскланиванием и антраша. Эрнст Крис называет такую
экспрессивность всего тела, toto corpore, архаическим типом
экспрессивности,
подавляемым современной цивилизацией.
В определенных типах смеха тело подвергается конвульсиям,
35
отчуждающим его от него самого, делает тело чужим, не зависимым от воли
смеющегося. По мнению Жоржа Батая, тем самым оно "сводится к безличному
состоянию живой субстанции:
оно выходит из-под собственного контроля, открывается другому..."
(Батай 1973: 392)
Момент смеха -- момент интенсивнейшей коммуникации, однако совершенно
безличной, открытой для любого вновь пришедшего. Смех всегда
предполагает
ситуацию "удвоения", самоотчуждения и дистанцирования. Согласно
замечанию
Поля де Мана, смех-- это всегда "отношение <...> между двумя "Я", но это
еще
не межсубъектное отношение" (Де Ман 1983: 212). В смехе коммуницируют не
человеческие индивиды, а их овеществленные, регрессировавшие тела, их
обезличенные "Я". "Окоченевшие пальцы", "окоченевшая щека" -- это только
знаки такого пугающего омертвления. В ситуации конвульсивного смеха
всегда
присутствует мираж трупа, взаимопритяжение открытых навстречу другу,
"падающих" (по выражению Батая) друг в друга тел. Такой смех часто
возникает
вокруг ядра почти животного ужаса, вокруг смердящей и пугающей
сердцевины13.
Батай называл такой смех "медиатизированньм":
"Если в коммуникативное движение чрезмерности и общей радости
вторгается средний член, причастный к природе смерти, то происходит это
в
той мере, в какой то темное, отталкивающее ядро, к которому тяготеет все
возбуждение, превращает категорию смерти в принцип жизни, падение -- в
принцип фонтанирования" (Батай 1979:
205).
Смех, таким образом, медиатизирует, сближает противоположное.
Характеризующий его регресс, этот отказ от ego и неожиданное в смехе
раскрепощение id, обнаруживает важнейшее свойство смеха:
"Оно не имеет выразительного поведения. Очень сильные
эмоциональные состояния имеют сходные характеристики: в состоянии гнева
выражение лица может превратиться в гримасу, в моменты самого острого
отчаяния наружу прорываются ритмические движения -- приступы
неконтролируемых рыданий или крика. Нечто сходное происходит в моменты
хохота, и мы можем убедиться в том, сколь узка грань, разделяющая
выражения
от противоположных аффектов" (Крис 1967: 225).
_________
13 В "Театральном разъезде" Гоголь пишет о "холодном" смехе и говорит
об ужасе, который навевают на него живые мертвецы. При этом само понятие
мертвеца определяется им через неспособность к симпатической
реактивности:
"Ныла Душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни,
безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и
бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их
лицах
не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в
небесные
слезы глубоко любящую Душу" (Гоголь 1952, т. 4: 274). Смех в таком
контексте
-- "электрический" и "живительный", он приводит тело в движение, как
гальванизированный труп.
36
Смех смешивает различные аффекты, снимает дифференциацию в сфере
выразительности. Он, по существу, реализует медиацию между "высоким" и
"низким", утрачивающими в сфере его действия не просто
противоположность, но
даже различимость. Странным образом медиация эта осуществляется по мере
нарастания бессодержательности, а следовательно, и
недифференцированности
телесного поведения.
Все поведение Чичикова перед зеркалом отмечено тем же нарастанием
"бессодержательного" кривляния. Первоначально он перед зеркалом
"примеряет"
"множество разных выражений": "то важное и степенное, то почтительное,
но с
некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки". Гоголь специально
отмечает чрезвычайно тонкую нюансировку выражений. Все они еще могут
быть
включены в системы неких значимых оппозиций. Но постепенно
выразительность
уступает место "бессодержательной" моторике: "Он сделал даже самому себе
множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что
даже языком". Постепенно эти "кривляния" распространяются на все тело и
завершаются "антраша". Эти антраша уже никак нельзя определить как
"важные",
"почтительные" или "степенные". Они не поддаются определению, потому что
выходят за рамки выразительного. Характерно, что эта десемантизация
телесной
моторики сопровождается "неясными звуками", "похожими на французские",
то
есть утратой речевой членораздельности. "Высокое" сближается здесь с
"низким", мычание имитирует аристократический французский.
Смех "взрывается", он с необыкновенной силой возникает изнутри, но его
явление это одновременно и отказ от присутствия, это явление чего-то
сметаемого прочь самим явлением. Жан-Люк Нанси окрестил его
"представлением
невозможного присутствия" (Нанси 1993: 377--378). Он задает присутствие
как
распад. Генерирующее смех тело как бы исчезает, дистанцируется от самого
себя до полного исчезновения.
Одной из характерных черт смеховой мимики является разрушение
экспрессивности. То, что в рамках выразительности можно определить как
целостный гештальт (лицо, например, в системе выразительности -- это
образ,
обладающий индивидуальностью и единством смысла), разрушается,
фрагментируется, рассыпается и предъявляет наблюдателю некоего монстра.
Вот
как описывает Набоков миметическую смеховую суггестию у Пнина, русского
профессора, читающего русскую комедию XIX века американским студентам,
не
способным на уяснение "хоть какой ни на есть забавности, еще
сохранившейся в
этих отрывках":
"Наконец, веселье становилось ему непосильным, грушевидные слезы
стекали по загорелым щекам. Не только жуткие зубы его, но и немалая
часть
розоватой де-
37
сны выскакивала вдруг, словно черт из табакерки, рука взлетала ко рту,
большие плечи тряслись и перекатывались. И хоть слова, придушенные
пляшущей
рукой, были теперь вдвойне неразличимы для класса, полная его сдача
собственному веселью оказывалась неотразимой. К тому времени, когда сам
он
становился совсем беспомощным, студенты уже валились от хохота: Чарльз
прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного
смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эилин, отнюдь ее не
лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала" (Набоков 1993:163).
Распад физиогномики Пнина -- необходимое условие нарастающего в группе
миметизма. Элементы механичности в поведении Пнина (десна,
выскакивающая,
словно черт из табакерки; взлетающая ко рту рука и т. д.) отражаются в
чисто
механическом поведении студентов: лающем, как заводном, Чарльзе,
трясущемся
теле Эйлин. Миметизм действует, снимая различия между членами группы,
соединяя их между собой как части единой, трясущейся и дрожащей машины.
Именно это снятие различий и делает героев миметических цепей
своеобразными двойниками. При этом комически гротескное тело вызывает не
просто удвоение, дистанцирование или, наоборот, миметическую
идентификацию с
ним. Оно оказывается телом-посредником, через которое дистанцирование
постоянно переходит в идентификацию и наоборот. Ханс Роберт Яусс
заметил:
"Смех над одним из вариантов комического героя часто превращается в
смех вместе с ним. Первоначально мы, вероятно, смеялись над Лисом,
Ласарильо, Фальстафом, мистером Пиквиком, но затем мы осознали, что
неожиданно присоединились к ним в их смехе" (Яусс 1982: 195).
Такая ситуация предполагает наличие некой "мерцающей" точки зрения,
которая одновременно дистанцирована от персонажа и вместе с тем почти
склеена с ним. Эта двойственность точки зрения лучше всего выражается в
двойнике -- неком теле, как бы существующем вне своего "оригинала", но
вместе с тем от него практически неотделимом.
3. Удвоение и демон Сократа
Юрий Лотман объясняет вранье Хлестакова тем, "что в вымышленном мире он
может перестать быть самим собой, стать другим, поменять
первое и третье лицо местами, потому что сам-то он глубоко убежден в
том,
что подлинно интересен может быть только "он", а не "я".
38
<...> То раздвоение, которое станет специальным объектом рассмотрения в
"Двойнике" Достоевского и которое совершенно чуждо человеку
декабристской
поры, уже заложено в Хлестакове..." (Лотман 1992, т. 1: 345) Гоголь не
просто раздваивает Хлестакова через вранье, он одновременно подчеркивает
специфическую механистичность его поведения. В "Замечаниях для господ
актеров" Гоголь так характеризует Хлестакова:
"Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии
остановить внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова
вылетают из уст совершенно неожиданно" (Гоголь 1952, т. 4: 281).
Хлестаков
как будто воплощает в себя кантовскую концепцию смеха, с ее
неожиданным срывом в "ничто". Он является знакомой нам уже машиной с
нарушенным автоматизмом поведения. В письме-наставлении Михаилу Щепкину
(10
мая 1836 г.) Гоголь особенно настаивает на "отрывочности" хлестаковской
пластики:
"Каждое слово его, то есть фраза или речение, есть экспромт совершенно
неожиданный и потому должно выражать отрывисто. Не должно упустить из
виду,
что в конце этой сцены начинает его мало-помалу разбирать. Но он вовсе
не
должен шататься на стуле; он должен только раскраснеться и выражаться
еще
неожиданнее, и чем далее, громче и громче" (Гоголь 1988, т. 1: 451). В
сцене
вранья, о которой говорит Гоголь, Хлестаков становится наконец главным
миметическим телом всей пьесы, и окончательное утверждение в этой роли
совпадает с подчеркиванием непредсказуемой отрывочности его поведения.
Хлестаков буквально сам не знает, что будет следующим экспромтом его не
контролируемого сознанием тела. Любопытно указание Гоголя на то, что
Хлестаков не должен раскачиваться на стуле. Такое раскачивание также
относится к разряду автоматизированных, механических движений, но оно
обладает предсказуемостью.
Миметическое тело в полном смысле этого слова не должно капсулироваться
в автономности ритмически однообразного движения, оно должно быть чутко
настроено вовне. Будучи центром миметических процессов, происходящих в
пьесе, Хлестаков как бы раздваивается. Его тело ведет себя так, как
будто
оно реагирует на иное, невидимое тело, чью логику оно не может
рассчитать,
оно входит в соприкосновение с тем самым "демоном", о котором я упоминал
выше.
Известно, что Сократ считал, будто его сопровождает некий демон
(гений), который, по сведениям Платона, дает ему советы, останавливает
его,
когда он хочет совершить "неправильный" поступок, а по мнению Ксенофона,
активно побуждает его к действиям. Гегель, уделивший демону Сократа
значительное внимание, связы-
39
вает его с неспособностью греков принимать решение, руководствуясь
внутренними побуждениями. Оракул -- это способ передачи решения
"внешнему
факту". Демон Сократа, по мнению Гегеля, -- это "оракул, который вместе
с
тем не представляет собой чего-то внешнего, а является чем-то
субъективным,
есть его оракул" (Гегель 1932: 66). Речь идет о процессе проекции
вовне внутреннего решения и одновременно интериоризации "внешнего"
решения.
Плутарх, например, объяснял феномен сократовского демона тем, что душа,
проникая в плоть, становится иррациональной. Наиболее же чистая,
рациональная, интеллектуальная часть души у некоторых как бы остается
над
телом, поднимаясь вверх над головой человека. Интеллект у таких людей
как бы
оказывается вне плоти и говорит с телом извне:
"Теперь та часть, которая погружена в тело, называется "душой", в то
время как часть, неподвластная смерти, обычно называется "разумом" и
считается внутренней способностью, так же как предметы, отраженные в
зеркалах, кажутся внутри зеркал. Тем не менее всякий, кто понимает этот
предмет правильно, называет ее "божеством" из-за того, что она
существует
вовне" (Плутарх 1992:
344).
Закономерно Гегель усматривает в Сократе важный этап развития связи
индивидуума с "реальным всеобщим духом", демон же выступает в качестве
воплощения такой формирующейся связи. Гегель пишет:
"Так как у Сократа внутреннее решение только что начало отделяться от
внешнего оракула, то было необходимо, чтобы это возвращение в себя
появилось
здесь при его первом выступлении еще в физиологической форме <...>.
Демон
Сократа стоит, таким образом, посредине между внешним откровением
оракула и
чисто внутренним откровением духа; он есть нечто внутреннее, но именно
таким
образом, что он представляет собой особого гения, отличного от
человеческой
воли, но еще не ум и произвол самого Сократа. Более пристальное
рассмотрение
этого гения показывает нам поэтому форму, приближающуюся к
сомнамбулизму, к
раздвоенности сознания, и у Сократа, по-видимому, мы явно находим нечто
вроде магнетического состояния, ибо он, как мы уже упомянули, часто
впадал в
оцепенелость и каталепсию" (Гегель 1932: 68-69).
Гегелевский анализ интересен для нас потому, что он связывает
определенные формы сознания, вернее переход от одной формы сознания (и,
как
мы бы уточнили сегодня, -- дискурса) к другой форме через чисто
физиологический тип реакции. Переход от внешнего к внутреннему, от
абстрактного, всеобщего к индивидуальному вы-
40
ражается у Сократа в расщеплении сознания и тела, в проявлении
неожиданного автоматизма, механичности (сомнамбулизм, каталепсия). Речь
идет, таким образом, и о нарушении нормальной динамики тела, с которой
как-то связан демон Сократа.
Ситуация сократовского магнетизма (безусловно связанная с миметической
энергией, которую Сократ проецировал на окружающих) предполагает как бы
извлечение "духа" из сократовского тела, трансформацию этого тела в
миметическую марионетку, следующую за отчужденным от Сократа демоном.
Сам
Сократ становится "магнетическим" только через эту стадию раздвоения и
механизации собственной телесности. Таким образом, миметический процесс,
инициируемый Сократом, отражает не столько даже связь тела-куклы с
овнешненной, принявшей облик демона субъективностью, сколько ситуацию
перехода от одного типа дискурса и сознания к другому. По выражению
Гегеля,
"это возвращение в себя появилось здесь при его первом выступлении еще в
физиологической форме". Меня, собственно, и интересует, что означает
каталептическая, сомнамбулическая физиологическая форма, что она
отражает,
что мимирует. Ведь отрывистость и неожиданность телесного поведения
Хлестакова также относится к каталептическому сомнамбулизму.
Вслед за Гегелем демон Сократа заинтересовал Кьеркегора14. Последний
обратил внимание на два свойства демона -- невокализуемость его голоса и
нежелание давать позитивные, побуждающие советы. Тот факт, что голос
демона
не слышен и он лишь предупреждает "неправильные" действия, по мнению
Кьеркегора, говорит о негативной природе демона, противостоящей
позитивности
классического греческого красноречия:
"На место этого божественного красноречия, реверберирующего во всех
вещах, он подставил молчание" (Кьеркегор 1971:188).
Демон конкретно выражает ироническую, то есть
негативно-дистанцированную позицию Сократа как по отношению к
материальной
реальности, так и к идее: "...Идея становится пределом, от которого
Сократ с
ироническим удовлетворением вновь повернулся внутрь себя" (Кьеркегор
1971:
192). Негативная дистанцированность, по мнению Кьеркегора, становится
"моментом исчезновения" всей иронической системы.
Гоголь был, разумеется, иронистом, он и сам себя таковым считал,
например, когда утверждал, что его комедия "производит смех"
"глубокостью
своей иронии" (Гоголь 1953, т. 6: 111). Ироничность
__________
14 Я имею в виду, конечно, лишь относительно близкую к нам по времени
интеллектуальную традицию Вероятно, одним из первых трактатов о демоне
Сократа следует считать трактат Апулея "De deo Socratis" 0 более
почтенной
традиции интерпретации фигуры демона (или гения) см Нитцше 1975
41
Гоголя, как это ни парадоксально, явилась почвой, на которой возник и
развился гоголевский мессианизм. Ведь именно ироническая позиция
позволяет
подняться над реальностью, занять по отношению к ней
иронически-дистанцированную, почти божественную позицию. Кьеркегор
писал:
"Благодаря иронии субъект постоянно выводит себя за пределы и лишает
все явления их реальности во имя спасения себя самого, то есть для
сохранения своей негативной независимости по отношению ко всему"
(Кьеркегор
1971:274).
В принципе это удаление от "тщеты" мира может быть, в некоторых
случаях, в том числе и в гоголевском, почвой для постулирования иной,
единственно абсолютной реальности -- реальности Бога.
Удваивание в демоне есть дистанцирование телесности по отношению к
идее. Это значит, что тело ведет себя тем или иным образом не потому,
что
оно выражает некое содержание, не потому, что оно включено в систему
платоновского мимесиса, а потому, что оно соотнесено с другим, пусть
невидимым телом -- демоном. Гоголь в моторике своего чтения постоянно
разыгрывает соотнесенность с некой содержательной глубиной.
"Правильно-разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким
созерцанием предмета", медленная патетика жестов, которые Гоголь
производил,
при чтении соотносят его телесность с некой идеей. Его жесты
выстраиваются в
"логическую" цепочку, по-своему имитирующую логику продуманной речи.
Хлестаков ведет себя прямо противоположно, он отрывочно и неожиданно
копирует действия, производимые неким невидимым двойником, находящимся
между
ним и идеей. Отсюда конвульсивность и нелогичность его моторики.
Хлестаков
"повернут к себе от Идеи". Он отгорожен от идеи невидимым телом, или
удвоением своей телесности. Между его поведением и Идеей находится
фильтр
двойничества, который я и называю демоном.
Таким образом, позиция ирониста, позиция дистанцирования, которая может
быть соотнесена с точкой зрения линейной перспективы, предполагающей
наличие
пространства между наблюдателем и репрезентируемым пространством, с
одной
стороны, задается демоном или гением, а с другой стороны, им же и
разрушается. Ведь именно тело демона "поднесено" к "глазам" так близко,
что
разрушает всякое репрезентативное пространство, тем самым подрывая
"божественную" позицию ирониста, который наблюдает за всем происходящим
с
недосягаемой высоты.
Демон -- совершенно особое тело. Поскольку он является чистой фикцией,
"исчезающим моментом" иронической системы как системы чистой
дистанцированности, то его тело можно определить как "негативное" тело.
Это
тело, выраженное в неком зиянии, пустоте, не предполагающей, однако,
перспективы зрения. Это скорее-- тактильная пустота. Оно и выражает себя
в
отрывочной моторике
42
копирующего его персонажа, как пустота, как провал.
Возникает такое ощущение, что человек как бы облокачивается на пустоту,
на
небытие и совершает отрывочное движение, чтобы восстановить
пошатнувшийся
баланс. Если бы эта пустота была доступна зрению, то имитирующее
действие
лишилось бы своей отрывочности. Отрывочность детерминируется и
отсутствием
видимого "промежутка". Само пространство видения задает, предполагает
некое
время (а потому и определенную инерцию) для копирования. Удаленный
сигнал
действует менее неожиданно, чем максимально приближенный.
В ослабленной форме сама отчужденность гоголевского поведения
превращает его тело в некое подобие такого миметического негативного
присутствия. Гоголь со своим "двойным существом" постоянно включается в
ситуации миметического умножения. Наиболее стандартной ситуацией такого
рода
были знаменитые гоголевские устные чтения. Писатель придавал им
первостепенное значение, а в статье "Чтения русских поэтов перед
публикой"
(1843) обосновывал значение чтений особым характером русского языка,
звуковой строй которого самой природой якобы предназначен для перехода
от
низкого к высокому:
"К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы
создан для искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые
смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я
даже
думаю, что публичные чтения со временем заменят у нас спектакли" (Гоголь
1953, т. 6:123).
В чтении, по мнению Гоголя, обнаруживается скрытая в голосе
миметическая сила, по-своему связанная с самим процессом раздвоения:
"Сила эта сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не
потрясались никогда от звуков поэзии" (Гоголь 1953, т. б: 124).
При этом "чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке.
Напротив, оно может быть даже очень спокойное..." (Гоголь 1953,т. 6:
124).
Как видно, в ситуации чтения как раз и осуществляется, с одной стороны,
олимпийское отстранение в формах полного спокойствия, некой
негативности, а
с другой стороны, конвульсивное потрясение через мимесис "силы".
Воспоминания современников, в которых чтениям Гоголя постоянно
отводится особое место, отмечают странность писательского поведения при
чтении его произведений. Николай Берг, например, вспоминал о поведении
Гоголя во время чтения его произведений Щепкиным в 1848 году:
"Гоголь был тут же. Просидев совершенным истуканом в углу, рядом с
читавшим, час или полтора, со взгля-
43
дом, устремленным в неопределенное пространство, он встал и скрылся...
Впрочем, положение его в те минуты было точно затруднительное: читал не
он сам, а другой; между тем вся зала смотрела не на читавшего, а на
автора..." (Берг 1952:502).
Раздвоение здесь принимает совершенно физический характер. При этом
голосу и телу Щепкина передается вся миметическая функция. Гоголь же,
совершенно в духе шевыревского "двойного существа", целиком принимает на
себя функции полного отчуждения от "здесь-и-теперь", физически
выраженной
"негативности". Это выражается устремлением взгляда в некое
"неопределенное
пространство" и полной телесной статуарностью. Тело как будто выводится
из-под контроля чувств и совершенно самоотчуждается. Разрушение
экспрессивности ("истукан") здесь негативно соотносится со сходным же
разрушением в пароксизме смеха. Можно также предположить, что щепкинское
чтение вызывало в читателях смех, а гоголевская маскообразная
неподвижность
его блокировала, подавляла.
Павел Васильевич Анненков вспоминал, как Гоголь диктовал ему в Риме
главы из "Мертвых душ". Гоголь диктовал спокойным, размеренным тоном:
"Случалось также, что, прежде исполнения моей обязанности переписчика,
я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь
глядел
на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал:
"Старайтесь
не смеяться, Жюль". <... > Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему
примеру
и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так
выразиться. Это случилось, например, после окончания "Повести о капитане
Копейкине" <...>. Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому
порыву
веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал:
"Какова
повесть о капитане Копейкине?"" (Анненков 1952:271).
Анненков в данном случае выступает как авторский двойник. Гоголь, как
полагается, сейчас же принимает на себя роль отчужденного, холодного
наблюдателя, демона. Ведет он себя странно. Он бесстрастно читает текст,
вызывающий у Анненкова взрывы хохота, и одновременно просит его не
смеяться.
Он генерирует смех и тут же его подавляет. Он жаждет читательского
смеха, но
в полную меру утверждает себя, поднимаясь над той миметической телесной
реакцией, которую он же столь неотразимо вызывает. Так работает
гоголевская
демоническая машина по превращению "низкого" в "высокое", машина,
разрушающая, по мнению Аксакова, его собственное тело.
44
Рассматривая становление диалогического дискурса у Достоевского, Михаил
Бахтин выводит его, по существу, из ситуации наличия невидимого демона.
Уже
в речи Макара Девушкина в "Бедных людях" Бахтин обнаруживает "стиль,
определяемый напряженным предвосхищением чужого слова" (Бахтин 1972:
351).
Эта вписанность невидимого собеседника в речь Девушкина приводит к
искажению
речевой пластики. Бахтин определяет возникающий стиль как "корчащееся
слово
с робкой и стыдящейся оглядкой и приглушенным вызовом" (Бахтин 1972:
352).
Оглядка, корчи -- все эти телесные метафоры имеют смысл лишь постольку,
поскольку они отсылают к негативному, а по существу мнимому, присутствию
Другого. Бахтин идет еще дальше и придумывает "взгляд чужого человека",
якобы воздействующий на речь Макара Девушкина:
"Бедный человек <...> постоянно чувствует на себе "дурной взгляд"
чужого человека, взгляд или попрекающий, или-- что, может быть, еще хуже
для
него-- насмешливый <...>. Под этим чужим взглядом и корчится речь
Девушкина"
(Бахтин 1972: 353--354). Философски эта ситуация предвосхищает
знаменитые
построения Сартра, когда последний выводит весь генезис мира Жана Жене
из
взгляда, обращенного на него в детстве (Сартр 1964: 26--27), или
описывает
функцию взгляда в трансформации субъективности в "Бытии и ничто" (Сартр
1966: 340--400), Здесь, однако, ситуация несколько иная, чем у Сартра.
Видимое тело, тело, на которое обращен взгляд, производит какую-то
особую
речь, миметически отражающую конвульсии тела под обращенным на него
взглядом. Привалы, несообразности, пустоты и заикания в речи оказываются
пустотами, мимирующими отсутствующее, но видящее тело. Тело,
превращенное во
взгляд, сведенное к чистому присутствию (подобному "истуканному"
присутствию
Гоголя на чтениях Щепкина), к некой бестелесной субъективности,
отчужденной
от говорящего, направленной на него извне.
Ситуация эта крайне интересна тем, что еще не содержит в себе
развернутого диалогизма в бахтинском понимании, а является лишь его
зародышем. Здесь еще нет диалогического взаимодействия двух соотнесенных
между собой речевых потоков (чуть ниже Бахтин проделает эксперимент,
развернув монолог Девушкина в воображаемый диалог с "чужим человеком").
Протодиалогизм возникает здесь как взаимодействие высказывания и
видимости,
речевого и видимого. И это взаимодействие выражается в корчах речи,
иначе
говоря, в ее деформациях. Взгляд может отразиться в речи как ее
"провал",
как некий мимесис пустоты. Демон Макара Девушкина молчит, "не
вокализуется",
если использовать выражение Кьеркегора, потому что он есть
парадоксальная
негативность необнаружимого присутствия -- взгляд без тела. И этот
бестелесный взгляд дистанцирует речь от "идеи", от "реальности",
вписывая в
нее пустоту провалов и деформаций.
45
Проблема взгляда возникает в книге Бахтина еще раз, когда он разбирает
"Двойника":
"В стиле рассказа в "Двойнике" есть еще одна очень существенная черта,
также верно отмеченная В. Виноградовым, но не объясненная им. "В
повествовательном сказе, -- говорит он, -- преобладают моторные образы,
и
основной стилистический прием его -- регистрация движений независимо от
их
повторяемости".
Действительно, рассказ с утомительнейшею точностью регистрирует все
мельчайшие движения героя, не скупясь на бесконечные повторения.
Рассказчик
словно прикован к своему герою, не может отойти от него на должную
дистанцию, чтобы дать резюмирующий и цельный образ его поступков и
действий.
Такой обобщающий образ лежал бы уже вне кругозора самого героя, и вообще
такой образ предполагает какую-то устойчивую позицию вовне. Этой позиции
нет
у рассказчика, у него нет необходимой перспективы для художественного
завершающего охвата образа героя и его поступков в целом" (Бахтин 1972:
386-387).
Бахтин не совсем прав, утверждая, что Виноградов не дал объяснения
отмеченного им явления. Однако объяснение Виноградова было действительно
неудовлетворительным. С одной стороны, он принял моторику персонажей в
"Двойнике" за знаки "душевных переживаний"15. С другой стороны, он
связал
возникающую механистичность моторики, ее марионеточность с установкой на
гротеск. И наконец, он объяснил отрывочность, обрывистость движений
Голядкина еще и следующим образом:
"Для того чтобы эти формулы движений и настроений не образовали
замкнутого круга, воспроизводимого с утомительным однообразием,
необходимо
было разнообразить порядок их смены неожиданными нарушениями. Поэтому
встречаются в тексте бесконечные указания на внезапный обрыв начатого
действия и неожиданный переход к новому. Наречное образование вдруг
отмечает пересечение одного ряда движений другим" (Виноградов 1976:111).
Нет, разумеется, никаких оснований считать, что "внезапный обрыв и
неожиданный переход" нарушают однообразие повторности. Скорее наоборот,
они
вносят добавочное однообразие, бороться с которым можно не
обрывочностью, но
логичностью жестикуляционных периодов. Бахтин предлагает чрезвычайно
нетривиальное объяснение странной моторике персонажей Достоевского.
Повествователь, по его мнению, находится слишком близко к герою, он
_________
15 "В соответствии с этим неизменно повторяются и описания душевных
переживаний, знаками которых являлись внешние движения" (Виноградов
1976'
110).
46
связан с ним особой миметической нитью, которая позволяет ему
фиксировать (копировать на письме) все его движения, но не позволяет
рассмотреть его тело со стороны и таким образом занять некую внешнюю по
отношению к нему позицию. В этом смысле повествователь может быть
действительно уподоблен демону, отделившемуся от тела, но все же не
настолько, чтобы быть от него критически отчужденным.
Что же это за видение, которое исключает "устойчивую позицию вовне"?
Что это за видение, которое не позволяет увидеть? Это видение, в котором
зрение как бы подавляется фиксацией отдельного движения, отдельной
конвульсии описываемого тела. Это видение, в котором зрение разрушается
чувством моторики, по существу неким ощущением схемы тела и его
динамики.
Это видение, возникающее буквально на границе зрения и слепоты. Бахтин
говорит о "бесперспективной точке зрения"16.
Приведу пример из "Двойника", отобранный Виноградовым, и с его же
комментарием:
"Помимо игры неожиданными пересечениями рядов движений, пересечениями,
вследствие которых схема действий героя проектируется в форме
зигзагообразно
расположенных линий, те же эффекты комического использования моторных
образов осуществляются также посредством особого приема рисовки
действия,
выполнению которого предшествует парализованная отступлением попытка.
Комизм
такого "триединого движения" подчеркивается контрастными сцеплениями
фраз и
слов и рождающимися отсюда каламбурами.
Пример: "...герой наш... приготовился дернуть за шнурок колокольчика...
Приготовившись дернуть за шнурок колокольчика, он немедленно и довольно
кстати рассудил, что не лучше ли завтра... Но... немедленно переменил
новое решение свое и уже так, заодно, впрочем, с самым решительным
видом позвонил..."" (Виноградов 1976: 112). Попробуем понять, что
описывает Виноградов. По-видимому, когда он говорит о "схеме действий
героя,
проектируемых в форме зигзагообразно расположенных линий", он по-своему
воспроизводит присутствие глаза, помещенного в "бесперспективную точку
зрения". Глаз, буквально приклеенный к Голядкину, движется вместе с ним
некой зигзагообразной линией. Потому что стоит наблюдателю отойти чуть
дальше от голядкинского тела, и никакого зигзага не будет. Будет
человек,
который приготовился дернуть за шнурок и дернул -- позвонил. Но это
непротиворечивое действие дается наблюдателю, наделенному "перспективной
точкой зрения", то есть
__________
16 Дональд Фенгер говорит об "авторской свободе по отношению к единой
перспективе" и у Гоголя (Фенгер 1979: 91).
47
позицией вовне. Более того, как бы мы ни приближали точку зрения
наблюдателя к телу Голядкина, мы не получим никакого зигзага. Зигзаг
вообще
возникает только в результате расслоения Голядкина, его внутреннего
удвоения, позволяющего телу действовать автономно по отношению к его
воле,
или хотя бы асинхронно (выполнять уже отмененное решение).
Зигзагообразные
линии, обнаруживаемые Виноградовым, вообще не могут наблюдаться, они
располагаются там, где зрение исключается. Более того, моторные образы,
интересующие Виноградова, вообще возможны только если подавить зрение
как
таковое. "Бесперспективная точка зрения" в данном случае -- это точка
зрения
слепоты.
Наблюдателем фиксируется диссоциация динамической схемы тела, вообще не
доступной внешнему наблюдателю, но осознаваемой только самим Голядкиным.
Наблюдатель поэтому в данном случае занимает место самого Голядкина, но
не
совсем, он как бы одновременно помещен и внутри и вне его тела.
Что это значит?
Вчитаемся еще раз в приведенный Виноградовым фрагмент. Реакции
Голядкина описаны с точки зрения повествователя, осведомленного о
внутренних
порывах и решениях героя. Между тем само действие Голядкина выбрано
Достоевским со смыслом. Персонаж должен дернуть за шнурок. Вся
"зигзагообразность" проектируемого Голядкиным действия подчеркивает
марионеточную природу персонажа, который вообще не способен принять
решение,
поскольку побуждается к действиям некой внешней силой, как будто
дергающей
за шнурок его самого. Отсюда повтор характерного определения --
"немедленно". Это "немедленно" указывает на то, что за действием
Голядкина
не стоит никакой идеи, никакого сомнения или решения. Его просто дергают
за
шнурок. Дергая за шнурок, Голядкин лишь мимирует действие некой силы,
приложенной к нему самому. Дернуть за шнурок для него означает лишь
неосмысленно воспроизвести манипуляцию его собственного демона над ним
самим. Действие Голядкина поэтому может быть определено как миметическое
удвоение. Все же, что касается "перемены решения", "нового решения", --
не
более как симуляция, поскольку никакого решения Голядкин вообще принять
не в
состоянии.
Но это означает, что наблюдатель, помещая себя как бы "внутрь" психики
Голядкина, в действительности выбирает "неправильную" точку зрения,
потому
что решения принимаются вовсе не внутри голядкинской субъективности, а
вне
его психики, там, где расположен невидимый демон, двойник. То, что
описывается как смена решений Голядкина, в действительности -- не что
иное,
как миметическое дерганье некоего симулякра. Вот почему внутренняя точка
зрения оказывается внешней по отношению к тому месту, где действительно
детерминируется моторика (поведение) персонажа. А
48
внешняя точка зрения в принципе может совпасть с искомой точкой
перспективного видения.
Моторика, таким образом, выступает лишь как текст, в котором
фиксируется невозможность непротиворечивого взгляда, невозможность
дискурса
с единой точкой зрения. Видимое здесь (зигзагообразные линии моторики)
есть
не более как след чисто словесного, по сути невидимого. След этой
словесной
игры, между прочим, отложился и в отмеченной Виноградовым каламбурности
фрагмента17.
Вальтер Беньямин оставил нам портрет беспрерывно мимирующего тела --
портрет венского ирониста Карла Крауса, по мнению Беньямина, также
анимируемого неким миметическим демоном тщеславия. Беньямин описывает
странную стратегию поведения Крауса, пишущего и одновременно
имитирующего
акт письма, беспрерывно пародически меняющего маски, непрестанно
изображающего окружающих. Беньямин описывает демона Крауса как
"танцующего
демона", "дико жестикулирующего на невидимом холме" (Беньямин 1986:
250).
Демон беспрерывно отчуждает личность Крауса, превращая ее в
неиссякающий ряд миметических "персон", масок. Срывание масок с
окружающих
незаметно переходит в потерю аутентичности самого ирониста, исчезающего
за
разворачивающейся цепочкой личин.
Почему это отчуждение проходит через повышенную жестикуляцию и танец?
Почему вообще жест принимает такое огромное, такое несоразмерное
значение во
всей ситуации отчуждения и удвоения? Ведь и в разобранном эпизоде с
Голядкиным простое дерганье за шнурок, жест, предельно
автоматизированный
повседневным поведением, становится вдруг чрезвычайно, неумеренно
значимым.
Дело, по-видимому, в том, что именно танец позволяет одновременно
предельно абстрагироваться от внешнего наблюдателя и трансцендировать
субъективность. Известно, что Ницше считал танец своеобразной формой
мышления. Валерий Подорога дает по этому поводу следующий комментарий:
"...Танец не создает оптического пространства, где могла бы
осуществляться нормативно и по определенным каналам ориентированная
коммуникация; танец-- это пространство экстатическое, где движение
подчиняется внутренним биоритмам танцующего, которые невозможно измерить
в
количественных параметрах времени, тактом или метром. Семиотика
внутренних
движений
_____________
17 Движение персонажа может странным образом действительно отражать
нечто, казалось бы, совершенно с ним несоотносимое -- движение письма,
например Гоголь так характеризует пластику Чичикова на балу в N
"Посеменивши
с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же
ножкой
в виде коротенького хвостика или наподобие запятой" (Гоголь 1953, т. 5
171)
Чичиков буквально пишет ногой текст собственного описания
49
танцующего тщетна. Внутреннее переживание времени, а другого в танце
нет, так же как нет "внешнего наблюдателя" или не участвующего в танце,
строится по логике трансгрессии органического: все движения, на каких бы
уровнях-- физиологическом или психосоматическом-- они ни располагались,
сопротивляясь друг другу, повторяясь, но постоянно поддерживая
нарастающую
волну энергии, вызывают полную индукцию всех двигательных событий тела
танцующего" (Подорога 1993а: 193). Внешний наблюдатель в такой ситуации
исчезает, но субъективность также растворяется в том, что Подорога
называет
"полной индукцией всех двигательных событий тела". Тело движется уже не
по
воле танцующего, а в силу распределения энергий и индуктивных процессов.
Танец, таким образом, снимая внешнюю позицию наблюдателя, не постулирует
внутренней позиции. Он реализует избавление от внешнего вне форм
подлинно
внутреннего. В танце мы обнаруживаем ту же противоречивость слепоты и
зрения, ту же странную амбивалентность отношений между телом и его
демоном,
что и в виноградовском примере из Достоевского.
Виноградов приводит еще один пример "триединого", "зигзагообразного"
движения у Достоевского:
"Голядкин... взял стул и сел. Но вспомнив, что уселся без
приглашения... поспешил исправить ошибку свою в незнании света и
хорошего
тона, немедленно встав... Потом опомнившись... решился, нимало не
медля...
и... сел окончательно" (Виноградов 1976: 112).
Ситуация здесь несколько иная, чем в сцене со шнурком, где меняются
только намерения. Здесь эти намерения реализуются. Голядкин садится,
потом
"немедленно" встает, а затем "не медля" садится окончательно. И хотя
Достоевский не вводит в этот эпизод каламбура, он намеренно повторяет
это
навязчивое "немедленно". Эпизод со стулом похож на эпизод со шнурком еще
и в
том, что действие, которое осуществляет Голядкин, -- из самых
тривиальных,
автоматизированных. Фокус заключается в том, что это "стертое", ничем не
примечательное действие -- человек сел -- вдруг приобретает какое-то
несоразмерное значение именно за счет его повторения. Сам характер
повтора
действия также значим. Голядкин не просто садится, он садится с
чрезвычайной
решимостью и скоростью. Тем самым автоматизированность действия как
будто
подчеркивается, тело действует со стремительностью, как будто
исключающей
работу психики (хотя, как мы знаем из текста Достоевского, эти
сверхбыстрые
действия отражают сложные и даже мучительные колебания).
Но именно чрезмерное подчеркивание марионеточного автоматизма,
чрезмерность жеста придают ему характер телесного события, наполненного
смыслом. То, что Голядкин прячет за ширмой
50
сверхбыстрого автоматизма, в действительности лишь обнаруживает себя.
Жест не камуфлируется, а экспонируется и тем самым предлагается
наблюдателю
как наполненный смыслом текст.
Происходящее напоминает не столько танец, сколько пантомиму. Мим также
обычно изображает легко опознаваемые и наиболее привычные жесты и
действия:
он показывает, как он идет по улице, срывает и нюхает цветок, выпивает
чашку
кофе. Репертуар его действий столь банален, что, вообще говоря, не
требует
никакой специальной техники для их имитации. Однако мим имитирует их,
заведомо преувеличивая. Более того, он как бы разрушает
автоматизированность
каждого имитируемого им жеста. Для того чтобы добиться этого, мим
обучается
дезартикулированию каждого движения. Автоматизированная схема жеста
уничтожается, и на ее место подставляется странная жестикуляционная
синтагма, в которой движение руки дезартикулировано таким образом, чтобы
нарушить стереотипную связь между движением плеча, предплечья и кисти.
Суставы приобретают неожиданное значение каких-то фильтров, не
пропускающих
через себя кодифицированную жестикуляционную схему. В результате
складывается странное впечатление, будто кисть движется отдельно от
предплечья, а предплечье отдельно от плеча, хотя общая семантика жеста и
сохраняется.
Дезартикуляция жеста при всей ее подчеркнутости накладывается на
повышенную пластическую взаимосвязанность отдельных частей. Перед
наблюдателем разворачиваются одновременно фрагментация жестикуляционной
синтагмы, ее членение на фрагменты и новое сплетение этих фрагментов в
некое
неразделимое целое. Речь идет, по существу, о перераспределении акцентов
внутри синтагмы, о ее переартикуляции, которая не может прочитываться
иначе,
как разрушение жестикуляционной спонтанности, как дезавтоматизация
жеста, а
следовательно, и его смысла.
Выбор банального действия должен прочитываться на этом фоне. Привычный
и не имеющий особого смысла жест пьющего человека неожиданно приобретает
какое-то особое значение. Он становится столь "содержательным", что
заставляет зрителей с интересом наблюдать за его имитацией.
Дезавтоматизация жеста и его переартикуляция -- это именно то, что
происходит со многими персонажами Гоголя и что так явственно подчеркнуто
в
поведении садящегося и встающего Голядкина. То же самое можно сказать и
о
жестикуляционной чрезмерности.
Эта чрезмерность лежит, по мнению Хосе Жиля, в основе чтения пантомимы.
Он указывает, что тело мима
"производит больше знаков, чем обыкновенно. Каким образом мим
показывает нам, что он пьет чашку кофе? Его жест не является простым
воспроизведением привычного жеста руки, которая вытягивается, пальцев,
берущихся за ручку, руки, поднимающейся на высоту рта; перед нами
51
множество артикуляций, каждая жестовая фраза преувеличена, она содержит
множество микрофраз, которых раньше в ней не было. Жест питья вырастает,
становится барочным; чтобы показать, что чашка наклоняется к губам, рука
взлетает высоко вверх причудливым движением. Мим, таким образом,
подменяет
речь; микроскопические сочленения занимают место слов, но говорят иначе,
чем
слова" (Жиль 1985:101).
Я не могу согласиться с Жилем, что речь идет о производстве неких
псевдослов. Речь, на мой взгляд, идет о подчеркнутом деформировании
нормативной синтагматичности движения. Деформирование это преувеличено
(то,
что Жиль описывает как перепроизводство знаков), потому что, как и
всякое
деформирование, отсылает к определенной энергетике. Тело действует так,
как
будто к нему приложена некая сила, способная нарушить кодифицированность
затверженных и стертых движений. Тело становится местом приложения силы,
действующей на него извне, оно превращается в тело робота, автомата,
марионетки и одновременно удваивается призраком демона, которого оно
имитирует.
Отсюда двойной эффект мимирующего тела -- это тело не производящее
движения, но имитирующее движения. Мим никогда не стремится обмануть
публику
естественностью своих движений. Наоборот, он стремится обнаружить
подлинную
имитационность своего поведения. Как выразился Деррида, "он имитирует
имитацию". Этот двойной мимесис обнаруживается только в формах
деформаций,
то есть в формах обнаружения внешних сил и энергий. Барочность жеста и
есть
проявление внешней силы. Почему жесты мима чрезмерны? Почему, поднося
руку с
воображаемой чашкой ко рту, он вздымает ее высоко вверх? Да потому, что
он
именно разыгрывает избыточность силы, приложенной к его руке.
Генрих фон Клейст обозначил бы это явление как антигравитационность
марионеточного тела. Но антигравитационность означает только одно -- к
телу
приложена сила, превышающая силу гравитации. Когда Голядкин мгновенно
садится, немедленно вскакивает и решительно садится вновь, он
воспроизводит
действие некоего невидимого механизма, некой пружины, которая
деформирует
"нормальную" механику тела избыточностью энергии. Перепроизводство
знаков в
пантомиме поэтому может пониматься как продукт игры сил. Существенно,
конечно, то, что эта игра сил создает такое сложное перераспределение
артикуляций, что она порождает иллюзию некоего содержательного текста.
Тело
дается наблюдателю как тело полное смысла (перепроизводящее знаки), а
потому
особенно "содержательное". Правда, ключей для чтения этого содержания не
Дается. Энергетическое тело, тело деперсонализирующееся в конвульсиях,
немотивированном поведении, приступе миметического смеха, создает
иллюзию
смысловой наполненности, лишь отражающей видимость энергетического
избытка.
Глава 2 КОНВУЛЬСИВНОЕ ТЕЛО: РИЛЬКЕ
1. Высокий тощий субъект в черном пальто...
В романе Рильке "Записки Мальте Лауридса Бригге" есть один пассаж,
особенно интригующий странностью описанного в нем телесного поведения.
Первый вариант интересующего меня фрагмента содержался в письме,
написанном
из Парижа Лу Андреас Саломе (18 июля 1903 г.). Здесь Рильке описывает
преследующий его страх и странное ощущение от людей, сопутствующее ему.
Люди, которых он встречает в Париже, напоминают ему автоматов или
фрагменты
неорганической материи:
"Когда я впервые проходил мимо Hotel Dieu, туда как раз въезжала
открытая пролетка, в ней лежал человек, покачивавшийся от каждого
движения,
лежал перекошенно, как сломанная марионетка, с тяжелым нарывом на
длинной,
серой свисающей шее. И каких только людей не встречал я с тех пор.
Обломки
кариатид, над которыми еще тяготела вся мука, все здание муки, и под его
тяжестью они шевелились медленно, как черепахи. <...> О, какой это был
мир!
Куски, куски людей, части животных, остатки бывших вещей, и все это еще
в
движении, словно гонимое каким-то зловещим ветром, несущее и носимое,
падающее и само себя в падении перегоняющее" (Рильке 1971: 199-200)1
Рильке испытывает странное миметическое притяжение к этим отталкивающим
его существам, которые видятся ему "прозрачными", "извне чуть
притемненными
испарениями" и содрогаемыми "хохотом, который поднимается как чад из
плохих
очагов. Ничто не было менее похожим на смех, чем смех этих отчужденных;
когда они смеялись, это звучало так, будто у них внутри что-то падало и
разбивалось и заполняло их осколками" (Рильке 1971: 203).
Смех этих странных фигур проецируется на них извне, как чад очагов, но
и когда он проникает внутрь их тел, он все еще остается внешним, он
разбивается на осколки, он падает как "что-то". Интимно внутреннее
остается
предельно внешним. Впрочем, все поведение существ, заполняющих
воображение
поэта, целиком мотиви-
___________
1 Цитируемое письмо в русском издании сокращено не менее чем вполовину,
о чем читателю, к сожалению, не сообщается
53
ровано извне. Они ползут как обломки кариатид, на которые рухнула
тяжесть здания, их гонит какой-то зловещий ветер. В этом вынесении вовне
приводящей их в движение силы уже заключено их раздвоение, особенно
очевидное в момент падения этих призрачных тел, "падающих и самих себя в
падении перегоняющих". Рильке прибегает к загадочному образу невозможной
экстериоризации.
Это состояние нарушенности четкой границы между органическим и
неорганическим, по мнению Роберта Музиля, отражает важнейшую черту
поэтического мира Рильке, в котором повышенный метафоризм выражает
миметическую энергию безостановочного метаморфизма:
"В этом нежном лирическом взаимодействии одна вещь становится подобием
другой. У Рильке камни и деревья не только становятся людьми -- как это
всегда и повсюду происходило в поэзии, -- но люди также становятся
вещами
или безымянными созданиями и, приведенные в движение столь же безымянным
дыханием, достигают наивысшей степени человечности" (Музиль 1990:
245).
Действительно, марионетки и кариатиды Рильке настолько в конце концов
проникаются людским, что как бы приобретают драматическую человечность,
еще
далее подталкивающую общий порыв миметизма, пронизывающий мир Рильке и
включающий в конце концов его самого:
"Стараясь их выразить, я начинал творить их самих, и вместо того чтобы
преобразовать их в вещи, созданные моей волей, я придавал им жизнь,
которую
они обращали против меня же и преследовали меня до глубокой ночи"
(Рильке
1971:203).
Здесь перспектива, намеченная Эйхенбаумом в анализе "Шинели",
переворачивается (см главу 1). Не персонаж имитирует здесь строй
авторского
сказа, но автор как бы пристраивается к персонажу. То, что определяется
Рильке как преследование со стороны персонажей, в действительности
превращается в преследование персонажей поэтом Впрочем, это
выворачивание,
обращение позиций уже предполагается самой ситуацией крайне
деформированной
пластики поведения.
Вспомним мима, который таким образом отчуждает собственные действия от
внутренних мотивировок и настолько переносит причину действия вне
собственного тела, что по существу позволяет зрителю занять внешнюю
позицию,
совпадающую с той, откуда проектируются действия мима. Быть вовне в
такой
ситуации означает быть внутри.
И наконец, Рильке описывает некое тело, по какой-то причине особенно
для него привлекательное. Именно связанный с ним кусок он в дальнейшем и
перепечатывает с некоторыми изменениями в
54
романе. Процитирую этот необыкновенный фрагмент из "Записок". Бригге
(он же Рильке) обнаруживает "высокого, тощего субъекта в черном пальто и
мягкой черной шляпе на коротких блеклых волосах". Человек этот почему-то
вызывает смех у прохожих:
"Убедившись, что в одежде и повадках его нет ничего смешного, я
собрался уже отвести от него взгляд, как вдруг он обо что-то споткнулся.
Я
шел следом за ним и потому стал внимательно смотреть под ноги, но на том
месте не оказалось ничего, решительно ничего. Мы оба шли дальше, он и я,
на
том же расстоянии друг от друга и спокойно достигли перехода, и вот тут
человек впереди меня, спрыгивая со ступенек тротуара на мостовую, начал
высоко выбрасывать одну ногу-- так скачут дети, когда им весело. Другую
сторону перехода он одолел одним махом. Но едва оказался наверху, он
вскинул
одну ногу и подпрыгнул и тотчас притопнул опять. Легко можно было
решить,
что он споткнулся, если уговорить себя, что на его пути оказалось мелкое
препятствие -- косточка, скользкая фруктовая кожура -- что-нибудь в
таком
роде; странно, что и сам он, кажется, верил в существование помехи, ибо
он
всякий раз оборачивался на досадившее место с видом упрека и
недовольства,
свойственного людям в подобных случаях. Снова что-то толкнуло меня
перейти
на другую сторону, и снова я не послушался, я по-прежнему шел за ним,
все
свое внимание устремив ему на ноги. Должен признаться, я вздохнул с
облегчением, когда шагов двадцать он спокойно прошел, не подпрыгивая,
но,
подняв глаза, я заметил, что его мучит новая незадача. У него поднялся
воротник пальто, и как ни старался он его опустить, то одной рукой, то
обеими сразу, у него ничего не получалось. Такое с каждым может
случиться. Я
ничуть не встревожился. Но далее с беспредельным изумлением я обнаружил,
что
суетливые руки проделывают два жеста: один быстрый тайный жест украдкой
вздергивает воротник, а другой подробный, продленный, как бы
скандированный
-- его опускает. Наблюдение это до того меня ошарашило, что лишь две
минуты
спустя я сообразил, что жуткое двухтактное дерганье, едва оставив его
ноги,
перекинулось на шею за поднятым воротом и в беспокойные руки. С того
мгновения я с ним сросся. Я чувствовал, как это дерганье бродит по телу,
ища, где бы вырваться. Я понимал, как он боится людей, и сам я уже
пытливо
вглядывался в прохожих, чтобы увериться, что они ничего не заметили.
Холодное острие вонзилось мне в хребет, когда он опять чуть заметно
подпрыгнул, и я решил споткнуться тоже, на случай если это заметят.
Можно
таким способом убедить любопытных, что на дороге в самом деле ле
55
жит какой-то пустяк, об который мы спотыкаемся оба. Но покуда я
размышлял, как ему помочь, он сам нашел новый прекрасный выход. Я забыл
упомянуть, что у него была трость? <...> В судорожных поисках выхода он
вдруг сообразил прижать трость к спине, сперва одной рукой (мало ли на
что
могла пригодиться другая), хорошенько прижать к позвоночнику, а
набалдашник
сунуть под воротник, подперев таким образом шейный и первый спинной
позвонки. В этом маневре не было ничего вызывающего, он разве чуть-чуть
отдавал развязностью, но нежданно весенний день вполне ее извинял. Никто
и
не думал на него оборачиваться, и все теперь шло хорошо. Шло как по
маслу.
Правда, на следующем переходе прорвалось два прыжка, два крохотных,
сдавленных прыжочка, совершенно безобидных, а единственный заметный
прыжок
был обставлен так ловко (как раз на дороге валялся шланг), что
решительно
нечего было бояться. Да, все шло хорошо. Время от времени вторая рука
вцеплялась в трость, прижимала ее к спине еще тверже, и опасность
преодолевалась. Но я ничего не мог поделать -- страх мой все возрастал.
Я
знал, что покуда он безмерно силится выглядеть спокойным и небрежным,
жуткое
содрогание собирается у него в теле, нарастает и нарастает, и я в себе
чувствовал, как он со страхом за этим следит, я видел, как он вцепляется
в
трость, когда его начинает дергать. Выражение рук оставалось строгим и
непреклонным, я всю надежду возлагал на его волю, должно быть слабую. Но
что
воля?.. Настанет миг, когда силы его истощатся, и теперь уж недолго. И
вот,
идя за ним следом с обрывающимся сердцем, я, как деньги, копил свои
жалкие
силы и, глядя ему на руки, молил принять их в нужде.
Думаю, он их и принял. Моя ли вина, что их было так мало...
На Place Saint-Michel было большое движение, сновал народ, то и дело мы
оказывались между двух экипажей, и тут он переводил дух, отдыхал, что
ли, и
тогда случался то кивок, то прыжок. Быть может, то была уловка пленной,
но
несдававшейся немочи. Воля была прорвана в двух местах, и в бедных
пораженных мышцах засела сладкая покорная память о заманчивом
возбуждении и
одержимость двухтактным ритмом. Палка, однако, была на месте, руки
глядели
зло и надменно; так мы ступили на мост, и все шло сносно. Вполне сносно.
Но
здесь в походке появилась неуверенность, два шага он пробежал бегом-- и
остановился. Остановился. Левая рука тихо выпустила трость и поднималась
--
до того медленно, что я видел, как она колышет воздух. Он чуть сдвинул
на
затылок
56
шляпу и потер лоб. Он чуть повернул голову, и взгляд скользнул по небу,
домам, по воде, ни на чем не удерживаясь, и тут он сдался. Трость
полетела,
он раскинул руки, будто собрался взмыть, и как стихия его согнула,
рванула
вперед, швырнула назад, заставила кивать, гнуться, биться в танце среди
толпы. Тотчас его обступили, и уже я его не видел.
Какой смысл был еще куда-то идти? Я был весь пустой. Как пустой лист
бумаги, меня понесло вдоль домов, по бульварам обратно" (Рильке 1988:
60--63). Как видно из процитированного, между Бригге и тощим субъектом
устанавливается почти полная идентификация, и происходит это как раз в
том
режиме, который описан Бахтиным (см. главу 1). Глаз наблюдателя
неотрывно
привязан к телу, за которым он следует. При этом глаз как бы
аннигилирует
расстояние между ним и объектом наблюдения. Внимание почти целиком
сосредоточено на деталях -- руках, трости, ногах, так что общая
перспектива
как бы исчезает -- снимается. Это "бесперспективное зрение" производит,
однако, существенную трансформацию в позиции наблюдателя. Последний как
бы
соединяется с наблюдаемым в единый агрегат, в котором невозможно
отделить
авторское чтение текста чужого тела от собственного его поведения. По
существу, Бригге срастается с субъектом в единую машину, части которой
притерты друг к другу как демон и его двойник, как тело и его
миметическая
копия.
Субъект включает в свое тело ось -- трость, которая дублирует
позвоночник и пронизывает тело подобно некому механическому элементу
(ср. с
наблюдением Музиля об овеществлении людей у Рильке). И сейчас же
аналогичная
ось возникает в теле наблюдателя, которое впервые механически повторяет
движения субъекта:
"Холодное острие вонзилось мне в хребет, когда он опять чуть заметно
подпрыгнул, и я решил споткнуться тоже..." Эта механическая
синхронизация
двух тел первоначально задается взглядом, прикованным к ногам и рукам
субъекта. Взгляд и есть острие, которое неожиданно возвращается из
преследуемого тела и впивается в тело рассказчика.
Но это острие, разгоняющее механизм мимикрии, есть лишь дублирование
того жала2 (того взгляда), которым наблюдатель вампирически прикован к
наблюдаемому. Он стремится целиком завладеть им, он делает все, чтобы
субъект не был замечен окружающими, и в ужасе отступает, когда толпа
окружает его двойника. Он теряет тело преследуемого и воспринимает эту
потерю как потерю себя самого: "Какой смысл был еще куда-то идти? Я был
весь
пус-
___________
2 Валерий Подорога высказал мнение, что жало (в его случае голос)
преобразует тело в плоть, которая в отличие от инертного тела обретает
миметические способности. -- Подорога 1993а: 60--70.
57
той". То, что преследуемый предстает наблюдателю только со спины, имеет
особое значение. Отсутствие лица деперсонализирует его, делает его
удобной
маской, за которой можно скрыть собственный невроз преследователя.
Преследователь помещает себя в машину и скрывает свой собственный невроз
в
приводном механизме чужого невроза. Показательно, что тогда, когда
преследователь решает сымитировать странное телодвижение субъекта,
решает
"споткнуться", он нагромождает целый ряд мотивировок и объяснений: "...я
решил споткнуться тоже, на случай, если это заметят. Можно таким
способом
убедить любопытных, что на дороге в самом деле лежит какой-то пустяк, об
который мы спотыкаемся оба". Бригге придумывает мотивировку, чтобы
самому
совершить невротическое действие.
Интересна сущность этой мотивировки. Бригге имитирует субъекта якобы
для того, чтобы окружающие не заметили странности поведения последнего.
Экстравагантный жест мотивируется камуфляжем: я повторяю странное
движение,
чтобы была не замечена странность оригинала. Вообще все поведение
субъекта
-- не столько борьба с некой подчиняющей его себе силой, сколько борьба
со
стремлением разыграть нечто театральное, таящее в себе и
привлекательность и
угрозу. Наблюдатель отпадает от наблюдаемого в тот момент, когда он
входит в
миметический круг толпы, тем самым отводя своему преследователю лишь
роль
зрителя, но не двойника. Когда субъекта окружают люди, они тем самым
исключают Бригге из ситуации имитации, дублирования, мимикрии.
Но что, собственно, обещает субъекту эта отчаянная финальная
театрализация поведения: "...стихия его согнула, рванула вперед,
швырнула
назад, заставила кивать, гнуться, биться в танце среди толпы. Тотчас его
обступили, и уже я его не видел". Рильке не случайно, конечно,
использует
для движений его персонажа определение -- танец.
Переход от сдержанности к этому танцу описывается Рильке в нескольких
плоскостях. Прежде всего, это переход от одного типа театральности,
когда
субъект разыгрывает естественность, спокойствие, "нормальность", к
другому
типу театральности, когда актер вдруг сбрасывает с себя личину
персонажа,
но, вместо того чтобы обнаружить под ней "обычное" тело, обнаруживает
вдруг
сверхгистриона. Пока субъект играет некоего персонажа, пока он
демонстрирует
технику удвоения и идентификации, он включает в свою орбиту наблюдателя.
В
тот же момент, когда он непосредственно переходит к сверхгистрионству
танца,
наблюдатель исключается из цепочки мимикрий и дублирований.
В результате тело "субъекта" как бы переворачивает классические
театральные отношения. То, что выдает себя за хороший театр, --
изображение
естественности -- постоянно читается как маска, как фальшь. И в то же
время
сверхгистрионизм одержимости во
58
всей преувеличенности его танца, во всей чрезмерности его знаков
читается как подлинное. История, описанная Рильке, поэтому может
пониматься
как история обнаружения актерского, заведомо фальшивого как подлинного.
Октав Маннони как-то заметил, "что театр в качестве институции
функционирует
как прирожденный символ отрицания (Verneinung), благодаря чему то, что
представлено по возможности как истинное, одновременно представляется
как
фальшивое..." (Маннони 1969: 304).
Эта фальшь подлинного и подлинность фальшивого делают противоречивой
модальность чтения текста и более чем неопределенной позицию
наблюдателя. В
романе Рильке смягчает те откровенные эротические обертоны, которыми
окружена сцена финального прорыва в письме:
"Теперь я был буквально за его спиной, полностью лишенный всякой воли,
влекомый его страхом, уже не отличимым от моего собственного. Вдруг
трость
его полетела в сторону, прямо посреди моста. Человек встал; непривычно
тихий
и одеревеневший, он не двигался. Он ждал;
казалось, однако, что враг внутри него еще не поверил в то, что он
сдался, -- он колебался, разумеется, не более мгновения. Потом он
вырвался,
как пожар, изо всех окон одновременно. И начался танец. <...> Вокруг
него
сейчас же образовался тесный кружок, который постепенно оттеснил меня
назад,
и я больше не мог видеть его. Мои колени дрожали, меня лишили всего. Я
стоял
белый, облокотясь на парапет моста, и в конце концов пошел домой;
не было никакого смысла уже идти в Bibliotheque Nationale. Где та
книга, которая способна помочь мне перебороть то, что было во мне? Я
чувствовал себя использованным; как будто чужой страх изъел меня и
измучил,
вот как я чувствовал" (Рильке 1988а: 29).
Человек в письме к Лу Андреас-Саломе почти превращается в фаллический
придаток самого Рильке. Рильке описывает свое предельное изнеможение, за
которым следует совершенно оргиастическое поведение человека-фаллоса,
который замирает, деревенеет, покуда из него не вырывается подобно
пожару
подавленная в нем энергия. И этот оргазм завершается окончательной
выжатостью поэта: "Мои колени дрожали, меня лишили всего. Я стоял
белый..."
Оргазм делает понятным и педалируемый во всем фрагменте мотив стыда,
страха быть увиденным, застигнутым врасплох. Театр, таким образом,
воистину
становится театром сексуальности, в котором снимается различие между
чрезмерностью и истинностью, эксгибиционизмом и правдой. Но этот же
театр
можно прочесть и как театр смерти, а последний танец "субъекта" как
агонию.
59
2. Членораздельность и "детерриториализация"
Рильке подчеркивает одну деталь. Раскрепощение "субъекта" наступает в
момент, когда он отбрасывает палку. Этот протез оказывается по-своему
связанным с наблюдателем. Он также отпадает за ненадобностью. Палка
работает
не просто как механическая ось, сцепляющая в единый машинный агрегат
Рильке
и субъекта, или как субститут взгляда. Она же действует и как протез,
как
третья нога, которая, вместо того чтобы облегчить движение человека,
затрудняет его. Трость оказывается "противодействующим" протезом. В
такой
функции ее использовал, например, Герман Брох в романе "Сомнамбулы". В
начале романа он дает подробный портрет господина фон Пазенова. Походка
фон
Пазенова характеризуется как чудовищная, вызывающая отвращение,
провоцирующая. Особый смысл походке фон Пазенова придает трость, которую
он
при каждом шаге ритмически вздымает чуть ли не до уровня колен:
"Таким образом, две ноги и трость продолжили вместе, вызывая невольную
фантазию, что этот человек, родись он лошадью, был бы иноходцем; но
самым
чудовищным и отвратительным было то, что он был трехногим иноходцем,
треногой, которая привела себя в движение. Не менее ужасающим было и
сознание того, что трехногая целесообразность человеческой походки была
столь же обманчивой, как и ее неснижаемая скорость: что направлена она
была
совершенно ни на что! Так как ни один человек с серьезной целью не мог
бы
идти таким образом..." (Брох 1986: 10)
Трость, призванная своей механистичностью внести в походку особую
рациональность движущейся машины, а следовательно, и иллюзию
целесообразности и целенаправленности всему движению, в реальности
действует
вопреки своему предназначению. Она вообще не используется для ходьбы. И
все
же ее ортопедическая функция не отменена до конца. Она выражена в
последних
фразах эпизода, как в романе, так и в письме. В обоих случаях речь идет
о
беспомощности книги, письма, бумаги перед лицом наблюдаемого телесного
эксцесса. В романе Бригге сравнивает себя с "пустым листом бумаги".
Писатель
как бы впустую тратит энергию, он не в состоянии превратить наблюдаемый
им
эпизод в слова, в текст3.
Брох отмечает как самое неприятное в походке фон Пазенова иллюзию
смысла, цели, которую придает трость, но которую эта же
_________
3 В письме Лу Андреас-Саломе от 13 мая 1904 года Рильке говорит о
старых книгах и документах как о текстах с утерянным кодом, в которых
зашифрован некий пульс телесности: "Во всех своих нервах я ощущал
близость
судеб, возбуждение и вздымание фигур, от которых ничто меня не отделяло,
кроме глупой неспособности читать и интерпретировать старые знаки и
вносить
порядок в пыльную сумятицу старых бумаг" (Рильке 1988а: 52).
60
трость и разрушает. Трость действует как нечто членящее,
дисциплинирующее, дробящее, как странное воплощение самого
лингвистического
процесса, членящего, дробящего, фрагментирующего. Отброшенная трость --
это
и отброшенный протез лингвистического, без которого наблюдатель остается
"пустым листом бумаги", выжатой как лимон дрожащей телесной оболочкой.
Объект же наблюдения -- невротическое тело, -- достигнув
квазиэротического
пароксизма, выходит за рамки артикулируемого, в том числе и
членораздельной
речи. Членораздельность как будто имитирует разделенность членов -- ног
и
трости.
В стихотворении Бодлера "Семь стариков" описывается создание,
напоминающее фон Пазенова, но еще более пугающее. Механичность
возникающего
в видении Бодлера страшного старика оказывается в данном случае
связанной не
только с расчлененностью тела и дискурса, но и с их репродуцируемостью,
дублируемостью:
Согнут буквою "ге", неуклюжий, кургузый,
Без горба, но как будто в крестце перебит!
И клюка не опорой казалась -- обузой
И ему придавала страдальческий вид.
<...>
Вслед за ним, как двойник, тем же адом зачатый, --
Те же космы и палка, глаза, борода, --
Как могильный жилец,
как живых соглядатай,
Шел такой же -- откуда? Зачем и куда?
Я не знаю -- игра наваждения злого
Или розыгрыш подлый, -- но грязен и дик,
Предо мной семикратно -- даю в этом слово! --
Проходил, повторяясь, проклятый старик"
(Бодлер 1970: 148; пер.В.Левика)4.
_____________
4 II n'etait pas voute, mais casse, son echine
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Si bien que son baton, parachevant sa mine,
Lui donnait la tournure et le pas maladroit.
Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos, baton, loques,
Nul trait ne distinguait, du meme enfer venu,
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques
Marchaient du meme pas vers un but inconnu.
A quel complot infame etais-je done en butte,
Ou quel mechant hasard ainsi m'humiliait?
Car je comptais sept fois, de minute en minute
Ce sinistre vieillard qui se multipliait!
(Бодлер 1961:98)
Комментатор "Цветов зла" Антуан Адан указывает на связь между этим
стихотворением Бодлера и романом Рильке (Бодлер 1961: 382).
61
Механичность тела тянет за собой его повторяемость, она как бы
воспроизводит себя в копирующих его механических же "демонах". Клюка и
перебитость крестца как будто включают спрятанный в теле старика
репродуктивный механизм. Вальтер Беньямин записал по поводу "Семи
стариков"
Бодлера: ""Семь стариков" -- по поводу вечного возвращения того же
самого.
Танцовщицы в мюзик-холле" (Беньямин 1989: 341). Танцовщицы обладают той
же
механической умножаемостью (Бак-Морсс 1989:191).
Умножаемость, удвояемость тела связана с его членимостью. В момент же,
когда членимость исчезает, поглощается органоморфностью, множественность
сливается в нерасчленимость толпы, в которой двойничество переходит в
неразделимую слиянность.
Членораздельность отбрасывается в момент, когда субъект растворяется в
толпе и выпадает из поля зрения. Его финальная трансформация совпадает с
наступающей слепотой наблюдателя, блокирующей словесное выражение. Все
движение наблюдаемого персонажа -- это движение к той самой финальной
танцевальной метаморфозе, за которой следует немота. По существу, это
движение совпадает с движением языка, который достигает такой границы
выразимости, за которой наступает молчание непереводимых интенсивностей.
Жиль Делез и Феликс Гваттари показали, что именно такое движение
свойственно так называемым "малым" или, точнее, "маргинальным"
литературам
(litterature mineure), к числу которых они относили немецкоязычную
литературу Праги, представителем которой и был Рильке (ср. его занятия
русским языком и попытки писать стихи по-русски, его занятия датским или
увлечение словарем Гримма, понимаемым как инструмент "расширения
языкового
сознания"):
"Пражский немецкий -- это смещенный язык, он подходит для странного и
маргинального употребления" (Делез -- Гваттари 1986:17).
По мнению Делеза и Гваттари, такая маргинальная литература широко
использует что-то вроде "тензоров", математических величин, по-разному
описываемых в различных системах координат. Они подобно векторам
указывают
на некие преобразования, а не понятия. В языке такое указание может
осуществлять особое распределение гласных и согласных, интонационный
строй
речи и т. д. Короче,
"язык перестает быть репрезентативным, чтобы отныне двигаться к
своим границам, к экстремам. Эту метаморфозу сопровождает коннотация
боли..." (Делез -- Гваттари 1986:23).
Движение субъекта к финальному исчезновению -- и есть движение к
молчанию, используя выражение Делеза -- Гваттари, к
"детерриториализации"
языка.
62
Гоголь с его украинизмами и всей историей его постепенно преодолеваемой
провинциальной маргинальности в значительной степени также относится к
разряду "малой" литературы. Напомню хотя бы список украинизмов,
открывающий
первую книгу Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки":
"На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю
сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому
понятны" (Гоголь 1952, т. 1: 7).
Бахтин решительно определял гоголевскую речь как нелитературную и
ненормативную (Бахтин 1975: 491--492). Уже в таком раннем гоголевском
тексте, как "Сорочинская ярмарка", дается яркий образец поглощения
артикулированной телесности в стихии нечленораздельной речи:
"Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад,
когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков
вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства
мгновенно
обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в
одно
огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по
тесным
улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, блеяние, рев-- все
сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки,
бабы,
пряники, шапки-- все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется
перед
глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не
выхватывается, не спасается от этого потопа; ни один крик не
выговаривается
ясно" (Гоголь 1952, т.1: 14-15).
Толпа здесь -- знак хаоса, поглощающего как отдельные тела и предметы,
так и собственно речь, которая могла бы этот хаос артикулировать. При
этом
распад визуальных связей, когда все "мечется кучами и снуется перед
глазами", вводится Гоголем в подчеркнутый параллелизм с исчезновением
речи.
Любопытно, что оба параллельных ряда организованы Гоголем по модели
перечислений, имитирующих распад синтагматического мышления в
потенциально
бесконечном развертывании свободно организованной номинации. Список
"непонятных" читателю украинизмов в предисловии предвосхищает такого
рода
ряды. Диалектизм, литературная маргинальность заявляют о своей
потенциальной
принадлежности к трансрациональному.
В описании ярмарки "шум, брань, мычание, блеяние, рев" оказываются
по-своему аналогичны другому ряду: "Волы, мешки, сено, цыганы, горшки,
бабы,
пряники, шапки". Если же приглядеться внимательней к характеру этих
перечислительных рядов, то мы увидим, что в них разворачивается
регрессия
человеческого на ста-
63
дию животного. Шум, брань переходят в мычание и блеяние. В' втором ряду
регрессивный ряд еще более радикален. Здесь смешиваются люди (цыганы,
бабы)
с животными (волы) и предметами.
При этом регрессия речи сопровождается разрушением традиционных
иерархий, в которых человек стоит выше животного и неодушевленных
предметов.
Если первый (звуковой) ряд еще подчиняется некой регрессивной иерархии
(человеческие звуки предшествуют мычанию и блеянию), то визуальный ряд
представляет уже совершенно аиерархический хаос. Сквозь такого рода
словесные конструкции просвечивает не просто "детерриториализация"
языка, но
"детерриториализация" тел.
Вспомним, что Рильке ввел описанный им эпизод рассуждениями о том, что
люди в Париже претерпевают странные метаморфозы, превращаются в
марионеток,
в обломки кариатид5:
"Куски, куски людей, части животных, остатки бывших вещей, и все это
еще в движении, словно гонимое каким-то зловещим ветром, несущее и
носимое,
падающее и само себя в падении перегоняющее".
В этом контексте и тело "субъекта" -- это тело, влекомое к метаморфозе,
а в пределе -- к исчезновению, выходу за пределы зрения и языка. Он
исчезает
в толпе, как в неком телесном агрегате, в котором происходит
размельчение,
раздробление на куски, трансформация автономного тела в некую
субстанцию,
которую Делез и Гваттари называют "молекулярным" ("становлением
молекулярного").
То, что происходит с "субъектом", -- это по существу заторможенное
напряжение некой телесной метаморфозы, почти кафкианской. В теле
преследуемого бродит какая-то нечеловеческая сила, которая стремится
найти
выход наружу, прорвать оболочку, вывернуть ее наизнанку:
"...Жуткое двухтактное дерганье, едва оставив его ноги, перекинулось на
шею за поднятым воротом и в беспокойные руки. С того мгновения я с ним
сросся. Я чувствовал, как это дерганье бродит по телу, ища, где бы
вырваться..." Метаморфоза задается как прорыв изнутри. Палка оказывается
отчасти и знаком того твердого и предельно напряженного, что пока еще
таится
в теле, это фальшивый знак (семиотический протез) еще не явленного
означающего. Рильке видел напряжение такого рода потенции в жестикуляции
статуй Родена:
__________
5 Рильке в данном случае буквально следует за Бодлером, для которого
человеческие обломки, "руины" -- одновременно и антигравитационные
марионетки. См. стихотворение "Старушки":
То бочком, то вприпрыжку -- не хочет, а пляшет,
Будто дергает бес колокольчик смешной,
Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет
Невпопад!
(Бодлер 1970: 150; перевод В. Левика).
64
"Жест, произраставший и постепенно развившийся до такой силы и величия
<...> пробился родником, тихо стекающим по телу. <...> Об этом жесте
можно
сказать, что он почиет в твердом бутоне" (Рильке 1971:103--104). При
этом
каждая точка, в которой сосредоточено напряжение, описывается Рильке как
рот, как множество ртов, покрывающих тело (Рильке 1971: 103). Речь идет
именно о прорыве слова из тела, вернее не слова как такового, но знака.
Страх Бригге-Рильке в значительной мере является страхом перспективы
рождения чего-то неведомого, неописуемого, невыразимого, выворачивания
наружу чудовища. Рождение монстра и происходит внутри толпы, которая
сама
уже есть монстр, молекулярный агрегат, выходящий за пределы возможностей
описания (ср. с гоголевским: "...весь народ срастается в одно огромное
чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам,
кричит, гогочет, гремит").
Но страх этот задается и отсутствием пространства между наблюдателем и
наблюдаемым. "Бесперспективное зрение", описанное Бахтиным на примере
следования повествователя за Голядкиным, предполагало страх, которым
насквозь пронизан "Двойник". Дистанцированность, перспектива-- это еще и
безопасность, это еще и право оставаться развоплощенным взглядом,
наделенным, как всякое бестелесное присутствие, особой властью и
неуязвимостью. "Бесперспективное зрение", не позволяя дистанцироваться
от
объекта наблюдения, разрушает традиционно присущий рассказчику статус
субъекта, помещенного в точку зрения воображаемой перспективы. Оно
подводит
нарратора на расстояние прикосновения, которое представляет для него
опасность. Элиас Канетти заметил:
"Ничего так не боится человек, как непонятного прикосновения. Когда
случайно дотрагиваешься до чего-то, хочется увидеть, хочется узнать
или по крайней мере догадаться, что это. Человек всегда старается
избегать
чужеродного прикосновения. Внезапное касание ночью или вообще в темноте
может сделать этот страх паническим. Даже одежда не обеспечивает
достаточной
безопасности:
ее так легко разорвать, так легко добраться до твоей голой, гладкой,
беззащитной плоти" (Канетти 1990: 391). Этот страх связан с тем, что
прикосновение к телу превращает его в объект еще в большей степени, чем
взгляд, обращенный на него. Прикосновение заставляет тело пережить
глубокую
метаморфозу (переход от субъектности к объектности), оно разрушает,
казалось
бы, незыблемый статус наблюдающего субъекта.
Фрейд говорил о табу прикосновения и описывал невротическую практику
подавления страха через "изоляцию" тревожащего предмета. В принципе,
фрейдовская изоляция сопоставима с пространственным дистанцированием, но
она
также направлена на разруше-
65
ние сложившихся ассоциативных цепочек. Фрейд, в частности, упоминает
"моторную изоляцию": "Моторная изоляция призвана обеспечить разрыв
связей в
мышлении" (Фрейд 1979: 276). Фрейдовская "изоляция" в интересующем меня
контексте может действовать по-разному в разных ситуациях. Она может
держать
"опасное" тело на расстоянии, но она может и приблизить его,
компенсировав
ослабление пространственной изоляции моторной. В таком случае "опасное
тело"
перестает функционировать согласно "органической" логике телесности, но
как
бы дробит жестикуляционную синтагму на изолированные, не связанные друг
с
другом элементы.
Описанная Рильке ситуация разворачивается следующим образом:
наблюдатель следует за субъектом, постепенно он начинает имитировать
его,
повторять каждое из его движений, и по мере этого повторения, этого
копирования, этого незаметного превращения в зеркальное отражение
субъекта,
расстояние между ними сокращается почти до нуля: "Теперь я был буквально
за его спиной, полностью лишенный всякой воли, влекомый его страхом, уже
не отличимым от моего собственного".
Это сокращение расстояния, сопровождающееся нарастающим страхом
наблюдателя, одновременно провоцирует цепочку "моторных изоляций",
делающих
поведение наблюдаемого тела все менее связным. Уничтожение расстояния
между
преследователем и преследуемым приближает метаморфозу наблюдаемого, но и
метаморфозу самого наблюдателя. Она предопределена заранее имитацией
зеркальности. Зеркальное отражение тела, хотя оно и дается зрению как
нечто
внешнее, видимое со стороны, остается странной смесью внешнего и
внутреннего. Приведу пояснения Мориса Мерло-Понти:
"Мое тело в зеркале продолжает, как тень, следовать моим намерениям,
если же наблюдение сводится к варьированию точки зрения и сохранению
объекта
в неподвижности, оно ускользает от наблюдения и дается в качестве
симулякра
моего тактильного тела, поскольку оно имитирует инициативы, вместо того
чтобы отвечать им свободным разворачиванием перспектив. Мое визуальное
тело
-- это предмет, в том что касается частей, удаленных от моей головы, но
стоит приблизиться к глазам, оно отделяется от предметов и организует
среди
них квазипространство, в которое предметам нет доступа, когда же я хочу
заполнить это пространство с помощью изображения в зеркале, оно вновь
отсылает меня к оригиналу тела, находящемуся не там, среди вещей, но с
моей
стороны, вне всякого зрения" (Мерло-Понти 1945:107--108). Если довести
до
известного совершенства двойничество, если действительно превратиться в
демона, так что каждому движению тела будет соответствовать движение
глаз,
движение преследующего
66
субъекта, то тело-отражение, тело-двойник вообще исчезнет из поля
зрения как внешний, визуальный симулякр и неожиданно трансформируется
в тактильный симулякр, магически имитирующий внутренние интенции тела,
вместо того чтобы имитировать пространство, "свободное разворачивание
перспектив". Внешнее здесь превращается во внутреннее. И это превращение
--
заключительный этап метаморфозы наблюдателя в наблюдаемого. Рильке в
"Записках" пишет о странной метаморфозе, которой подвергалось тело
Бригге в
зеркале, когда внешняя оболочка тела -- костюм -- неожиданно становилась
носителем собственной воли, когда воление начинало исходить не изнутри,
но
как бы снаружи:
"Тогда-то узнал я, какую власть имеет над нами костюм. Едва я облачался
в один из этих нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в
зависимость; что он мне диктует движения, мины и даже прихоти; рука, на
которую все опадал кружевной манжет, уже не была всегдашней моей рукою;
она
двигалась как актер и даже сама собой любовалась, каким это ни звучало
бы
преувеличением" (Рильке 1988: 83).
Показательна эта способность руки наблюдать за собой, то есть
осуществлять видение без собственного органа зрения. Дело доходит до
того,
что зеркальное изображение выворачивает себя наизнанку и в конце концов
парадоксально предъявляет наблюдателю его самого по "эту" сторону
зеркала,
то есть вне поля зрения. Метаморфоза протекает через подавление зрения
как
такового.
Роже Кайуа, рассматривая миметизм как своего рода "психастению",
слабость ego, стремящегося деперсонализироваться и превратиться в
"другого", считал, например, что подавление зрения, темнота ночи--
необходимые условия для такой психастенической трансформации:
"...Темнота-- это не просто отсутствие света; в ней есть что-то
позитивное. В то время как освещенное пространство стирается перед
материальностью предметов, темнота "насыщена", она непосредственно
касается
индивида, окутывает его, проницает и даже проходит насквозь:
таким образом, "Я" оказывается проницаемо для темноты, но не для света"
(Кайуа 1972:109).
В этом смысле подавление дистанцированного, перспективного видения
оказывается необходимым условием для метаморфозы.
Рильке описывает ситуацию опасного сближения двух тел, исчезновения
пространства между ними, установления миметической психастении,
приводящей к
деперсонализации. И этому постепенному стиранию границ между телами,
выворачиванию внутреннего во внешнее и наоборот соответствует
конвульсивное
выбухание иного, нового, миметического тела изнутри преследуемого. Тело
--
это не что иное, как зеркальное отражение самого Бригге, которого рож-
67
дает преследуемый им неврастеник. "Другой", сидящий в нем, -- это
тактильный симулякр, оказавшийся по "эту" сторону зеркала, но все еще
находящийся внутри.
3. Внутреннее/внешнее
Рильке был заворожен трансформациями, связывающими внутреннее с
внешним6. След этой завороженности очевиден в письме к Лу Андреас-Саломе
от
20 февраля 1914 года:
"Я понял лучше, чем это когда-либо ранее дано мне было понять, каким
образом эволюционирующее создание переводится все далее и далее из
[внешнего] мира в мир внутренний. Особенно изумительное место в этом
путешествии вовнутрь занимает птица: ее гнездо, это по сути дела внешнее
лоно, подаренное ей Природой, лоно, которое она обставляет и покрывает,
вместо того чтобы содержать его внутри себя" (Рильке 1988а: 238). Рильке
утверждает, что птица не различает между внутренним и внешним, а потому
ее
пение "превращает весь мир во внутренний ландшафт"7. Свои рассуждения о
диалектике внутреннего и внешнего Рильке завершает следующим образом:
"Прекрасен пассаж, касающийся "двух тайн": тайны, охраняющей то, что
внутри, и тайны, исключающей то, что снаружи.
Растительный мир превосходно демонстрирует, что он не делает тайны из
своих тайн, как будто знает, что они и так будут всегда в сохранности.
Но
именно это я ощутил перед скульптурами в Египте, именно это я всегда с
тех
пор и чувствовал перед лицом всего египетского: это обнажение тайны и
есть
тайна с начала и до конца, в каждом своем миллиметре, так что нет нужды
ее
прятать. Возможно, что все фаллическое (такова была моя интуиция в
Карнакском храме, я даже и сейчас не смог бы об этом мыслить) -- это
лишь экспонирование человеческой "интимной тайны" в смысле "открытой
тайны"
Природы" (Рильке 1988а: 240).
____________
6 См. "Восьмую Дуинскую элегию":
Вся тварь земная множеством очей
глядит в открытый мир. Лишь наши очи
погружены всегда в самих себя
и вольный мир не видят из капкана
(Рильке 1977: 292; пер. Г. Ратгауза).
7 По мнению Отто Ранка, птичье гнездо -- это вынесенная наружу матка.
Это выворачивание внутреннего наружу засвидетельствовано в целом ряде
поверий относительно способности матки выходить подобно зверю из
материнского организма наружу, например через рот. - Ранк 1993: 16--17.
68
Выпячивание, выставление интимного как некой внутренней тайны,
фаллическое обнажение чудовищного, превращение внутреннего во внешнее,
все
это происходит под напором изнутри. Птица выворачивает свою интимность
наружу, тем самым смешивая внешний мир с собственным сердцем. Смысл
"овнешняется", но от этого он не перестает быть внутренним, тайным.
Поэтому
момент финальной трансформации, момент оргиастического пароксизма
преследуемого, когда тот в конце концов отбрасывает всякую личину, чтобы
освободить свое "внутреннее", явить его миру, совпадает с моментом
ослепления. Обнаружение тайны, невидимого делает их еще более
непроницаемыми. Мартин Хайдеггер определил это свойство птицы, как и
поэта у
Рильке, как "незащищенность". И эта "незащищенность устанавливается
человеческой самоутверждающейся природой таким образом, что сама эта
незащищенность, обернувшись вокруг самой себя, охраняет нас в самой
сердцевинной и наиболее невидимой области широчайшего внутреннего
пространства мира. Незащищенность защищает сама по себе" (Хайдеггер
1971:129). Хайдеггер указывает, что рильковская "незащищенность" связана
со
способностью сознания вызывать из самых сокровенных глубин предметы,
обретающие присутствие (репрезентированность) в самой сердцевине
внутреннего, скрытого пространства.
Использованный Рильке образ птичьего гнезда до него интерпретировался в
сходном контексте Жюлем Мишле. Мишле утверждал, что круговая форма
гнезда
создается давлением на него тела птицы, которая по существу
воспроизводит
форму своего тела в создаваемой ею "архитектуре":
"Таким образом, дом -- это сам человек, его форма, его самое
непосредственное усилие; я бы сказал -- его страдание. Результат
возникает
благодаря постоянно повторяемому давлению груди. Нет ни одной травинки,
которая, ради того чтобы согнуться и сохранить кривизну, не была бы
тысячу
раз отжата грудью, сердцем, да так, что от этого наверняка перехватывало
дыхание и начинался сердечный трепет" (Мишле 1859: 209).
Мишле описывает создание гнезда со свойственной ему сентиментальностью.
Но описываемый им процесс относится к сфере отнюдь не сентиментальной.
Речь
идет о репродуцировании, копировании себя, снятии "маски" с собственного
тела. При этом давление изнутри (Мишле использует метафоры сердца и
дыхания)
производит внешнюю оболочку. Копирование понимается как выворачивание
наружу, как метаморфоза. Гастон Башляр заметил по поводу созданной Мишле
картины:
"Какая невероятная инверсия образов! Мы имеем грудь, созданную
эмбрионом. Все сводится к внутреннему давлению, физически господствующей
интимности.
69
Гнездо -- это набухающий плод, давящий на собственные границы" (Башляр
1994:101).
Это выдавливание тела из собственных границ может быть понято и как
причина движения тела в пространстве. Тело выходит из себя, тем самым
перемещаясь к некой точке, в которой осуществляется метаморфоза. В
"Ворпсведе" имеется странное описание голландских колонистов, чьи лица и
тела в какой-то мере сформированы по модели птичьего гнезда:
"У всех одно лицо: суровое, напряженное рабочее лицо, кожа которого,
растянувшись от беспрестанных усилий, в старости становится велика лицу,
точно разношенная перчатка. Видишь руки, чрезмерно удлиненные от всяких
тяжестей, спины женщин и стариков, скрюченные как деревья, всегда
выдерживающие один и тот же вихрь. Сердце сдавлено в этих телах и не
может
раскрыться. " (Рильке 1971:67)
Тело этих людей -- продукт деформации и давления. Они живут в своих
телах, которые то велики, то узки им, как внутри некоего отчужденного
чудовищного квазиархитектурного пространства.
Сходной пространственной структурой наделен знаменитый критский
лабиринт -- прототип всех лабиринтов (о лабиринте см. главу 3). Движение
в
нем часто уподобляется танцу. Известно, что, выйдя из Лабиринта и
достигнув
Делоса, Тесей отметил счастливый исход своего приключения танцем, в
котором
имитировались извивы лабиринта. С тех пор так называемый "танец
журавлей"
ритуально повторяет проход Тесея по лабиринту (Сантарканжели 1974:
221--233). Танцующее тело не просто проходит по воображаемому,
невидимому
(чаще всего лабиринтные танцы исполняются ночью) пространству, оно
строит
это пространство своим движением, оно формирует его наподобие того, как
птица формирует своим телом гнездо. Франсуаза Фронтизи-Дюкру утверждает,
например, что Лабиринт, по-видимому, вообще нельзя воспринимать как
некое
строение:
"Разнообразие форм, которые ему придаются на монетах в Кноссе, где он
представлен то крестообразно, то первоначально как прямоугольник, а
потом
как круг, и эквивалентность этой фигуры с излучиной [реки] (все на тех
же
Кносских монетах) не позволяет видеть в нем план здания. Все указывает
на
то, что речь идет о символической форме без архитектурного референта"
(Фронтизи-Дюкру 1975:143).
Лабиринт -- это внешний рисунок движения тела, устремленного к
трансформации. Лабиринтный танец ритуально начинается Движением влево --
в
сторону смерти и кончается тем, что цепочка танцующих меняет направление
и
символически воскресает. Танцующее, вьющееся тело чертит линию
метаморфозы. По мнению Жа-
70
на-Франсуа Лиотара, лабиринт "мгновенно возникает в том месте и в тот
момент (на какой карте, по какому календарю?), где проявляется страх"
(Лиотар 1974: 44). Страх сопровождает и порождает метаморфозы. Страх
сопровождает весь эпизод из романа Рильке. "Субъект" Бригге не просто
движется по бульвару Сен-Мишель, его тело излучает страх и прочерчивает
некую сложную диаграмму пути. Народ, экипажи на бульваре создают
движущуюся
стену-поток, которая обтекает идущего, формируя особое "миметическое"
пространство, порождаемое его собственным движущимся телом
"...Было большое движение, сновал народ, то и дело мы оказывались между
двух экипажей, и тут он переводил дух, отдыхал, что ли, и тогда случался
то
кивок, то прыжок "
Все зигзаги его пути, все прыжки, кульбиты, повороты, вздрагивания, все
отклонения от воображаемой прямой отражают структуру приложения сил,
которые
лишь визуализируются причудливым, лабиринтным маршрутом одержимого ими
тела
Рильке был заворожен картой Нила, чей абрис он прочитывал в категориях
лабиринтных, энергетических метаморфоз.
"Я достал для себя большой Атлас Andree и глубоко погружен в его
странно однородную страницу, я поражен течением этой реки, которая,
набухая
как контур Родена, содержит в себе богатство многоликой энергии,
повороты и
изгибы, подобные швам на черепе, производящие множество мелких жестов,
когда
она качается влево или вправо вроде человека, идущего через толпу и
что-то в
ней раздающего, -- то он видит кого-то, нуждающегося в нем, здесь, то
там,
но все же медленно продвигается вперед Впервые я ощутил реку так живо,
так
реально, почти как человека.." (Рильке 1988а' 113)
Показательно, конечно, что кривая линия, конвульсивная графема
персонализируется до образа человека, идущего в толпе Движение в толпе
--
это прежде всего перераспределение сил, это диаграмма, это лабиринт,
превращенный в след Но это одновременно и фигура письма Рильке
переживает
лабиринтное движение Нила как след на бумаге Энергия тела, как энергия
текста, -- в их извивах Трость, которую прижимает "субъект" к спине, --
это
прямая, получающая весь смысл только через кривизну лабиринта
Диаграммы конвульсивного тела, будь то антраша Чичикова или гоголевские
хохочущие тела, раздвоенное и безынерционное тело Голядкина или странные
извивы "субъекта" Рильке, -- это всегда тела в становлении, в
исчезновении
(не случайно и лабиринт на карте дается Рильке как река -- символ
напряженного становления и исчезновения) Тела эти даются читателю в
некой
особой перспективе, которая теснейшим образом связана с причудливостью
их
поведения. Гоголевское тело миметично по отношению к авторскому
71
сказу, Голядкин дается в "бесперспективном" "демоническом" зрении,
"субъект" Рильке выворачивается в собственного преследователя. Все эти
тела
находятся в особых, нестандартных отношениях с устремленным на них
взглядом,
они почти "патологически" сцеплены с описывающим их повествователем.
Плотность этого сцепления такова, что повествователь и персонаж образуют
"агрегат", единую машину, вырабатывающую как пластику персонажа, так и
позицию рассказчика, с этой пластикой тесно соотнесенную.
Конвульсивное тело во всех описанных случаях, но каждый раз по-разному,
исключает дистанцированный взгляд наблюдателя извне. Именно отсутствие
дистанцированности и позволяет машине удвоений работать как
энергетической
машине. Разумеется, и сверхудаленная, абстрактная точка зрения,
вынесенная
за пределы репрезентативного пространства, может порождать свои
напряжения и
искривления. Однако описываемая мной динамическая машина гораздо более
явно
связана с разного рода деформациями телесности.
Вспомним птицу Мишле. Ее активность целиком сводится к искривлению тех
травинок, которые она использует для построения гнезда. Искривление это
возникает благодаря тому, что птица (традиционный символ расстояния,
дистанцированности, свободы) включена в такую машину, где она вынуждена
вступать в отношения энергетического нажима на создаваемую ею копию
самой
себя Эта "копировальная машина" работает таким образом, что внутренняя
часть
гнезда имитирует наподобие отливочной формы внешний абрис тела.
Внутреннее
задается как копия внешнего, как видимая, эксгибируемая интроекция Эта
метаморфоза внешнего во внутреннее и наоборот возможна только благодаря
копированию, удвоению изгиба. Копирование же изгиба (деформации)
возможно
только в результате приложения сил, да такого, которое в перспективе
может
уничтожить саму птицу
Машина, производящая деформации, в значительной степени исключает слово
или детерриториализирует его. Деформации трудно описать, они гораздо
явственней переживаются тактильно, телесно, чем вербально и даже
зрительно.
Описываемая машина не только снимает расстояние потому, что расстояние
ослабляет действие сил, она снимает расстояние потому, что лишь
"бесперспективное видение" способно легко трансформироваться в
тактильность
Конвульсивная машина поэтому тяготеет к ночи, лабиринтности,
психастеническому расползанию ego, и в конечном счете -- к темноте, всем
тем
элементам, которые характеризуют регрессивную позицию.
Конвульсивная машина, смешивая внутреннее и внешнее, работает как
психика ребенка на параноидно-шизоидной стадии, описанной Мелани Клейн.
"Частичные объекты" Клейн интроецируют-
72
ся и попадают в неоформленную темную пропасть внутреннего пространства
и превращаются, по выражению Жиля Делеза, в агрессивные "симулякры".
Симулякры -- это "частичные объекты" без формы, объекты, которые нельзя
представить и вербализовать, они являются деструктивными сгустками
энергии,
погруженными в глубину тела и агрессивно воздействующими изнутри на его
границы, "они способны взорвать как тело матери, так и тело ребенка,
фрагменты одного всегда преследуют фрагменты другого и сами же
преследуемы
ими в той чудовищной сумятице, которая и составляет Страсти младенца"
(Делез
1969:260).
Поверхность тел, разделенная на эрогенные зоны, по мнению Делеза,
возникает в результате проекции частичных объектов из глубины.
Проецируясь
из глубины, они организуют поверхность тела, которая первоначально
строится
вокруг провалов в глубину-- телесных отверстий. Мы имеем здесь как раз
такой
же процесс проецирования глубины наружу, который иначе можно представить
как
процесс выворачивания под воздействием неких энергий и сил.
По наблюдению Мелани Клейн, параноидно-шизоидная стадия особенно ярко
проявляется на орально-анальном этапе развития сексуальности и
сопровождается сильными садистскими импульсами против "внутренних",
интроецированных объектов. При этом такие объекты могут находиться не
только
внутри ребенка, но и внутри тела его матери, так что
"атаки ребенка на внутренности материнского тела и пенис, который он в
них воображает, ведутся с помощью ядовитых и опасных выделений..."
(Кляйн
1960: 207) В дальнейшем ребенок переносит страх с интроецированных
частичных
объектов на внешний мир, внешние предметы и таким образом осуществляет
фундаментальную операцию приравнивания внутренних симулякров внешним
объектам. Но теперь уже не только внутренние симулякры проецируются
наружу,
но и внешние предметы поглощаются (интроецируются) внутрь. И вновь
внутренность материнского тела претерпевает метаморфозу:
".. Теперь внутренность ее тела представляет объект и внешний мир в
более широком смысле, дело в том, что теперь она стала местом, которое
содержит, в силу более широкого распределения диапазона страхов, больше
разнородных предметов" (Клейн I960: 208)
Клейн привела множество доказательств распространенности фантазий об
опасном отцовском пенисе, якобы содержащемся внутри материнского тела.
Сама
эта фантазия в значительной степени объясняет интенсивность садистского
импульса, направленного внутрь материнского тела. Пенис внутри-- это
невидимый орган, это частичный объект, который никак не поддается
описанию,
он выявляется лишь в страхе, тревоге, садистической агрессивности и
тематике
преследования.
73
Если использовать терминологию Рильке, мы имеем дело с внутренней
тайной, которая являет себя в обнаженном фаллосе или фалличности
египетских
скульптур и обелисков, как тайна вывернутая наружу, явленная.
Таинственным в
этой сверхэкспонируемой форме является след ее минувшего пребывания
внутри,
ее невидимости, которая согласно механизмам инверсии лишь проецируется
на
внешний объект. Но и сам жест открытия, обнаружения придает
экспонируемому
таинственность. Фаллос поэтому-- всегда лишь проекция внутреннего,
всегда
лишь симулякр, скрывающий тайну. Его "оригинал" принадлежит ядру,
непроницаемой оболочке материнского тела.
В преследовании Бригге тело преследуемого -- это тело рожающее,
выворачивающее наружу содержащийся в нем симулякр. Это тело, обнажающее
фаллос как тайну:
"Возможно, что все фаллическое (такова была моя интуиция в Карнакском
храме, я даже и сейчас не смог бы об этом мыслить) -- это лишь
экспонирование человеческой "интимной тайны" в смысле "открытой тайны"
Природы".
Тот факт, что Рильке через много лет после посетившего его "откровения"
все еще не может мыслить свою интуицию, свидетельствует лишь о том,
что машина обнажения тайны, машина выворачивания внутреннего действует
именно как силовая машина, производящая диаграммы и бросающая вызов
дискурсивности. Тайна обнажена, но выразить ее нельзя потому, что и
предъявленная она все еще остается тайной, "открытой тайной", если
использовать выражение Рильке. Обнажение правды целиком сосредоточено в
прорыве, в энергетической явленности, но не в мысли и не в словах.
Только в
таком виде явленная тайна сохраняет свою загадочность.
4. Диаграммы
Слова в принципе не в состоянии дать адекватного описания раздвоенной
телесности и "бесперспективного видения". Русский беллетрист Александр
Куприн опубликовал за несколько лет до того, как Рильке описал "субъекта
в
черном пальто", повесть "Олеся" (1898), в которую включил эпизод,
построенный вокруг идентичной ситуации раздвоенной, демонической
телесности.
Речь идет о неком "эксперименте", проводимом с повествователем
деревенской
"колдуньей" Олесей. Она заставляет рассказчика идти вперед, не
оборачиваясь:
"Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей
спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я
вдруг
споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком" (Куприн 1957: 279).
74
Опыт повторяется, и рассказчик без всякой видимой причины спотыкается и
падает вновь. На настойчивые расспросы Олеся отвечает достаточно
невнятно,
утверждает, что не может объяснить. И далее следует растолковывание
самого
повествователя:
"Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот
своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мной следом шаг за
шагом,
нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается
подражать
каждому, самому малейшему моему движению, так сказать отождествляет себя
со
мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно
воображать
на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги
на
аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой
воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по
ее
словам, самый крепкий человек должен непременно упасть <...> Только
много
времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет
доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками
Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я
был
очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья
прибегали в
подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход
хорошенькая полесская ведьма" (Куприн 1957: 279-280).
То, что Рильке описывает как странный жизненный опыт, Куприн описывает
как "фокус" или псевдонаучный эксперимент (любопытно, однако, что и
Рильке в
"Записках" упоминает Сальпетриер и помещает в эту лечебницу один из
эпизодов
романа). Характерно, что в конце приведенная им сцена превращается в
подобие
медицинского эксперимента Шарко над истеричками. Уравнение ведьмы с
истеричкой -- прямая дань позитивизму XIX века. Куприн начинает с
признания,
что он "не совсем понял ее", но далее достаточно внятно и плоско
"переводит"
невнятицу Олеси на жаргон квазинаучного описания.
Описание это любопытно. Во-первых, в отличие от текста Рильке,
повествователь здесь помещен первым в паре. Он не преследует, он сам
преследуем. В силу этого он занимает, так сказать, "слепую позицию", он
ничего не видит. Он просто падает ничком. Единственное, что он может
сообщить читателю по собственному опыту, -- это ощущение напряженного
взгляда Олеси. Поэтому все происходящее он вынужден описывать с чужих (и
невнятных) слов, со слов "демона", "преследователя". Из описания
становится
отчасти понятным сложное взаимоотношение тел. Идущий сзади до мельчайших
подробностей имитирует поведение человека, идущего впереди. Таким
образом,
преследующий, подпущенный к нему так близко, что
75
расстояние между телами элиминируется, первоначально ведет себя как
миметическая кукла. В итоге же, в момент падения оказывается, что
отношения
между телами незаметно "перевернулись" и теперь идущий впереди
оказывается
марионеткой преследователя. Различие между телами устраняется, оба они
оказываются практически неразличимыми.
Куприн не в состоянии выразить эту ситуацию словесно. Вместо того чтобы
снять расстояние между описываемым и точкой зрения на него рассказчика,
он
поступает наоборот, умножает дистанцию между повествователем и событием.
Он
резюмирует речь другого о себе и начинает смотреть на себя
странно-дистанцированным образом, потому что его собственная позиция не
позволяет ему осуществлять наррацию, она в такой же степени слепа, как и
нема. Вслушаемся в строение фраз Куприна:
"Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно
воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую
поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен
прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает
падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек
должен непременно упасть..."
Я умышленно выделил субъекты и объекты действия в этом плохо написанном
тексте. Олеся начинает воображать веревку "впереди меня", она делает
падающее движение, когда "я" должен прикоснуться к веревке, и от этого
движения должен упасть некто, определяемый как "самый крепкий человек".
Этот
"самый крепкий человек" возникает во фразе потому, что Куприн не может
адекватно выразить в этой игре местоимений то собственно, что должно
произойти, -- мое падение от ее жеста. В итоге фраза, если
спрямить изгибы ее подчиненных предложений и вводных оборотов ("по ее
словам") приобретает следующую логическую конструкцию- "В ту минуту,
когда я
должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, самый крепкий
человек
должен непременно упасть.."
Конечно, Куприн не является изысканным стилистом. Однако это вполне
грамотный писатель. Странная путаность его повествования в данном случае
неслучайна. Речь идет о явлении, которое Жан-Франсуа Лиотар определил
как
"разделение на знаки" (clivage en signes) "событий, тензоров, переходов
интенсивностей" (Лиотар 1974: 62). Разделение на знаки прежде всего
означает
распределение по грамматическим категориям, среди которых местоимения
играют
важную роль. "Я", по мнению Лиотара, выступает одновременно и как
адресат и
как дешифровщик знаков. "Я" разделяется в знаках на две ипостаси:
""Я" (Je) -- это прежде всего "я" (moi), но оно складывается через
конструирование того, что говорит "оно" или другой (так как его здесь
нет). Та же "диалектика" интен-
76
сивного и интенционального разделяет все вовлеченные вещи, она
разделяет меня, конституируя, она есть конституирование "я",
воспринимающего/активного, чувственного/интеллектуального, того, кому
дарят/дарящего -- все это, повторим, имеет смысл только в конфигурации
знака, разделение "Я" -- это конституирующее знак разделение..." (Лиотар
1974: 63).
Но в этом конституирующем его разделении знака уже проявляется
расслоение "интенсивностей", которое продолжается в ситуации парных тел.
Парное тело -- это тело максимально напряженной игры интенсивностей,
напряжения, и описание этого тела демонстрирует, каким образом единство
"парной" машины распадается сначала на "разделенное" "я", а затем на
целый
набор противоречивых местоимений. Это расслоение равнозначно распаду
интенсивностей, разрушению машины.
Распад интенсивностей в особо драматических случаях может принимать как
форму блокировки речи (у Рильке это метафора "пустого листа бумаги"),
так и
форму предельно отчужденной речи (у Куприна, например, это отсылка к
"отчету
доктора Шарко об опытах", который якобы содержит какое-то объяснение).
То, что "парное тело" сложно связано со строем речи, было
продемонстрировано Мишелем Фуко в его статье "Наружная мысль". Фуко
отмечает, что отделение языка от субъекта высказывания, его
автономизация в
некой безличной речи может описываться через ситуацию "компаньона",
который
есть не что иное, как описанный мною "демон". "Компаньон" Фуко как бы
приближается непосредственно к говорящему телу и отбирает у него речь,
он
все еще продолжает использовать местоимение "Я", но оно перестает
относиться
к говорящему, и речь как бы отходит от порождающего его тела в
"нейтральное
пространство языка", существующее
"между повествователем и неотделимым от него компаньоном, который за
ним не следует, [пространство, которое расположено] вдоль узкой линии,
отделяющей говорящее "Я" от "Он", каким оно является в качестве
говоримого
существа" (Фуко 1994: 536--537).
Любопытное описание парного тела дает Петер Хандке в романе
"Повторение" (Die Wiederholung). Здесь столкновение с "демоном"
порождает
такое усложнение позиции субъекта, которое постепенно приводит к
дереализации всей ситуации. Повествователь Филип Кобал описывает свои
отношения с неким мистическим "врагом", мальчиком, имитировавшим Филипа
в
детстве:
"И, как правило, он даже не прикасался ко мне, он меня передразнивал.
Если я шел в одиночестве, он выскакивал из-за куста и шел за мной,
подражая
моей походке, опуская ноги одновременно со мной и раскачивая руками в
том же
ритме. Если я принимался бежать, он делал то же самое; если я
останавливался, он делал то же самое; ес-
77
ли я моргал, он делал то же. И он никогда не смотрел мне в глаза; он
просто изучал мои глаза подобно всем остальным частям моего тела, с тем
чтобы обнаружить любое движение в самом зародыше и скопировать его. Я
часто
старался обмануть его по поводу моего будущего движения. Я притворялся,
что
двигаюсь в одном направлении, а затем неожиданно убегал. Но я ни разу не
смог перехитрить его. Его подражание было скорее подобно поведению тени;
я
стал пленником собственной тени. <...> Он стал вездесущ, даже когда его
в
действительности не было со мной. Когда я радовался переменам, моя
радость
вскоре испарялась, потому что мысленно я видел, как ее имитирует мой
враг и
тем самым разрушает ее. И то же самое случилось со всеми моими чувствами
--
гордостью, печалью, гневом, привязанностью. Столкнувшись с их тенью, они
перестали быть реальными. <... > Сражаясь с ним в возрасте двенадцати
лет, я
больше не знал, кто я, иными словами, я перестал быть кем бы то ни
было..."
(Хандке 1989:16-18).
Постепенное растворение в собственной тени и угасание эмоций связано
здесь с несколькими точно описанными Хандке механизмами. Первый связан с
нарастающей фиксацией внимания на каждом движении. Стремление Филипа
обмануть своего подражателя приводит к поиску начальной фазы движения,
еще
не выявленного, не вышедшего наружу. Речь идет, по существу, о поиске
некоего состояния, предшествующего манифестации, состояния
нереализованных
возможностей, когда выбор еще не состоялся, а потому возможен обман.
Но это состояние до начала движения оказывается в действительности не
состоянием бесконечного выбора возможностей, а состоянием
невозможности начать, тем, что в экзистенциально-этическом плане было
названо Кьеркегором "телеологическим приостанавливанием" (Кьеркегор
1968:
237--239). Движение в таком контексте -- это некое инерционное
проявление
некоего импульса, развертывание в континууме чего-то свернутого до
мгновения. Но само это мгновение оказывается странной сферой
невозможности и
паралича. Индивидуальность двигающегося тела как бы исчезает вместе с
динамикой в том случае, если удается достичь самого истока движения.
Мерло-Понти рассказал о фильме, запечатлевшем работу Анри Матисса.
Самым поразительным в работе художника был постоянно повторявшийся
момент
длительного колебания руки, как будто зависавшей над холстом и
перебиравшей
десятки возможностей. Мерло-Понти так прокомментировал увиденное:
"Он не был демиургом; он был человеком. Перед его мысленным взором не
представали все возможные жесты, и, делая свой выбор, он не выбирал один
жест из всех
78
возможных. Возможности перебирает замедленная съемка. Матисс, находясь
внутри человеческого времени и видения, взглянул на все еще открытое
целое
создаваемого им произведения и поднес кисть к той линии, которая того
требовала, ради того чтобы произведение стало наконец таким, каким оно
было
в процессе становления" (Мерло-Понти 1964: 45--46).
Интенциональность снимает момент колебаний как бесконечного выбора,
предшествующего действию. Невозможность начать, таким образом, по мнению
Мерло-Понти, лишь фиксируется камерой. Она дается лишь внешнему
наблюдателю,
копиисту, но незнакома самому действующему телу.
К истоку движения в данном случае устремлены два тела -- тело Филипа и
его подражателя. Один действует в прямом соотнесении с целью своих
поступков
(Филип), другой фиксирует со стороны исток этих действий как момент
перебора
бесконечного количества возможностей (копиист). Магия "врага"
заключается в
том, что он, провоцируя идентификацию Филипа с ним самим и тем самым как
бы
экстериоризируя принятие Филипом решений, лишает его интенциональности,
парализует его волю и тело Паралич выбора возникает через принятие точки
зрения на себя как бы со стороны. Копиист, демон -- как раз и предлагают
подобную игру в диссоциацию точки зрения. Они воплощают вынос зрения вне
собственного тела.
С этой ситуацией прямо ассоциируется и второй механизм, связанный с
нежеланием "врага" посмотреть в глаза Филипу, нежеланием встретиться с
ним
взглядом Глаза рассказчика изучаются подражателем как некие внешние
объекты.
Таким образом, Филипу навязывается роль пассивного объекта наблюдения
Закономерным образом Хандке воспроизводит ситуацию Куприна, когда,
казалось
бы, активное тело (идущий впереди, выполняющий движения по собственному
усмотрению) оказывается пассивным объектом магии Мимикрия в данном
случае с
непременностью приводит к распаду ясной оппозиции субъект/объект
(говорящий/компаньон), на которой основывается синтаксическая структура
речи
(".. я больше не знал, кто я, иными словами, я перестал быть кем бы то
ни
было..."). Динамическое, энергетическое с неизбежностью затрагивает
логическое, дискурсивное, словесное.
Нельзя, однако, считать, что речь идет о "распаде" интенсивностей, об
их "деформациях" как о некой совершенно нейтральной процедуре
"перекодировки" энергегического в словесное. Сама по себе невозможность
"перевода" телесной ситуации в дискурсивную -- есть событие также
энергетического свойства. Распад интенсивностей в момент перевода их в
знаки
откладывается в дискурсе также в виде деформаций.
Чрезвычайное напряжение двух тел, между которыми различие редуцируется
до их смешения, конечно, не может быть до конца выражено в словесном
описании -- заметим еще раз -- подчеркнуто
79
дистанцированном. Но все же это напряжение оставляет след в знаках, в
формах их раздвоения, расщепления. Неловкость, например, купринской
речи,
тяжелая синтаксическая конструкция, неадекватность псевдонаучного
жаргона
описываемой ситуации и т. д. -- это также знаки неразрешимого
напряжения,
существующего между телесностью и языком описания. Странная логическая
конструкция фразы с "самым крепким человеком" -- это также диаграмма,
след
несоответствий и провоцируемых ими деформаций.
Машины телесности, машины текстуальности как бы транслируют друг другу
интенсивности в виде диаграмм, в виде деформаций.
Понятие "диаграммы" применительно к текстовым практикам было
разработано Жилем Делезом и Феликсом Гваттари. Согласно Делезу --
Гваттари,
языки описания или, шире, "знаковые режимы" могут быть уподоблены
машинам.
"Нормализованная" машина вырабатывает определенные формы содержания и
выражения. Однако периодически возникает новая семиотическая машина,
являющаяся плодом трансформации, "детерриториализации" старой машины,
нарушения стратифицированного и нормализованного режима существования
знаков. В момент трансформации, когда новая машина еще не сложилась,
когда
она лишь возникает в момент замещения старой семиотической машины, на
месте
хорошо работающего механизма оказывается некая "абстрактная машина", еще
не
овладевшая производством новых форм содержания и выражения Абстрактная
машина, машина становления других машин производит диаграммы--
дознаковые,
предзнаковые или послезнаковые образования. Абстрактная машина не знает
различий между планом содержания и планом выражения, она "доязыковая
машина". При этом она
"сама по себе не физическая или телесная, так же как и не
семиотическая; она диаграмматическая (она также не имеет никакого
отношения к различию между искусственным и естественным). Она работает
через
материю, а не субстанцию, через функцию, а не через форму.
<...> Абстрактная машина -- это чистая Материя-Функция -- диаграмма,
независимая от форм и субстанций, выражения и содержания, которые она
будет
распределять. <.. > Материя-содержание имеет только степени
интенсивности,
сопротивления, проводимости, нагреваемости, растяжимости, скорости или
запаздывания; а функция-выражение имеет только "тензоры", подобно
системе
математического или музыкального письма. Письмо теперь функционирует на
том
же уровне, что и реальность, а реальность материально пишет. Диаграммы
сохраняют наиболее детерриториализированное содержание и наиболее
детерриториализированное выражение для того, чтобы соединить их" (Делез
--
Гваттари 1987:141).
80
Когда диаграммы попадают в стратифицирующее поле действия языка, они
подвергаются субстанциализации. Производимый абстрактной машиной
континуум
интенсивностей заменяется разрывами, стратами, формами, элементами и т.
д.
То, что в диаграммах записывалось как "реальность" со всеми физическими
показателями реальности -- сопротивляемостью, напряженностью и т. д.,
приобретает отныне абстрактный характер знаков, в которых диаграммы себя
"не
узнают".
Стратификация "диаграмматических полей" в языке подобна процессу
"разделения", которому подвергаются интенсивности у Лиотара.
Делез вернулся к определению диаграммы в своей книге о Мишеле Фуко.
Здесь он несколько изменил перспективу. Диаграмма в эссе о Фуко прежде
всего
связана с социальным полем, состоящим из артикулируемых "утверждений"
(например, законы) и неартикулируемых видимостей (например, тюрьма, в
которой дисциплинарность принимает форму паноптизма). Диаграмма в
подобной
перспективе -- это след пересечения таких, казалось бы, не соединимых
между
собой образований. Это рисунок, создаваемый точками приложения различных
социальных сил, каждая из которых явлена в иной семиотической или
энергетической страте. Здесь Делез говорит о диаграмматической
множественности, или диаграмматическом многообразии.
Диаграммы создают единство социального поля, которое без них оказалось
бы просто пространством дисперсии и нереализованных потенций. По
существу,
они являются некими континуумами, которые в дальнейшем подвергаются
"раздвоению" на артикулируемое и видимое. Они -- неформализованные общие
причины. Так же как "Я" при расслоении интенсивностей раздваивается на
"Я"
-- адресата сообщения и "Я" -- дешифровщика знаков, социальная диаграмма
расслаивается на мир видимого и мир артикулируемого. "Что же такое
диаграмма? -- спрашивает Делез. -- Это демонстрация отношений между
силами,
конституирующими власть..." (Делез 1988: 36). Это определение прежде
всего
относится к сфере приложения интересов Фуко, к сфере отношений власти,
но
оно имеет и более широкое значение. Делез дает еще одну существенную
дефиницию: "Диаграмма -- это более не аудио- и не визуальный архив,
но карта, картография, совпадающая со всем социальным полем" (Делез
1988:
34).
Проблематика данной работы не выходит за рамки художественных текстов и
телесности. В мою задачу не входит рассмотрение понятия диаграммы в
столь
широком социальном смысле, хотя, конечно, многие из рассмотренных
вариантов
телесности -- Голядкин, Башмачкин, "субъект" Рильке -- тесно связаны с
проблематикой власти. Все они -- тела, испытывающие на себе давление
соци-
81
альных сил, которые так или иначе ответственны за конвульсивность их
поведения. Конечно, "патологический" миметизм Чичикова или Хлестакова --
явление не только текстовое или телесное, но и социальное8.
Там, где раздвоение еще не произошло, но где оно уже конституируется,
там, где давление сил уже выражает себя в становящемся удвоении, мы
имеем
дело с "машинами" в смысле Делеза -- Гваттари и с диаграммами как
видимым
следом сил и наступающей трансформации. Делез как-то определил тело в
терминах чистой энергетики:
"Каждая сила связана с другими, она либо подчиняется, либо командует.
Тело определяет именно это отношение между господствующей и подчиненной
силой. Всякое отношение сил конституирует тело -- будь то химическое,
биологическое, социальное или политическое. Как только две неравных силы
вступают во взаимодействие, они образуют тело" (Делез 1983: 40).
Действительно, активность тела зависит от приложения к нему сил. Именно
эта силовая сторона телесности делает ее столь "непроницаемой", столь
трудно
осмысливаемой для сознания. Даже относительно успешные попытки осмыслить
психические механизмы в терминах напряжений и сил (либидинозная
психология,
концепция бессознательного как поля взаимодействия сил) до конца не
снимают
этой фундаментальной непроницаемости.
Конвульсивное тело, в отличие от "классических" тел, еще более
явственно реализует свою зависимость от сил и интенсивностей, то есть
именно
от тех "материи" и "функции", которые удобно описывать в терминах
диаграммы.
Существенной особенностью конвульсивных тел является их почти
непременное миметическое удвоение, которому сопутствует "неклассическая"
("бесперспективная", если использовать термин Бахтина) форма зрения.
Конвульсивное тело ведет себя именно как машина трансформаций, в которой
меняется режим знаков Континуум интенсивностей расщепляется, умножая
тело
надвое (возникает демоническая пара). Но эта пара еще не включила на
полный
ход языковую машину, хотя перевод видимого в дискурсивное уже
оказывается
проблематичным. Да и мир видимостей еще не сформировался до конца, не
вычленился из мира слепоты. Неудачи в этом межсемиотическом переводе --
сами
по себе диаграмматичны.
Так функционирует телесность, разворачивая цепочку деформаций,
конвульсий, удвоений, строя лабиринтную карту диаграмм как карту
движений, в
которых видимое и дискурсивное еще сближены настолько, что подавляют
друг
друга.
_________
8 Делез определяет социальные отношения имитации как "истинные
отношения меяоду силами, в той мере в какой они трансцендировали простое
насилие" (Делез 1988.36)
Гл а в а 3 ЛАБИРИНТ
Лабиринт -- это темное пространство, в котором движется тело. Это тело,
строящее пространство своего движения, почти не контролируемое зрением.
А
потому и отношение между дискурсивным и чувственным здесь иное.
Дискурсивное
начинает соотноситься с наиболее регрессивной сферой чувственности -- со
сферой тактильного, с миром странных когнитивных карт и маршрутов, со
сферой
диаграмм par excellence.
В последней, пятой части "Отверженных" Гюго описывает блуждания Жана
Вальжана по парижской клоаке. Описание этих блужданий занимает целых две
книги -- "Утроба Левиафана" и "Грязь, побежденная силой духа". Необычен
большой объем этого эпизода по отношению к сложности нарративной
ситуации:
человек бредет во тьме по неведомому ему лабиринту темных каналов,
лишенный
какой-либо ориентации. Когда герой оказывается по существу слепым и
лишенным
знания, автор начинает испытывать затруднения вместе с героем.
Показательно,
что готический роман, создавший моду на подземелья, при всем изобилии
последних на его страницах, часто не в состоянии развить описания
подземных
блужданий больше, чем на несколько абзацев. Эта неспособность отражает
зависимость дискурсивного от видимого, при всей их кажущейся
несовместимости. Диаграмматический корень у них все же общий.
Стандартные
описания обычно ограничиваются топосами страха и отчаяния -- то есть
откровенными аллегориями переживаемой автором неспособности к
повествованию.
Примеры таких неудавшихся описаний можно обнаружить в готическом романе,
например, у Анны Рэдклиф или Мэтью Льюиса. В "Монахе" последнего,
например,
погружение героя -- Амброзио -- в темный подземный лабиринт пробуждает
целый
поток риторических фигур, заменяющих собой "невозможное" описание:
"Теперь Амброзио остался один. Самая непроницаемая темнота окружала его
и пробуждала сомнения в его груди. < ...> С радостью он бы вернулся в
аббатство; но поскольку он прошел через бесчисленные пещеры и извилистые
переходы, попытка вновь найти ступени была безнадежной. Судьба его была
предрешена; никакой возможности бежать не было. < ...> В настоящее время
в
его ощущениях господствовал ужас" (Льюис 1959: 270--271).
83
Льюис незаметно переходит от образа лабиринта к связанному с ним топосу
"судьбы" и тут же переводит повествование в риторический пласт, к
которому
относится и непременный в таком случае топос "ужаса".
Для Гобино подземелья -- воплощенное ничто. Там ничего не видно, там
нечего описывать. Спуск под землю в таком контексте вообще не имеет
смысла.
В "Акриви Франгопуло" (1867) Гобино замечает:
"Ценой изнурительных усилий достигаешь глубин пещеры; поднимаешь голову
и оказываешься достойно вознагражденным за идиотизм всех этих стараний:
вокруг не видно ничего такого, ради чего стоило бы сделать три шага"
(Гобино
1968: 230). Иными словами, не видно ничего.
Поскольку внешний мир, данный человеку в ощущениях, почти полностью
подавлен темнотой подземелья, "внешнее" постепенно исчезает и замещается
"внутренним". Погружение в темноту оказывается метафорическим
погружением в
самого себя, вернее странной метаморфозой, в которой внешняя темнота
становится почти эквивалентной пугающей темноте внутреннего, описанной
Мелани Клейн и Делезом (см. главу 2). В этом смысле Гобино прав --
подземелье не стоит того, чтобы сделать и три шага. Оно всегда рядом, в
тебе
самом. Гастон Башляр, пытавшийся разгадать смысл многочисленных
подземных
блужданий в европейской литературе, обратил внимание на изобилие
связанных с
ними органоморфных сравнений: "утробу Левиафана" в "Отверженных" или
аналогичное сравнение в "Человеке, который смеется" ("...узкий коридор
извивался, как кишка; внутренность тюрьмы так же извилиста, как и
внутренности человека" [Гюго 1955: 407].) Башляр пришел к выводу, что
перед
нами навязчиво повторяющаяся метафорика глубинной интроспекции,
погружения
внутрь человеческого тела:
"Если мы, наконец, обратим внимание на наши кошмары, связанные с
лабиринтами, то мы обнаружим внутри себя многие телесные реалии,
производящие впечатление лабиринтов" (Башляр 1965: 258).
Конечно, представлять лабиринт как вынесенное вовне подобие кишечника
-- значит упростить ситуацию. В действительности лабиринт -- это
продолжение
и удвоение помещенного в нем тела, но удвоение достаточно сложное.
В каком-то смысле он сходен с гнездом, которое строит птица у Рильке и
Мишле, -- oil копия строящего его тела (см. главу 2). Кафка в рассказе
"Нора" подчеркивает, что нора-лабиринт построена многолетними стараниями
"всего тела" населяющего его существа. А сам процесс строительства
подземного лабиринта описан почти как строительство гнезда у Мишле:
84
"Тысячи и тысячи раз, дни и ночи напролет я должен был биться лбом о
землю, и я был счастлив, когда появлялась кровь, так как это доказывало,
что
стены начинают твердеть..." (Кафка 1971: 328)
Крот Кафки строит лабиринт как некое расширенное тело, властелином
которого он является в той мере, в какой схема лабиринта фиксируется в
моторике строящего его тела. Дело не просто в том, что Крот разбивает о
землю лоб, но в том, что он в кровь разносит свое тело, тысячекратно
повторяя одно и то же движение, так что схема лабиринта становится
схемой
его собственной моторики. В какой-то степени лабиринт из "Норы" сходен с
машиной из "Исправительной колонии". И то и другое вписывает в тело
некий
пространственный текст.
Кровь, проливаемая Кротом, имеет и символическое значение. Лабиринт
строится как место жертвенной трансфигурации, место преобразования тела,
связанное с сакральным пролитием крови (к числу таких же лабиринтов,
связанных с жертвоприношением, относился и знаменитый Кносский). Антонен
Арто в "Гелиогабале" описал подземный сточный лабиринт, по которому
жертвенная кровь спускается в глубины земли, покуда не касается
"первобытных
геологических пластов, окаменевших содроганий хаоса" (Арто 1979: 42).
Жертвоприношение -- всегда удвоение профанного сакральным.
Лабиринт-- также машина, удваивающая помещенное в него тело. Тело в нем
всегда соотнесено с неким внешним, но глубоко интериоризированным
пространством собственного двойника. Лабиринт -- это архитектурный
двойник
тела, двигаться в нем -- все равно что двигаться внутри некой памяти
тела,
хранящей следы многократно проделанных маршрутов. Более того, двигаться
в
освоенном, "своем" пространстве подземного лабиринта -- означает
актуализировать память тела, растворить настоящее в прошлом, жить внутри
следа, составляющего внешнюю мнемоническую оболочку тела. Погрузиться в
"свое" подземелье -- означает погрузиться не в кишечник, но в симулякр
собственного тела, построенный из моторной памяти маршрутов.
Избранная Гюго стратегия описания подземных странствий Жана Вальжана
целиком построена на соотнесении маршрутов, планов и карт. Ситуация,
однако,
осложняется тем, что герой Гюго оказывается не в своем, но в
чужом лабиринте, в чужой, непроницаемой для него памяти, внутри
динамической схемы чужого тела. Эта ситуация и определяет "странности"
избранного Гюго нарративного метода.
Он начинает с подробного описания истории парижской клоаки, затем
переходит к описанию самого подземного путешествия, которое постоянно
соотносится им с неким планом подземного Парижа.
85
При этом Вальжан старается соотнести свое местопребывание с
расположением парижских улиц, но это ему чаще всего не удается:
"Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка,
что, выбрав левый путь и следуя под уклон, он может меньше чем в
четверть
часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами
Менял
и Новым..." (Гюго 1979, т. 2: 607, далее в тексте главы указывается том
и
страница этого издания). В действительности расчеты героя ошибочны:
"Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей
Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так" (2,608).
Гюго не только постоянно корректирует незнание Вальжана своим
топографическим комментарием. Время от времени он даже воображает себе,
что
бы случилось с героем, выбери он тот маршрут, которым он не пошел:
"Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных
усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся
бы
во мраке на глухую стену. И это был бы конец.
В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы
Сестер Страстей Господних, не задерживаясь у подземной развалины под
перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув
налево,
проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею
Сен-Себастьен,
он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети
стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже
добраться до выхода на Сену возле Арсенала. Но для этого необходимо было
хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого
коралла
парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в
этой
ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он
находится, он ответил бы: "В недрах ночи"" (2, 619).
Гюго действительно помещает Вальжана в "чужой", вернее в "свой", то
есть авторский лабиринт. Именно он, Гюго, прекрасно знает, как нужно
двигаться в этом хитросплетении, где повернуть, где перед идущим может
возникнуть сложность. Он обладает знанием-памятью того пространства, в
котором вслепую брошен его герой!.
__________
1 Пародийный вариант раздвоенности автора, который одновременно
"преследует" персонажа и следит за его движениями сверху, "по карте",
был
придуман Константином Вагиновым в "Трудах и днях Свистонова" Здесь
описан
кошмар герои ни -- Наденьки
"Начинает бежать по бесконечным комнатам Огромный дом, вроде лабиринта
Живет в нем только этот человек Бежит она по коридору, снова по светлым
комнатам, по гостиным с лепными стенами, иногда в конце коридора видит
его
Он злорадно смеется, и она снова бежит и знает, что все время он ее
видит и
находит Наконец, вбегает она в комнату вроде кухни, знает, что здесь
дверь
на улицу Смотрит на стену и понимает сразу, почему этот человек знает,
где
она на стене план этого дома, а весь путь ее, Наденьки, показывает в нем
медная то ненькая проволока, которая сама ложится по ее следам, все
время
указывая, куда Наденька идет. От проволоки остался маленький свобод ньш
конец, и Наденька видит, как она ее отгибает и ставит торчком Теперь она
знает, что проволока ничего не укажет" (Вагинов 1989 249)
Человек следит за Наденькой по плану дома и одновременно возникает в
"конце коридора" Вагинов, однако, иронически усложняет ситуацию Наденька
посто янно "знает", что за ней следят, а в конце, обнаружив план, она
сама раздваивается на наблюдателя и персонажа, когда видит со стороны,
как
она отгибает проволоку.
86
С точки зрения нарративной экономии метод Гюго кажется малоэффективным.
Вся эта детальная топография имеет более чем косвенное отношение к
блужданиям героя, который выбирает иной маршрут, не знает ее, которому
она
никак не служит -- тем более что некоторые топографические пассажи (как
вышеприведенный) существуют в условном наклонении. Воображаемый маршрут,
рисуемый Гюго на карте, пожалуй, только запутывает читателя, особенно
плохо
знакомого с Парижем. При этом Гюго полностью отдает себе отчет в
возникающей
разобщенности авторского знания и незнания персонажа:
"У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы
осветить читателю подземное странствие, -- он не знал названий улиц.
Ничто
не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние
преодолел"(2,621).
Если представить себе нарративную стратегию Гюго в пространственных
категориях, то она будет выглядеть следующим образом:
вместо того чтобы неотступно следовать за героем и пытаться описывать
его передвижения, сам "Гюго" как бы движется по одному маршруту, но в
какой-то момент замечает, что герой его пошел иначе. Он описывает
передвижения Вальжана как отклонения от собственной схемы. Речь идет
о постоянно фиксируемой им диссоциации моторной памяти собственного тела
рассказчика и беспамятства персонажа.
В иных эпизодах романа рассказчик легко следует за героем, диссоциации
авторского тела и тела персонажа не наступает. Она становится очевидной,
как
только Гюго начинает строить для Вальжана свой собственный лабиринт.
Лабиринт этот оказывает удивительное воздействие на повествование. Он
как бы
автоматизирует маршрут повествователя, которому становится "трудно"
следовать за персонажем, ведь память его собственного тела заставляет
его
двигаться подобно автомату по привычным маршрутам. Вальжан
87
же отклоняется от них потому, что тело его не несет памяти этих
маршрутов.
В каком-то смысле расслоение рассказчика и персонажа (которое может
быть понято и как удвоение телесности) наступает потому, что рассказчик
начинает двигаться как марионетка, как автомат собственной памяти, а
персонаж сохраняет свободу выбора своего собственного маршрута (отчего и
движется "неправильно").
Этим, однако, дело не ограничивается. В тексте "Отверженных"
откладывается в виде следов та мифология, которая окружала подземный
Париж.
Индивидуальная память тела горожанина, сформированная сетью улиц и
привычных
городских маршрутов, входит в соприкосновение с памятью культуры, с
чужой памятью, так или иначе проецируемой на подземный лабиринт.
Поскольку подземное пространство было в реальности мало кем обжито, оно
оказалось местом проекции исторического воображаемого, городской
мифологии.
Ограничусь кратким, почти перечислительным ее очерком.
Естественным образом на парижские подземелья проецировалась вся
мифология преисподней и потустороннего мира. Эта мифология питалась,
например, и тем, что один из входов в парижские катакомбы находился на
улице
Анфер (Ад). Сравнение подземных каналов со Стиксом могло лечь в основу
развернутых сюжетных конструкций. В популярном романе Жозефа Мери
"Парижские
салоны и подземелья" фигурирует старик Ахариас, охраняющий вход в
подземелья
подобно Церберу. В романе описано и путешествие по подземным каналам на
лодке Ахариаса, навязчиво сравниваемого с Хароном, и т. д. В подземельях
человек превращается в тень, душу умершего2. Эти представления,
по-видимому,
связанные со всеми подземельями мира, получили особый импульс в
результате
создания гигантского парижского оссуария -- захоронения костей и черепов
в
гротах катакомб. Оссуарий начал складываться в 1786 году после переноса
в
катакомбы остатков захоронений первоначально кладбища Инносан, а затем и
большинства парижских кладбищ. Сюда были перенесены десятки тысяч трупов
(для их перевозки использовали тысячу повозок), кости которых были
размещены
здесь не без орнаментального изыска (Ариес 1981: 498--500). Эли Берте,
автор
сенсационного романа "Парижские катакомбы" (1854) писал:
"...Поколения мертвых накапливаются в этих мрачных складах, сегодня их
количество оценивается в двенадцать или пятнадцать миллионов (в
двенадцать
или пятнадцать раз больше, чем нынешнее население Парижа), человеческие
создания явились сюда, чтобы перемешать свои останки" (Берте 1854, т. 2:
275--276). Посещение оссуария стало щекочущим нервы развлечением для
_________
2 Обзор представлений о подземных жилищах богов и душ умерших см. Роде
1966:88--114
88
туристов. Надар запечатлел их облик в серии популярных фотографий
(Ямпольский 1989: 91-92).
Иная мифологическая линия связана с идентификацией парижских подземелий
с катакомбами первых христиан. Импульсом послужило открытие в 1611 году
под
часовней Мучеников подземного святилища с алтарем. Эта подземная церковь
стала ассоциироваться с мучениями святого Дени и его соратников (Фурнье
1864: 53--57). Но настоящей сенсацией стал ложный слух об открытии неким
Дюбуа подземного храма Осириса и Исиды, якобы подтвердившем старые
легенды
об исиадическом культе в древней Лютеции (Балтрушайтис 1967).
Воображаемый
храм Осириса
"был круглой формы, в центре его поддерживали восемнадцать мраморных
аркад, тут же находился серебряный алтарь, украшенный двенадцатью
золотыми
статуями..." (Фурнье 1864: 58) и т. д.
По рассказам Дюбуа, открытые им подземелья были так велики, что он шел
по ним семь часов, прежде чем достиг храма. Осирис придавал мистический
оттенок странствиям душ в парижских подземельях. Почти во всех текстах,
связанных с тематикой подземелья, появляется загадочная подземная
церковь: у
Мери это часовня с алтарем, у Берте -- храм тамплиеров, в "Консуэло" у
Жорж
Санд -- это "церковь", естественная пещера, сталактиты которой "можно
было
принять за бесформенные статуи, исполинские изображения варварских богов
древности" (Санд 1982: 249). Моделью здесь можно считать подземный
эпизод
"Мучеников" Шатобриана. Евдор рассказывает, как он идет по римским
катакомбам, по лабиринту, "чьи погребальные коридоры были уставлены
тройным
рядом гробов, водруженных один на другой" (Шатобриан 1851: 91), и,
пройдя
через город мертвых, попадает в христианский храм, озаренный светом3.
Мотив церкви придает подземным блужданиям очевидный оттенок инициации.
Мрачный ритуал, псевдосмерть здесь предшествуют открытию высшей истины и
символическому воскрешению.
_____________
3 Показательно, что модные в начале XIX века сеансы фантасмагории --
спектаклей волшебного фонаря с явлениями призраков и покойников --
устраивались их изобретателем Этьеном-Гаспаром Робертсоном в подземной
крипте заброшенного монастыря капуцинов возле Вандомской площади
"Здесь, среди старых могил и статуй, Робертсон нашел великолепное место
для оптических шоу призраков -- своего рода замогильный театр,
погруженный
во мрак, отрезанный от окружающих городских улиц и окруженный < >
молчаливой
аурой "исиадических мистерий"", --
пишет исследователь (Кестл 1988: 36). Сам Робертсон указывал, что его
сеансам должно было предшествовать длительное погружение в замогильную
тьму,
где зрители были бы лишены движения, звуков, подспорий для ориентации
Явление светового призрака в крипте должно было следовать за
метафорическим
погружением в подземный лабиринт Аида.
89
Связь прохода по подземелью с инициацией хорошо видна в корпусе
масонских текстов XVIII века вплоть до "Волшебной флейты" Моцарта --
Шиканедера. Для нас этот мотив интересен в той мере, в какой он
вписывает
трансформацию в тело проходящего по подземелью человека (трансфигурация,
воскрешение-- лишь частные случаи такой трансформации). О том, что
подземелье связано с метаморфозами телесности, свидетельствует и
распространенный мотив каннибализма, например, у Нодье в "Мадемуазель де
Марсан", где один из героев, замурованных в подземелье, предлагает
другому
выпить свою кровь (Нодье I960: 486), или у Метьюрина, где, чтобы пройти
через закупоренный телом спутника подземный ход, "стоит убить близкое
существо <... > питаться его мясом и этим прогрызть себе дорогу к жизни
и
свободе" (Метьюрин 1983: 191). Каннибализм в данном случае выступает как
магическое присвоение себе нового, иного тела, которое позволяет
осуществлять иную, возможно более эффективную связь с лабиринтом, это
освоение лабиринта как поедание чужого тела. Но это и знак регрессии на
животную стадию, вызванной погружением в темноту, соответствующим
размыванием границ ego и своего рода "дедифференциацией", по выражению
Хайнца Хартмана (Хартман 1958)4. По наблюдению Мэгги Килгур, в XIX веке
возникает целый жанр повествований о кораблекрушении, сопровождаемом
мотивом
каннибализма (Килгур 1990:
149). Кораблекрушение в данном случае выступает как знак "падения",
распада цивилизованного человека, наступающего в конце путешествия
(инициации, транссубстанциации).
Начиная с XVIII века, подземная тематика окрашивается в неожиданные,
отнюдь не мистериальные тона. Тезис о подземелье как месте обретения
нового
знания, откровения отныне связывается с достижениями археологии и
геологии.
Бальзак даже уподобил погружение в монмартрские каменоломни чтению книги
Кювье, когда перед взором человека
"обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся к временам
допотопным, душа испытывает страх, ибо перед ней приоткрываются
миллиарды
лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти
человечества,
но забытых даже нерушимым божественным преданием..." (Бальзак 1955: 24).
Таким образом, человек, погружаясь в темный лабиринт, как бы
погружается в "чужую" память. И то, что открывается его "взору", если
темнота оказывается хоть в какой-то мере проницаемой, может пониматься
как
анамнезис, как проступание забытых воспоминаний.
________
4 По мнению Хартмана, шизофрения, например, вызывает дезинтеграцию
дифференцированных психических функций и их регрессию к
недифференцированной, инфантильной смешанности.
90
В такой перспективе лабиринт может быть пространством собственного
беспамятства и чужой памяти, или пространством, в котором происходит как
бы
обмен опытом, знаниями, воспоминаниями. Те следы прошлого, которые так
или
иначе вписаны в геологическую книгу шахт и подземелий, оживают благодаря
тому, что приходят во взаимодействие с погруженным в лабиринт телом5.
Тело,
двигаясь в лабиринте, оживляет чужую память, существует в пространстве
чужого опыта.
В пределе этот опыт может иметь совершенно мифологический характер,
например, неких первоистоков. Человек возвращается к блаженным забытым
Адамовым временам с их утерянным сверхзнанием, которое оживает,
например, в
ископаемых животных-- этих исчезнувших буквах первоалфавита природы.
Допотопные ископаемые обнаруживаются подземными путешественниками с
удивительной частотой6, а у Мери в парижской канализации даже возникают
вполне живые существа доисторических времен: животные, не имеющие имени,
ящеры, рептилии и гигантский змей (Мери 1862: 120--121)7. Уже
упоминавшийся
Берте издал книгу "Париж до истории", где автору во сне является
прекрасная
женщина -- "Человеческая наука" -- и ведет его по подобию подземелья:
"По мере того как я шел вперед, свет становился менее ярким; иногда
даже приходилось пересекать пространства, погруженные во тьму" (Берте
1885:
3).
Постепенно перед глазами автора начинают разворачиваться картины
истории, завершающиеся видением доисторической пещеры на склоне
Монмартрского холма, заселенного первобытными людьми. Погружение во
тьму,
под землю, становится эквивалентом погружения в глубь веков. Поэтому
мотив
света, возникающего в конце туннеля и символизирующего новое знание,
связан
не просто с христианской или инициационной темой, но и со знанием как
___________
5 Речь идет, например, о минералогии как о науке, расшифровывающей
письмена на камнях. Расшифровка природных пиктограмм на камнях долгое
время
занимала воображение европейцев. См. Стаффорд 1984.
6 Ср. у Берте:
"...Скала, странным образом разорванная (dechiree -- ср. с книгой), то
тут, то там обнаруживала осколки ископаемых, раковины и крупные кости
допотопных животных" (Берте 1854, т. 4: 152).
У Эскироса:
"Эти ночные расы живут <... > как живые руины рухнувшего варварства,
как последние представители прошлого человечества на земле" (цит. по:
Ситрон, 1961: 405).
7 Эжен Сю в "Парижских тайнах" воображает воды клоаки как своего рода
вертикальный палеонтологический срез жизни, запутанной в лабиринты: "Это
уже
не грязь, это спрессованная, шевелящаяся живая масса, не поддающееся
распутыванию сплетение, копошащееся, кишащее, столь сжатое, сдавленное,
что
глухое едва заметное волнение едва возникает над уровнем этой тины, или
вернее этого слоя нечистых тварей" (Сю 1954: 257).
91
воспоминанием (ср. с платоновской концепцией знания как анамнезиса).
Перечисленные мотивы обнаруживаются у Гюго. Правда, у него нет
подземного храма, но движение Вальжана во тьме отчетливо уподобляется
движению души к свету. Здесь встречаются и непременные геологические
ассоциации. Клоака многократно описывается Гюго как природная книга
истории,
хранящая
"отпечаток геологических эр и революционных переворотов <...> следы
всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа8 и кончая лоскутом
от
савана Марата" (2,604).
Но это погружение в историю связано для Гюго с одним существенным
мотивом, который, хотя и обнаруживается у других авторов, только у Гюго
играет конструктивную роль. Погружение во тьму истории означает
одновременно
и приближение к некому первичному, таинственному протоязыку. В
"Парижских
катакомбах" Берте под землей обнаруживается человек, почти зверь, едва
лепечущий по-французски. У Мери этот мотив протоязыка выражен
отчетливей.
Автор представляет себе руку Бога, срывающую с подземного Парижа
поверхность
и обнаруживающую лабиринт как тайные письмена. Автор заключает свою
фантазию
следующим образом:
"Мы ходим, смеемся, танцуем, играем на ковре, составленном из ужасающих
вещей, вещей, которым нет соответствия ни в одном языке и которые все
еще
ждут имени" (Мери 1862: 118-119).
Любопытно, конечно, что и в парижской канализации Мери обнаруживает
"животных, не имеющих имени". Этот интерес к именам и называнию, как и к
некоторому мифическому протоязыку, также может быть понят, если
представить
себе подземный лабиринт как аналог памяти. Сравнение памяти с пещерой
стало
клише уже во времена античности (Карразерс 1990: 40). Св. Августин
призывал:
"Вообразите долины, пещеры и пропасти моей памяти, они бесчисленны и
они неисчислимо полны бесчисленными родами вещей, присутствующими либо в
виде образов, что свойственно всем телам, либо непосредственно, как
искусства, либо в виде некоего понятия или сознания..." (Августин 1963:
227)
__________
8 Раковина времен потопа -- это, конечно, классический компонент
палеонтологии, начиная с XVIII века, в связи с открытием ископаемых
ракушек
на склонах высоких гор, -- но это и микромодель лабиринта. Когда Минос
пытается поймать Удравшего от него строителя лабиринта Дедала, он ищет
человека, способного продеть нить сквозь раковину улитки. Раковина здесь
выступает как эквивалент лабиринта, нить -- как нить Ариадны. --
Детьенн,
1989: 24--25. Внутри подземного лабиринта обнаруживаются, таким образом,
иные лабиринтные конструкции, к числу которых относятся письмо, язык и
т. д.
92
Этот вид пещер и пропастей, заполненных образами, вполне соответствует
тому, что предъявляет глазу рука Бога, обнаруживающая под Парижем
тайнопись
лабиринтов. В пещерах памяти хранятся сами вещи (res) или их образы,
которые
получают имена, облекаясь в слова по мере их вспоминания. Тело без имени
--
это еще не всплывшее в памяти тело (Карразерс 1990: 190--191). Анамнезис
тел
поэтому может пониматься и как анамнезис имени, языка.
В "Легенде веков" Гюго обнаруживает на месте Парижа Вавилонскую башню,
чьи колонны похожи на загадочные руны. Она стоит на холме, в склоне
которого
зияет жерло подземелья, ведущего к смерти (Гюго 1930:167--168). Эта тема
Парижа как нового Вавилона, места смешения загадочных первоязыков,
получает
у Гюго двойную разработку. Во-первых, Гюго обнаруживает в городе некий
особый "подземный" язык -- арго. Бальзак также видит в арго первобытный
язык
подземелий:
"...Нет языка более крепкого, более красочного, нежели язык этого
|