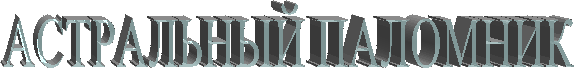|
Выдержки из
произведения
В полном объеме вы
можете скачать текст в архиве ZIP по ссылке
расположенной выше
M. K. МАМАРДАШВИЛИ, А. М. ПЯТИГОРСКИЙ
СИМВОЛ И СОЗНАНИЕ
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ О СОЗНАНИИ, СИМВОЛИКЕ И ЯЗЫКЕ
М., Школа "Языки русской культуры", 1997
В квадратных скобках [] номер страницы.
Номер страницы предшествует странице.
Звездой * обозначены примечания авторов, помещённые под страницей.
СОДЕРЖАНИЕ
А. Пятигорский. Предисловие ко второму изданию. Заметки об одной из
возможных позиций философа
Л. Воронина Предисловие
От авторов
I. Метатеоретическое введение о сознании
0. Сознание. Работа с сознанием. Теория и метатеория. Язык.
Интерпретация
1. Сфера сознания
2. Состояния сознания
3. Структуры сознания
II. Введение в понимание символа
0. Знаковые дуализмы
1. Приближение к символу
2. Знак и символ
3. Знание, язык и символ
III. Двойственность современной символологии
0. Терминология. Символ - вещь
1. Конкретная символология сознания
2. "Постулаты" символологии
3. Особая категория символов
4. Первичное и вторичное в символике
IV. Соотношение символических и естественно-языковых систем как
фактор, определяющий характер культуры
Авторы - друг другу
[9]
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.
ЗАМЕТКИ ОБ ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОЗИЦИЙ ФИЛОСОФА
Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века,
конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега,
мелеет... Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся
делом выбора. Кончается все, чему дают кончиться... Возьмешься
продолжать, и не кончится. И я возвращаюсь к брошенному без
продолженья. Но не как имя, не как литератор, не как призванный по
финальному разряду...
Б. Пастернак
Перечитывая сейчас "Символ и сознание", я думаю, что там не хватает
одного положения, а именно: что мы (я имею в виду авторов книги) не
можем (или не хотим, что здесь одно и то же) думать о сознании как о
чем-то другом, ином, чем сознание, но можем думать о чем угодно
другом как о сознании. Это положение суммирует тривиальность и
элементарность нашей феноменологии сознания и может служить
заключенной в скобки предпосылкой нашей метатеории сознания. Строго
говоря, в философии сознания, как я ее себе сейчас представляю - и с
этого момента выражение "философия сознания" будет употребляться
только в этом персональном ее значении, - метатеория занимает место
теории. Необходимость этого диктуется, между прочим, и тем, что в
философии сознания отсутствует оппозиция "субъективное/объективное",
обязательная почти для любой теории в философиях классического типа.
Разумеется, слово "объективное" здесь употребляется и в смысле
"специфический объект": у философии сознания нет своего
специфического объекта,
[10]
поскольку сознание не есть объект, а любой другой объект теряет свою
специфичность, будучи соотнесен с сознанием. Позиция философа в
отношении любого объекта (включая его самого) определяется его
отношением к {сознанию объекта;} без такой позиции нет ни философа,
ни его философии (хотя вполне возможна наука, теология и т. д.). В
моем случае позиция определяется тем, что я считаю, что, в конечном
счете {сознание, которым занимается философия, есть} то, что
предоставлено философу как {материал другого} мышления (включая его
собственное) с объектом и субъектом последнего. Мышление философа
будет тогда {мышлением о другом мышлении об (определенном) объекте}.
Здесь формальный, конвенциональный объект первого мышления есть не
объект, а "мышление об (определенном) объекте".
Последнее обстоятельство исключительно важно, поскольку мы здесь не
имеем дела и с "мышлением о мышлении", с отсылкой к мыслящему, то
есть здесь мы не имеем дела с {рефлексией} [в смысле {(Subjektive)
Reflexion (auf Einsicht)]} в собственном смысле этого слова. Что,
однако, никак не исключает того, что философия сознания в других
случаях может иметь дело с рефлексией, но как с уже
объективированным фактом сознания.
В философии сознания "история" есть "мышление об истории", то есть
"история как сознание", а не "история как объект сознания" и менее
всего "сознание как история". Иначе говоря, "история" здесь -
"осознаваемое", содержание которого, "что" которого, не мыслится вне
его осознаваем ости.
Как идея, как "готовый" результат "бывшего" мышления, история
осознается как {структура}, то есть как сложное, не-атомарное
образование эмпирического сознания. Это, с одной стороны,
предполагает внутреннюю сложность, конфигуративность (сложный
пространственный образ, рисунок) этой идеи, а с другой - ее
вариативность, то есть наличие ряда версий этих конфигураций,
построен-
[11]
ных, однако, по более или менее одинаковому, общему для них
принципу.
Теперь одна оговорка. Говоря об "истории", я хочу подчеркнуть, что
она как сложная идея ни в коем случае не может редуцироваться ни к
квазинатуралистической концепции времени современной науки, ни ко
времени взятом в его мифологическом аспекте. Время здесь полагается
другой структурой сознания, отличной от "истории". В последней оно
фигурирует как {производное} от фиксированных в сознании событий,
как одна из возможных форм описания этих событий, а не как
"константа бытия", конкретизацией которой служит "история". Все это,
разумеется, только при {внешнем -} то есть с другой (здесь третьей)
точки зрения наблюдении (история, мыслящая сама себя -
историософский миф). Спешу при этом заметить, что миф как конструкт
науки (мифологии) является гораздо более конкретно-описательным,
нежели "история". Так, например, думающий об "истории" может назвать
свое мышление историческим, в то время как думающий о мифе не может
назвать свое мышление мифологическим. Чтобы сделать это, ему сначала
придется занять по отношению к самому себе позицию
наблюдателя-мифолога. В обоих случаях рефлексия входит как
необходимый элемент в установлении позиции философствующего в
отношении мифа и "истории" как фактов сознания, сама фигурируя как
осознанный способ мышления в метатеории сознания.
Рефлексия обнаруживает себя в метатеории сознания как {способ}.
Именно как способ, а не метод в эпистемологии, способ понимания себя
философствующим в отношении употребления (и применения к описанию им
самого себя) тех терминов и понятий, которые уже (всегда "уже"!)
употребляются {не им}, точнее - им {как} не им. В этой связи, когда
мы говорим, что позиция философа, какой бы она ни была, должна быть
универсальной (что,
[12]
между прочим, вытекает и из отсутствия в философии сознания
специфического объекта, как об этом говорилось выше), то имеем в
виду, что рефлексия здесь служит и способом универсализации (равно
негативной и позитивной) этих терминов и понятий. Не будучи
отрефлексированы, они остаются псевдообъектами, фрагментами чужого
онтологизирующего сознания. Это в первую очередь относится - по
крайней мере в том, что мы называем "культура", "наша культура",
"массовая культура", наконец, "западная культура" (понимаемая как
"мета" - или "сверх" -культура), - к понятиям и терминам, связанным
с {прошлым}. Точнее, с тем, что эксплицитно или имплицитно,
{отрицается по условию времени}, то есть с тем, что {историзируется
в настоящем}. Лучше всего это видно на примере {префиксаций} в
названиях и самоназваниях направлений, школ и концепций современной
мысли, таких как: пост-модернизм, пост-структурализм,
де-конструкция, интер-субъективность и т. д. Каждый из этих
префиксов является по существу отсылкой к определенному "прежнему"
состоянию мышления как к объекту философской критики. В свою очередь
объект прежнего мышления (которое также дано в неотрефлексированном
виде) онтологизируется {по отрицанию} критикуемого мышления,
отрицанию, эксплицированному в префиксах "пост-", "де-", "интер-" и
т. д. Так теоретик (или критик) постмодернизма исходит из того, что
"модернизм" существует (или существовал) не как способ мышления о
чем-то или описания чего-то, а как само это что-то, то есть как
объект, отличный от мышления о нем. Из этого наивного онтологизма с
неумолимой необходимостью следует, что онтологизирующий мыслитель
мыслит себя как завершение одной действительности или как начало
другой (обычно тоже последней). [В качестве аналогии я бы привел
пример безумного этимолога, уверенного в существовании "первичной
этимологии" слова или безумного мифолога, верящего в существование
"первичных
[13]
сюжетов". Понятие первичной этимологии в отношении данного слова так
же бессмысленно, как понятие "последнего" (в смысле диахронии)
значения этого слова.] Этот феномен я бы предложил условно назвать
{иллюзией финальности} в неотрефлексированном мышлении.
"Финализируя", мыслитель тем самым уже постулировал "предшествующее"
мышление об объекте как объект второго рода, так сказать, и этим
утвердил себя существующим в "реальности" будущего, для которого
первый объект отрицается.
Философия сознания, как я ее себе представляю здесь и сейчас, - это
гораздо больше о философе, чем о философии (включая его
собственную). Более того, это гораздо больше о "здесь", чем о
"сейчас", поскольку "здесь" означает буквально {контекст
философствования}. Последнее же непредставимо без конкретного
философствующего по определению. В то время как философия, в отличие
от философствования, может быть мыслима в ее безличных или даже
безымянных результатах, могущих в виде идей, понятий и формулировок
найти себе место в других контекстах (как исторически, так и
синхронно). Можно даже сказать, что понятие "контекста" в данном (то
есть моем) случае философствования "вбирает" в себя время "сейчас",
ибо как строго {текстуальное} понятие, оно является пространственным
по преимуществу. В этом смысле можно сказать, что "философия" всегда
принадлежит "истории", а "философствование" - контексту.
"Здесь" философствование предполагает один момент, чрезвычайно
важный метатеоретически: оно четко устанавливает границу между
ситуацией философствующего и местом (или местами), где этого
философствования не происходит. Иначе говоря, между сферой,
покрываемой, так сказать, прагматикой философии сознания, и сферой,
куда она выносится в виде своих конечных результатов и формулировок.
Последнюю можно условно и только в этом смысле обозначить как "мир",
"история" или "куль-
[14]
тура". Неотрефлексированное мышление нормального современного
философа стремится (от Лукача и Маркузе до Франкфуртской школы и от
Кожева до позднего экзистенциализма) к автоматическому перенесению
этих результатов и формулировок в мир не-философствования в порядке
отсылки применения или практики {(Praxis)}. "Применение" - это
вторая иллюзия неотрефлексиро-ванного мышления. Метатеория сознания
предполагает, что результаты и формулировки философии сознания
должны возвращаться из "мира", "истории" и т. д. для последующего
рефлексирования философствующего над своим мышлением о них как о
фактах сознания.
Готовя к печати второе издание книги "Символ и сознание" (фактически
- третье, если считать первым его начальный "беседный" вариант,
опубликованный покойным Ю. М. Лотманом в Тарту), я понимал, что
возвращения к прошлому не произойдет. Ни в том, что окружало эту
книгу, ни в самой книге.
Время изменяет тексты. Традиционные культуры сознательно или
бессознательно (чаще первое) борются со временем за тексты, чтобы
оно их не изменяло. Одним из основных методов этой борьбы было
включение времени в текст, который тем самым становился {формой}
существования времени как своего внутреннего объекта (содержания?).
Тогда это издание будет попыткой, опытом участия в борьбе за текст,
как за только {личное} в нем. А сейчас, после смерти Мераба
Мамардашвили, уже совсем личное, почти мое.
Я бесконечно благодарен Юрию Сенокосову за все, что он сделал для
Мераба и меня, за его неустанное благородное усилие и воинское
упорство в доведении начатого до конца.
А. Пятигорский. Лондон
май 1997.
[14]
ПРЕДИСЛОВИЕ
Писать предисловие к подобной книге - вещь абсурдная. Ведь
предисловие всегда сложнее самой книги. Если нет, то плохо, потому
что так должно быть по сути дела (не по причине особого навыка,
профессии или судьбы автора предисловия). Ибо мышление автора
предисловия волей-неволей занимает некоторую более всеохватывающую
понимательную, рефлексивную - неважно внешнюю или внутреннюю - точку
зрения по отношению к мышлению автора книги. А если автор сам пишет
предисловие, то ему приходится-таки понимать себя и совершать
рефлексию своего собственного состояния, того, которое он представил
в книге, будь то рифмы или формулы, сплетни или пейзажи, тайны иль
прогнозы...
Но написать текст сложнее текста этой книги нельзя, потому что
сложнее текста этой книги не бывает, не может быть, ибо он (текст)
инкорпорировал все возможные рефлексивные подступы к нему.
С этим текстом почти ничего нельзя делать. Единственное, что
остается, - это не понимать. И это тоже вид отношения, это не пустое
место. Где-то в Талмуде сказано, что есть истины, которые доступны
всем, есть истины, которые понятны некоторым (кстати говоря, они не
в обиде, их числом поменьше тоже, как и людей, на которых они
рассчитаны... не существует "неохваченных" истин), а есть такие,
которые поддаются только одному твоему разумению и никто тебя им
научить не может. К последнему классу истин Талмуд относит истины
космологические; иными словами, строение Вселенной, в своей истине,
оказывается очень деликатное, личное дело. Так вот, подставьте
вместо слова "понимание" "непонимание" в этот отрывок из Талмуда,
получится, что какие-то вещи могут легко не понимать все (например,
природу тоталитаризма), какие-то - не по-
[16]
нятны некоторым (например, такая реалия христианской этики как
безусловная любовь), а какие то - доступны непониманию только одного
человека. И так же, как понимание Вселенной, непонимание такого рода
является некоммуницируемой сущностью. Показателем присутствия
реакции на текст этой книги будет как раз вот такое непонимание,
личное и уникальное, не сводимое ни к какому "чужому" непониманию.
"Обмен мнениями" поэтому будет выглядеть скорее следующим образом:
"Ну, а что ты не понял? Я - то-то, то-то и то-то". Некоторые может
быть добавят: "Это я еще сформулировать могу, но есть и такое, что
знаю, что не понимаю, а сформулировать не могу".
Как такое возможно? В чем дело?
В языке? - который, все так прямо и скажут, жуток:
эпистемологические архаизмы, синтаксические динозавры, свалка
грамматик - мечта позднего Витгенштейна - стилистически и структурно
напоминает базар в средневосточном городе на перехлесте торговых
путей ("из варяг в греки", из бенгальцев в кельты). Жанр определить
нельзя, потому что тон текста меняется в зависимости от изменения
тональности мышления, которое может быть аналитическим,
артистическим, риторическим, детективным, спекулятивным,
медитативным и которое, в свою очередь, следует смене регистра в
проработке темы.
Одна и та же вещь может звучать и проблемно и очевидно - смотря по
тому, каким образом, скажем, аналитически или детективно она задана.
Но я бы сказала, что язык - это вторичное, семиотическое проявление
проблем, обсуждаемых в книге. И они не исчезают, хотя и приручаются
немного, становятся не такими "дикими", если попытаться перевести
книгу на иностранный язык.
Но и не в проблемах дело тоже. Проблемы как таковые, какими бы
наглыми они ни были, это не тайны, это реальности разума, а не
откровения. Для них хватает дискурсивного языка. Хотя если быть
сверхточными в
[17]
формулировках и рассуждениях - каковыми являются авторы этой книги,
- то образуются места, которые не укладываются в структуру проблемы.
Аналогичное явление известно композиторам, пишущим музыку для
органа, хорошо темперированные клавиры, когда слишком
последовательное воспроизведение гармонии вдруг приводит в
определенных местах к дисгармонии, к якобы дисгармонии. "Волчьи ямы"
(так называется это явление в музыке) подстерегают читателя этой
книги очень часто, куда рушится разом и вся достигнутая ясность и
рациональность сознания читателя. Но в общем и целом книга написана
на языке проблем.
Тогда может быть книга обязана своей принципиальной непонимаемостью
авторам, опыт мышления которых уникален и существует в единственном
(точнее двойственном) числе?
Или дело в самой философии, которая, как всем известно, падка на
неразрешимые проблемы?
Гадать можно сколько угодно, все будет одинаково так и не так. Мне
же кажется, что и язык, и проблемы, и мышление авторов (в каком-то
аспекте, разумеется), и философия сама - все, что якобы способствует
образованию свойства этой книги быть непонятной, все это различные
профили чего-то более фундаментального. И это более фундаментальное
есть в данном случае САМ ТЕКСТ. То, что книга это не текст и язык
это не текст, я полагаю, читатель понимает. Текст - это не
лингвистическая, не семантическая и даже не культурная единица, то
есть не просто и не только лингвистическая, семантическая и
культурная единица, но по преимуществу некоторая различенность и
упорядоченность, произведенные сознанием, некоторая раскладка и
прикидка. Так вот, текст данной книги забавен тем, что
ПОСТУЛИРУЕТ, что то, что объясняется в книге авторами, не может быть
текстом;
ДЕМОНСТРИРУЕТ, что текстом может быть все, что угодно.
[18]
Тогда в чем же состоит функция предисловия, если заранее известно,
что сам текст будет всегда рефлексивно превосходить любую рефлексию?
Некоторым образом ввести проблему... и тут же сказать, что при
адекватном подходе к ее решению текст как таковой должен
капитулировать? Описать историю проблемы и историю появления ее в
мышлении авторов? История такая есть (уже хорошо), но проблема не
имеет отношения к собственной истории, а мышление авторов к
обстоятельствам, сопутствующим мышлению. Жизнь, университеты,
традиции, кружки - в лучшем случае через них можно только тайком
подглядеть проблему... Привести "мнения специалистов"? В этой
области между специалистами не должно быть ни согласия, ни спора,
хотя речь идет не о мнениях, а об объективном положении вещей...
Высказать "критические замечания"? Вообще ни один философ не
"ошибался" и не "заблуждался", если высказывал что-то философское, а
не научное. Философии - это разные мыслительные конструкции, иногда
непримиримые, исключающие друг друга. Но в границах своего
мыслительного пространства мышление философа всегда метафизически
последовательно, хотя может быть логически и даже спекулятивно
противоречиво. Что касается "критики" данного текста, то он просто
неуязвим тем, что открыт полностью для любых возможных понимании,
равно как и непонимании.
Все вышеперечисленные темы предисловия к тексту значимы постольку,
поскольку они не имеют отношения к тексту. Это детали картины текста
с обратной стороны. Да это и не наша задача, хотя некоторая
осведомленность о том, чем текст не является, тоже может иметь
смысл. Художники иногда рисуют объем не изнутри, а снаружи, рисуют
отработанное, вытесненное объемом пространство.
Мысль вещь конечная и актуально, и потенциально, но говорить о ней в
конечных терминах чрезвычайно сложно, а главное скучно. Когда рабби
не знает, что ответить на вопрос, или не хочет на него отвечать, он
всегда
[19]
говорит: "Let me tell you a story", иными словами, он рассказывает
байки (что привело бы в бешенство Хайдеггера: "Бытие не терпит
историй"). Так вот, я приведу несколько историй, которые, согласно
логике предмета этой книги, нужно отвергнуть. Хотя прежде нужно
иметь то, что отвергать, нужно знать истории.
Мне повезло: оба философа, написавшие эту книгу, были моими
учителями. Кстати, я в то время не знала, что они "друзья" и любят
беседовать друг с другом, воспринимала их независимо друг от друга,
но - вместе, потому что лекции (иногда даже очень хорошие), уроки,
дискуссии, самиздат, книги, Голос Америки были на одной стороне, а
они - на другой. Они были философствующие философы... Как такое
возможно? Коммунизм, тоталитаризм, цензура, партком... Если у
человека нет свободы слова, то его свобода мысли нуждается в
культуре, цепляется за социальное, тонет в духовности... Все это
справедливо для интеллектуалов, или духовных лидеров, или идеологов
- но не для философов, точнее, не для философского мышления,
которое, по природе своей, а-социально и а-культурно. Так что
выражения "родился в Москве", "работал в университете", "получил
образование там-то" являются скорее чисто географическими
характеристиками, чем смысловыми, если речь идет о сознании
философа. Кстати, в Америке, где, по выражению Володи Козловского,
"свободы навалом", за 6 лет я встретила тоже только двух философов.
Занимались, однако, авторы этой книги вполне конкретными вещами,
можно даже сказать - "темами" или "проблемами". Мамардашвили -
континентальным классическим философским рационализмом и его судьбой
в XX веке; Пятигорский - буддизмом, Индией "вообще" (представляете
себе человека, который был бы специалистом "по Европе вообще"?) и
писал статьи, в которых часто упоминалось слово "семиотика" (хотя
семиотическими их назвать никак нельзя). Более того, философы -
[20]
это тоже люди, а людям необходимо общение. У Пятигорского и
Мамардашвили тоже был некоторый "круг общения". Это московские
философы (Эдик Зильберман назвал их даже школой, "Московской
методологической школой", лидером которой считался Щедровицкий) и
тартуские семиотики (Лотман и многие другие). Однако ни в коем
случае я не назову это окружение "контекстом", "стимулятором" или
"лабораторией" их мышления. Как уже было сказано, в своем мышлении
каждый приходит ниоткуда. Московские семинары и тартуские
конференции были важны не столько содержанием и результатами работы
(хотя иногда эти вещи оказывались неожиданно действительно важными),
сколько, по-видимому, просто жанром - дискуссией и общей культурной
атмосферой (относительно высокой "культуроемкостью", как сказал
Пятигорский), что было довольно редким явлением на территории
Советского Союза. Хотя в некоторой степени то, о чем думали
Пятигорский и Мамардашвили, методологически было в русле направления
работы московских и тартуских "ученых", а именно: что такое
адекватная методология исследования гуманитарных реалий, реалий
психической, интеллектуальной, социальной, культурной, духовной
жизни человека. Тем не менее, в книге они ни в коем случае не
"синтезируют" Запад и Восток, они не создают "новую",
"усовершенствованную", "обогащенную", "универсальную" мудрую
методологию, которая совмещала бы в себе преимущества обоих
мировоззрений и техник.
Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два
философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой
не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках.
Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.)
Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей - Декарта
и Асанги - и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть,
отсюда и посвя-
[21]
щение "авторы - друг другу"). Друг для друга - это шанс увидеть,
репрезентировать бесконечность (равно как и наивность) собственного
мышления в бесконечности (равно как и наивности) мышления
собеседника. Что-то, что было в тени, в забвении, ушло в Лету,
высветляется, поворачивается в ракурс выраженности, иногда даже, как
на рентгене, видны внутренние каркасы смыслов.
Как я уже сказала, появлению этой книги предшествовала работа.
Авторы думали, их не просто осеняло. Думание и мышление не
обязательно способствует появлению дум и мыслей (у Гегеля гораздо
больше мышления, чем мыслей), но вероятность появления мысли в
мышлении больше, чем вне мышления. Мышление как бы освобождает,
расчищает место для мысли, создает для нее некоторый вакуум, но
отнюдь не создает саму мысль. Можно проследить формирование таких
вакуумов по работам Мамардашвили о Марксе, Гегеле, Канте, Декарте и
многим другим. Схематично движение мысли, приведшее Мамардашвили к
тому перекрестку, где его проблемы пересеклись с проблемами
Пятигорского, можно описать следующим образом (опять же, не проблемы
обусловили факт их разговора, сотни других занимаются теми же
проблемами):
- анализ постулатов и предпосылок классической западной
рационалистической философии; ограниченность представления о том,
что самосознание является наиболее очевидным, "прозрачным" для
самого себя, наиболее фундаментальным, предельным основанием знания,
где объект знания и средства познания совпадают;
- структура духовного производства, продуцирующего именно такую
предпосылку философствования; абстракция чистой способности познания
и ее функция в философских системах;
- появление "новых онтологии" (Ницше, Маркс, Фрейд), оспаривающих
принцип классической философии
[22]
самосознания, что сознание целиком и полностью поддается
рефлективной процедуре; несводимость культурных, идеологических,
психологических реалий к "формам знания", их принципиальная
"иррациональная" природа;
- борьба за и против психологии, необходимость объективного подхода
в анализе сознания, неадекватность объектной, равно как и
субъектной, интроспективной методологии психологии;
- изначальная структурность (или дифференцированность) сознания,
сферы психического и культурного в их взаимосвязи, понятие
"образование" или "отложение" сознания; теория превращенных форм,
"косвенный" способ исследования сознания.
В свою очередь, путь Пятигорского, по-видимому, начинался в той
точке, где оказалось европейское мышление и, в частности,
европейская психология к концу XIX - началу XX века. Ему, как
специалисту по буддизму и древнеиндийскому мировоззрению вообще, не
нужно было предпринимать особые усилия, чтобы вычленить предмет
психологии, психическое как таковое и обосновать его уникальный
онтологический статус. Но проблема была в том, как понимать и вообще
понимать реалии чужой культуры, как преодолеть культурный зазор в
антропологии и этнологии, каким образом избежать насилия и
искажения, возникающие при описании одной культуры средствами другой
культуры. Поэтому прежде чем изучать содержание культуры.
Пятигорский решает изучить ее функциональный аспект: что в данной
культуре считается текстом, кто - учителем, что - школой, кто -
учеником, что считается проблемным, а что - очевидным, что -
исследованием и результатом исследования, что такое доказать или
понять и т. д.;
- особое значение индийских текстов, содержащих вдобавок к самому
содержанию сведения о принципах и возможностях их понимания.
Семиотическая интерпретация таких текстов, формирование понятия
"первич-
[23]
ного метаязыка культуры" - культура содержит внутри себя средства
для своего собственного понимания;
- но саморефлективность культуры заставляет пересмотреть проблему
позиции исследователя по отношению к описываемому факту или тексту
культуры; дилемма "снаружи - изнутри", и как она снимается в случае
"активного" опыта постижения текста;
- самотождество исследующего сознания и "скользящее" Я, принятие
культурой "инородного" понимания;
- онтология отсутствия, сознание как что-то, чего нет; роль символов
в культуре.
Таким образом, у Пятигорского и Мамардашвили оказалось довольно
много (во всяком случае, достаточно) общих точек, чтобы обрадоваться
возможности получения какого-то результата в нашем европейском
смысле. Опять же легче всего сформулировать их в терминах того, чего
надо избежать в анализе психического - интроспекций и субъективного,
точнее, субъективного подхода... в анализе сознания - натурализации
и физикализма, объективистского, точнее, объектного подхода, в
анализе культуры - слишком "волюнтаристской" или чрезмерно
"традиционалистской" установки, в анализе культурной идентификации -
морализаторства и идеологизаций, в анализе культурных предпосылок и
естественного языка - недо- или переоценки, в анализе культурного
символизма - семиотического и культурологического способов
рассмотрения.
Естественно, подобные методологические принципы могли быть
реализованы в некотором новом режиме работы. Это и произошло в
книге, которая не задает вопросы вначале, а в конце на них отвечает.
Скорее книга просто повествует, делится некоторым опытом размышления
о реальностях сознания и о других реальностях, в существование
которых вовлечено сознание. Тот факт, что они не могут адекватно
исследоваться рационалистической логикой, не значит, что они
тотально иррациональ-
[24]
ны. В принципе, они умопостигаемы, но логика их не известна и не
известна не только еще, она вообще не известна. Но, повторяю, это
обстоятельство не делает проблему иррациональной. Можно просто
извлечь некоторый познавательный опыт из таких реальностей. А потому
сам факт знания в данном случае будет состоять не только и не
столько в увеличении содержания знания, в достижении некоторых
"позитивных результатов", но в самом совершении познавательного
процесса, в самом думании.
В этом смысле интересно наблюдать, как рушится наше привычное
представление о том, что такое проблема вообще. То есть вместо того,
чтобы разрешаться, проблемы просто служат в этой книге инструментами
для демонстрации некоторой мыслительной деятельности. Это что-то
вроде физкультурных снарядов - их используют с определенной целью.
Никому и в голову не придет, наблюдая соревнования гимнастов,
следить за тем, что делается с брусьями или бревнами... Хотя есть
разные любители и кто-то, возможно, найдет смысл в том, чтобы
"систематизировать взгляды" Пятигорского и Мамардашвили и описать
предложенное ими "решение проблем" о соотношении языка и мышления,
знания и понимания, символа и психики, сознания и культуры. И это
будет еще одно вполне допустимое логикой этого текста понимание
(непонимание).
Лидия Воронина. Бостон
март 1982
[25]
ОТ АВТОРОВ
Работая над этой книгой, мы шли к своей Теме с разных сторон, то
есть от разных предметов, один - от истории европейской философии
(прежде всего, от Декарта и Канта), другой - от буддологии (прежде
всего, от сутр Большой Колесницы и трактатов Асанги)*. Нашу тему
можно было бы назвать таким полупонятным нам самим образом: "Символ
- Что? Символ - Чего?". Занимаясь разными вещами, мы часто
встречались на пересечениях путей нашего думанья. Тема книги - лишь
одно из мест наших встреч. Случайно или не случайно, мы оба
оказались убежденными в том, что символы - это вещ и, а также и в
том, что наши психики - это тоже вещ и**. Стоит ли говорить, что с
такими убеждениями в семиотике и лингвистической философии далеко не
уедешь? Но мы и не хотели далеко ехать. Дело в том, что почти всякий
нормальный семиотик полагает (или склонен, должен полагать), что
почти всякое явление можно рассматривать как знак какого-то другого
явления. В этом мы с семиотикой согласны ровно наполовину, то есть
мы охотно допускаем правомерность такой интенции семиотиков,
правомерность их склонности рассматривать мир явлений именно таким
образом, а не каким-либо иным. Однако нас отвращает подчеркнутая
эпистемологичность такого рассмотрения, ибо нам очень хотелось бы
понять: нечто может pас-
----------------------------------------
* Оба мы совершенно уверены, что есть (не "существует", а "есть"!)
одна философия, по-разному выполненная в текстах разных стран,
культур, времен и личностей. Просто одна и та же действующая в ней
сила вспыхивала в мире как разные имена.
** Разумеется, каждый может сказать это только о своей психике
(если, конечно, захочет). Но поскольку в этом вопросе мы уже
договорились, то здесь говорим о наших двух, ни в коем случае не
распространяя этого убеждения на психику других людей.
[26]
сматриваться только как символ или оно также может быть символом?
Отсюда первый вопрос Темы: "Символ - Что?". Но если символ - вещь, и
то, что он символизирует, - тоже вещь, то ни о какой онтологии не
может быть и речи, а без онтологии тоска берет за горло, ибо что
остается? - Теория описания одних вещей как того, что некоторым
образом выражает состояние дел в других вещах!*. Тогда мы обратились
к сознанию, как к тому единственному нечто, что есть не-вещь, то
есть что и "есть" и "есть невещь". В этой онтологической интенции
символ "видится" (или "вспоминается") как такая странная Вещь,
которая одним своим концом "выступает" в мире вещей, а другим -
"утопает" в действительности сознания. Отсюда второй вопрос Темы:
"Символ - Чего?". После этого нам стало ясно, насколько далеко мы
уехали от семиотики. И факт этого "отъезда" обусловил общий план
работы. Сначала излагается метатеория сознания в порядке введения в
символизм сознания. Потом - общие соображения о символах как простых
или сложных (структурных) фактах в их соотнесении со знанием и
пониманием. И наконец - самые общие соображения о символах как
символах сознания.
Мы глубоко благодарим тех, кто прочтет эту книгу.
----------------------------------------
* Включая сюда и психику.
М. Мамардашвили
А. Пятигорский
Москва - Химки-Ховрино,
1.1973 - 1.1974
[27]
I. МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ О СОЗНАНИИ
0. СОЗНАНИЕ. РАБОТА С СОЗНАНИЕМ. ТЕОРИЯ И МЕТАТЕОРИЯ. ЯЗЫК.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
Прежде чем мы введем несколько понятий, имеющих значение для анализа
сознания как такового - независимо от нашей темы (символы как особые
выражения жизни сознания) - имело бы смысл пояснить прагматическую
природу той необходимости, какая вообще заставляет обращаться к
сознанию и им заниматься. Проблема "сознания" имеет совершенно
самостоятельный прагматический аспект, и именно в этом аспекте она
может быть условно обособлена, отчленена от проблем психологии,
эпистемологии, логики и лингвистики, имеющих по преимуществу
теоретический характер. Но и прагматической она является не в том
смысле, в каком нам являются другие, чисто практические проблемы
жизни человека. Дело в том, что само отношение к факту, что "у меня
есть какое-то сознание", и работа с этим отношением представляют
собой особый вид отношения и работы, требующие особого понимания.
Понимание здесь - это не концепция сознания, а условие работы с ним.
Значит, во-первых, возникает необходимость выделения чего-то, что к
самому сознанию не имело бы отношения; во-вторых, это - сама работа
с сознанием (не "работа сознания", а "работа с сознанием"), которая
и есть совершенно особый, источник познания. Говоря иными словами,
здесь мы имеем дело с некоторым метасознанием как с познавательной
сферой, в которую мы включаем нечто, что само по себе в сознание не
входит. И в данном случае наличие такой познавательной сферы еще
ничего не говорит о том,
[28]
относится ли то, что в нее включено, к сознанию или нет. Важно то,
что есть абстрактный интерес к этой проблеме, и сначала надо
попытаться понять - какое понимание этой проблемы мы включаем в
познание. Потому мы и начинаем наше рассуждение с выяснения природы
"ментальной необходимости", которая толкает к такому "пониманию" или
к такой "работе".
Здесь особую роль играет некоторая внутренняя отрицательная
способность, выражающаяся в своего рода "борьбе с сознанием". Борьба
с сознанием происходит от стремления человека к тому, чтобы сознание
перестало быть чем-то спонтанным и самодействующим. Сознание
становится познанием, и на это время (слово "время" здесь не имеет
физического смысла) перестает быть сознанием, и как бы становится
метасознанием, - и тогда термины и утверждения этого последнего мы
условно назовем метатеорией. И то, что нас с необходимостью толкает
к метатеории сознания, есть необходимость борьбы с сознанием. Задача
в том, чтобы, во-первых, определить условия, в которых возникает
проблема борьбы с сознанием и, во-вторых, - раскрыть эту борьбу с
сознанием как являющуюся саму по себе источником познания. Борьба с
сознанием вытекает из самого способа существования отдельного
человека как сознательного существа и является проявлением этого
способа, и в этом смысле это прагматическая проблема, потому что
человек наталкивается на нее, какой бы деятельностью он ни
занимался. Человек решает эту проблему как проблему своего способа
существования.
К сознанию можно подходить как не осознанно, так и осознанно. При
неосознанном подходе сознание фигурирует как познавательный процесс.
Оно просто остается "на своем месте", с ним "ничего не делается". Но
мы здесь исходим из того несколько безумного предположения, что в
этот момент, сейчас, в то время, когда мы рассуждаем о проблеме
сознания, когда, как мы гово-
[29]
рим, "мы работаем с сознанием", мы в некотором роде уже его как
какой-то спонтанный, самобытный процесс исключаем. В этом,
собственно, и есть борьба с сознанием. Далее, рассуждая о прагматике
сознания, можно себе представить, что мир сознания в чем-то
чрезвычайно существенном противостоит нашим внутренним стремлениям,
противостоит какой-то важной линии нашей жизни, и тогда выражение
"борьба с сознанием" получит более конкретный жизненный смысл, ибо
окажется, что во имя некоторых мотиваций и целей, лежащих за
пределами сознания, его надо "прекратить". Надо прекратить, не
только для того, чтобы понять, но и для того, чтобы понять что-то
другое, то есть чтобы просто жить. "Жизнь" и "сознание" - это вещи
совершенно разные: мы ведь в какие-то моменты ясно ощущаем
существование такой жизни, которая сознанием не является. Мы просто
чувствуем, что наша жизнь может существовать, может обретать
какую-то полноту не только потому, что сознание останавливается,
чтобы быть осознанным, но потому, что оно останавливается, чтобы его
не было. Мы можем рассматривать прагматику проблемы сознания
примерно так же, как Фрейд рассматривал (а точнее - мог бы, должен
был бы рассматривать) прагматику проблемы подсознательного. Он
наивно думал, что изучает само подсознательное, что было совершенно
невозможно без вычленения прагматического аспекта проблемы. Ему было
необходимо каким-то образом объективизировать что-то в сознании
человека, что для самого человека не было прозрачным. Но как ученый,
всецело принадлежащий XIX веку, он эту объективизацию понимал только
в смысле нахождения позитивной научной истины. Он с помощью такой
объективизации лечил неврозы, но он не понял (во всяком случае, не
писал об этом), что вычленение проблемы подсознательного имеет очень
большое жизненное значение, не только как борьба с тем, что не
познано, но и как борьба с явлением природы, которое мешало
[30]
своей непознанностью, самим фактом своего существования в
неосознанной борьбе с сознанием.
По сути дела, проблема подсознательного, как в свое время очень
тонко заметил Н. Бор, не есть проблема измерения человеком глубин
своего подсознания, а есть проблема создания условий для нового
сознательного опыта или сам этот опыт. Психотехника Фрейда
показывала некоторые природные явления или то, что можно
рассматривать "как свойства человеческой натуры" не в качестве
природных явлений, а в качестве образований сознания. Таким образом,
для Фрейда сначала возникает задача превратить бессознательное в
сознание и путем такого превращения перевести человека в состояние
нового, сознательного опыта, а затем оказывается, что
бессознательное - это то, что "было" сознанием, и только в этом
смысле возможно сравнение или различение бессознательного и
сознательного. Бессознательное имеет смысл только тогда, когда оно
само есть какой-то особый элемент сознания, бывшего сознания. Слово
"бывшее" здесь употребляется условно, поскольку речь идет только о
том, что какие-то факты мы имеем возможность располагать во времени,
в то время как другие факты мы имеем возможность располагать в
пространстве. Поэтому мы можем с равным правом называть
подсознательное не "бывшим" сознанием, а, скажем, "будущим". Важно
лишь, что в данном случае любые выводимые явления психики могут у
нас условно фигурировать как явления сознания, но не вследствие
того, что они стали объектом сознания, а исключительно в силу того,
что они сами фигурируют в качестве естественных "отработок" сознания
или даже как само сознание.
Мы думаем, что понимание сознания, работа с сознанием, борьба с
сознанием - отсюда и попытки построения какой-то своей метатеории
сознания для отдельного человека (мы в данном случае фигурируем как
два отдельных человека) - вызваны нашим желанием дойти
[31]
до какого-то доступного нам сейчас предела, причем предела не в
чистом умозрении, не в поисках какого-то абстрактного
категориального сознания, а предела в поисках основы своего
сознательного существования. Конечно, мы могли бы, опять-таки
перефразируя Фрейда, сказать, что эти попытки необходимы для того,
чтобы нам или другому (больному?) было лучше, но, очевидно, эта
необходимость другого порядка. Здесь не стоит вопрос о "лучше" или
"хуже", - здесь просто возникает внутренняя необходимость дойти до
предела в субъективном сознательном существовании, независимо от
того, чего это может нам стоить.
Понимание сознания в этой работе относится к метатеории, а не к
теории сознания. Это очень трудно объяснить не потому, что этому нет
объяснения, а потому, что этому есть слишком много объяснений.
Первое объяснение, которое можно было бы предложить, связано с тем,
что сознание как таковое (а не его понимание) не может быть нами,
буквально говоря, жизненно пережито, не может быть для нас феноменом
жизни, и поэтому оно не может быть объектом позитивного знания. И
дело не только в том, что оно не может быть объектом личного опыта,
хотя это тоже очень важно, - а в том, что мы просто уславливаемся,
что для нас оно не может быть никаким объектом. Мы говорим, что
работаем с сознанием, что занимаемся пониманием сознания именно
потому, что описывать само сознание, работать с самим сознанием, а
не с его пониманием, невозможно. Поэтому должны быть введены
какие-то термины, понятия, которые надо отнести не к сознанию как
предмету работы, а к "работе" - таким образом эти термины и понятия
будут фиксироваться как свойства самой работы с сознанием. И
фиксируя эти свойства, мы постулируем такую область, где нет
терминов "объект" и "субъект" как терминов сознания в его предметном
изучении, но где термины "объект" и "субъект" будут терминами
[32]
метаязыка описания сознания. В объяснение этого можно обратиться к
аналогиям.
Возьмем "сознание как таковое"; мы не знаем, что это такое, мы
исходим из того, что вещей подобных сознанию нет, но в то же время и
о некоторых других вещах и явлениях мы также можем говорить, что они
не могут быть объектом непосредственного знания, и поскольку они не
могут быть объектом непосредственного знания, они могут быть
сопоставимы с сознанием по этому признаку. Возьмем, например, смерть
как явление сознания. Смерть не может быть описана в силу того
тривиального обстоятельства, что для ее описания надо быть живым, а
будучи живым - описать свою смерть невозможно. И так будет всякий
раз, когда мы берем такие примеры для аналогий, в которых сам способ
описания уничтожает условия, в которых мыслится предмет, который мы
хотим описать. Понятие смерти может быть конкретизировано как смерть
клиническая, смерть биологическая и т. д., но смерть остается, как
явление, неописываемой, и поэтому смехотворно говорить о теории
смерти, между тем как с точки зрения сознания вполне допустимо
говорить о метатеории смерти (в уже указанном выше смысле, то есть
описывать условия, в которых о смерти говорится и думается, и
свойства этого говорения и думанья, а не сам предмет).
Здесь возможна еще аналогия с историей языка, с проблемой
происхождения языка. Как и в описании смерти мы обнаруживаем здесь
ограничивающие условия, которые вынуждают нас поставить вопрос о
необходимости метатеории. Когда ставится вопрос о метатеории языка,
действуют те же самые причины, во всяком случае, в той части теории
языка, которая касается проблемы его происхождения и истории, ибо
эта проблема не может быть поставлена в силу того, что любая попытка
этого описания уже содержит в себе те условия и те средства,
происхождение которых как раз и должно быть выясне-
[33]
но, и потому, как нам кажется, наука лингвистика должна принимать
факт языка как целое, нерасчленимое с точки зрения его генезиса.
Мы не можем восстановить язык как девственный факт, до которого не
было язык а, а потом язык появился как нечто первичное. Мы можем
описывать в диахроническом плане только конкретные структуры
какого-то существующего языка, отвлекаясь от проблемы происхождения
языка и структуры языка вообще.
Аналогичное явление можно заметить и в онтогенезе языка. До сих пор
совершенно непонятно - каким образом за первые четыре года жизни
человек научается языку. Практически получается так, что наступает
время, когда он уже овладел элементами языка, и все попытки
детерминировать "ситуацию овладения языком" какой-то начальной,
исходной ситуацией бессмысленны. Мы можем здесь лишь "идти дальше",
от этапа, когда он уже овладел "первичными" элементами языка, к
последующим этапам его языкового научения, то есть, по сути дела, к
этапам расширения его языковой эрудиции, поскольку она уже была дана
в 3 - 4 года. Но каким образом это произошло - детерминистски
осознать невозможно. Потому что любая попытка детерминистского
осознания начальных условий уже содержит в себе в скрытом виде сами
эти начальные условия. Но это не тот вид начальных условий, который
предположительно является генетически предшествующим, - генетически
предшествующее начальное условие не восстановимо.
Проблема метатеории сознания осложняется еще и тем, что существует
так называемый "первичный" метаязык. То есть, кроме метаязыка
сознания, который мы хотим построить как исследователи, существует и
другой, по отношению к нему являющийся первичным, метаязык самого
сознания как некоторой "естественно" функционирующей силы. Возьмем
такую удивительную способность древнеиндийских грамматических
[34]
представлений (аналогичные вещи наблюдаются во многих мифологических
системах), как их способность быть описанием языка и одновременно
порождать условия для вторичного осознания в качестве теоретической
системы этого описания. Лингвисты склонны рассматривать эти
представления как знание о языке, мы же считаем их какими-то
"естественными образованиями", условиями "работы" самого языка,
внутренней возможностью функционирования любого (в принципе) языка,
независимо от существования какой-либо науки о языке.
Таким образом, мы могли бы сказать, что некоторые аналогичные
сознанию факты могут сами спонтанно воспроизводиться как
метаязыковые образования. Мы привыкли расчленять метаязык и
язык-объект как некое "что", когда речь идет о языке-объекте и
приурочивается принудительно к объекту, и некое "что", когда речь
идет о метаязыке и приурочивается принудительно к субъекту. Мы
отказываемся от такого приурочивания, так как думаем, что дуализм
метаязыка и языка-объекта существует только в силу чисто условного
допущения различия "субъекта" и "объекта". Мы можем просто
представить, что какие-то явления (а не именно "субъект") сами могут
выработать какие-то метаобразования, что какой-то язык может и
сегодня порождать какие-то метаязыковые образования.
Сознание и язык могут естественным образом функционировать лишь при
условии существования каких-то представлений (которые мы называем
метапредметами) о самих этих предметах. То есть сознание
функционирует, лишь поскольку есть нечто о сознании. Язык
функционирует, если есть нечто о языке. Эти метавысказывания о
предметах, являющиеся одновременно элементом функционирования этого
предмета, могут быть даны и существовать в совершенно объективной
форме как предметы или объективации. Мы условимся называть такие
мета-
[35]
образования прагмемами, имея в виду, что они существуют в силу
прагматической связи человека с ситуацией его деятельности и
возникают в силу этой прагматической связи как объекты,
обслуживающие ее. И сам факт, что мы рассматриваем нечто как
прагмемы, есть признак вторичного метаязыка, а не первичного,
которому свойственно как раз выносить эти предметы во вне и
относиться к ним совершенно натуралистическим образом.
Первичный метаязык не обязательно связан со вторичным исторически.
Мы не можем сказать, что первичный метаязык был основой для
вторичного. Просто, по-видимому, нечто порождает первичный метаязык
и, кроме того, существует метаязык, который можно соотнести с
первичным метаязыком типологически, но не генетически. Такого же
рода параллель наблюдается в древнеиндийской теории сознания.
Совершенно очевидно, что первая древнеиндийская теория сознания, как
она фигурировала в ранних буддийских текстах, есть совокупность
прагмем как элементов самого сознания, а не теории (или науки) о
нем. Но наряду с этим там, очевидно, существовали и какие-то
положения, которые относятся к метаязыку сознания в нашем смысле
слова. В принципе возможен и такой подход, при котором любой
метаязык может быть описан как первичный, то есть как такой, где
некоторые метаобразования описываются как натуралистически
существующие предметы, как свойства бытия.
Явления первичного метаязыка не могут быть названы наукой. Называть
древнеиндийскую теорию сознания наукой о сознании и первые
гениальные соображения древних индийцев о языке наукой о языке
нелепо. Первичный метаязык возникает просто вне классической
проблемы соотношения субъекта и объекта, проблемы, в духе которой
метаязык всегда оказывается связан со сферой субъекта. Хотя
эмпирически такая связь может иметь место (мы вовсе этого не
исключаем), для
[36]
нас различение языка-объекта и метаязыка существует как различение
каких-то двух явлений сознания, не обязательно соотносимых со
структурой "объект - субъект".
И когда мы говорим, что в некотором первичном метаязыке, следы
которого можно обнаружить в древнеиндийских трактатах о языке или
древнеиндийских трактатах о сознании, есть что-то о языке или
сознании, то мы не имеем в виду, что это - знание о языке или о
сознании и в качестве такового есть менее совершенное знание, по
отношению к которому научные знания или научные грамматики или
научные теории сознания были бы более совершенными, и в этом смысле
и то и другое стояло бы на одной линии развития. В равной мере здесь
было бы неуместно выражение "предвосхищение" в применении к учению
древнеиндийских грамматиков и психологов. Это безусловно
самозамкнутое явление, оно ничего не предвосхищает. Первичный
метаязык, с одной стороны, и научное знание о предмете этого
первичного метаязыка - с другой, есть совершенно разнородные
явления, не находящиеся друг с другом в отношении "раньше - позже",
"неполно - полно", "несовершенно - совершенно", "не развито -
развито", "архаично - современно". Одной из систематизации
первичного метаязыка мог являться миф, а не наука, и в этом смысле
некоторые мифологические системы можно рассматривать как
развертывание первичного принципа, который надо еще вывести из
свойств объектов метаязыка, которые мифом переведены в ранг картины
бытия или мира. Науку же как раз-то и нельзя рассматривать как
систематизацию первичного метаязыка, поскольку она совершает
обратное движение, запрещая такой перенос. Поэтому-то мы и
допускаем, что какие-то вещи несут в себе метаязыковое значение сами
по себе, своего рода "природным" образом.
Употребление здесь рядом терминов "метаязык" и "метатеория" не
должно понимать в том смысле, что это
[37]
одно и то же. Метатеория сознания есть то, что мы конструируем в
нашей работе с сознанием, в нашей борьбе с ним. При этом какие-то
слова являются самым простым бытовым материалом для этого
"конструирования", потому что они у нас под рукой, не более того.
Что же касается метаязыка сознания, то здесь мы вынуждены либо
пользоваться существующими терминами, которые мы берем из
языка-объекта или метаязыка, либо пользуемся какими-то бытовыми
словами и выражениями, не имевшими до настоящего момента
терминологического смысла, и придаем им специальный
терминологический смысл, как например: "понимание сознания", "работа
с сознанием", "борьба с сознанием". При этом важно, чтобы они
одновременно сохраняли и свой элементарный смысл. В метатеории
сознания надо стремиться к терминам, сохраняющим свое прозрачное
значение бытового употребления, ту свою способность вызывать
богатство ассоциаций, которая возместила бы трудности аналитического
описания сознания.
Здесь можно, конечно, увеличить количество терминов типа "работа с
сознанием", что предполагает создание новых пучков ассоциаций, но мы
постараемся, чтобы таких терминов было как можно меньше, потому что
главным для нас остается интерпретация понимания сознания "для нас".
Пусть останутся прежние слова, и лучше мы в них будем каждый раз
снова и снова разбираться, чем вводить термины, которые в дальнейшем
могут быть неограниченно интерпретированы.
Теперь возникает вопрос: можем ли мы говорить о "способах
распознавания сознания?" Можем ли мы говорить о том, что у нас есть
какой-то способ, пусть эмпирический, пусть интуитивный, пользуясь
которым мы могли бы сказать: вот это - сознание, а это -
не-сознание. Для нас языковая форма понимания сознания (а мы сейчас
говорим или пишем о сознании) не должна накладываться целиком на
область сознания. Мы не мо-
[38]
жем сказать: "Где есть язык - там есть сознание". Мы в нашем
понимании сознания пользуемся языком, поскольку это понимание
эксплицируется. Что касается самого сознания как гипостазируемого
объекта, то мы оставляем вопрос о его отношении к языку полностью
открытым. По-видимому, есть много способов понимания сознания и
экспликации понимания сознания. Можно указать только на один момент:
когда речь идет о прекращении сознания, о борьбе с сознанием, как с
тем, что должно быть остановлено, то здесь язык остается
исключительно как способ описания нашего понимания.
Отличение сознания от языка может быть зафиксировано в отдельных
описуемых случаях мышления и языка. Можно, во-первых, найти в языке
куски, в которых предположительно могли бы пересекаться сознание и
язык. В качестве таких кусков языка могут фигурировать языковые
формации, которые являются сами себя обозначающими образами и несут
в себе информацию о самих себе. Последним, например, является
образование типа: "я думаю, что...", "я предполагаю, что...", где
референт, к которому отсылает язык, содержится в самом же языке, а
не вне его. В этом случае можно предположить способность или
возможность сведения других образований сознания к этой форме, то
есть редуцировать иные, более сложные языковые образования к таким
формациям, где, как мы сейчас в данный момент предполагаем,
"проглядывает" сознание. Но в данном случае мы как раз можем
отвлечься от языковой формы по той причине, что в виде языкового
обнаружения сознания мы выделяем то, что вообще не является
специфическим свойством языка, и можем рассматривать это свойство
самоотсылки к самому себе в качестве сознания отдельно от языка, и
тем самым рассматривать в качестве сознания такие тексты, которые
создаются актом чтения самого же текста. Тогда мы могли бы
предположить, что язык является той сферой, где сознание получает
"сла-
[39]
бую маркировку". Мы не можем сказать, что некоторый языковый текст
маркирован как акт сознания. Скорее, мы имеем дело с какими-то
синтаксическими и стилистическими конструкциями, где сознание
проявляется в установлении ранга текста, в установлении текста
внутри текста и т. д. На это явление неоднократно обращали внимание
и лингвисты и исследователи стилевых особенностей языка. Вообще,
просто потому, что мы хотим понять не язык, а сознание, мы считаем,
что язык это нечто, что уже понято (не нами). Мы не понимаем - что
такое язык, но здесь мы и не хотим понимать, что такое язык, - мы
хотим понимать, что такое сознание. Сами по себе языковые оппозиции,
как нам кажется, не говорят ни о чем в сознании. Более того, они не
говорят и о присутствии сознания. Можно предположить иное: когда
человек переходит от одной системы оппозиций к другой, тогда мы
можем предположить присутствие факта сознания как фактора перехода
от одного языкового состояния к другому, сама динамика которого как
бы косвенно указывает на то, что имеет место сознание. В этом смысле
не лингвистическими оппозициями нужно пользоваться для разъяснения
сознания, а сознанием для разъяснения лингвистических оппозиций, для
интерпретации самого факта их существования. Сознание вообще можно
было бы ввести как динамическое условие перевода каких-то структур,
явлений, событий, не относящихся к сознанию, в план действия
интеллектуальных структур, также не относящихся к сознанию. По сути
дела, область интеллектуальных структур и лингвистических оппозиций
можно определить как область механических отработок, "сбросов"
сознания, куда сознание привело человека и где оно его оставило, или
где он из него вышел. С этой точки зрения можно было бы выразиться и
иначе: когда человек переходит к устоявшейся структуре языкового
мышления, то сам факт, что он остается в данном состоянии языкового
мышления, свидетельствует
[40]
о том, что он вышел из сознания, то есть что он покинул какую-то
структуру сознания.
Здесь мы могли бы предложить какую-то "антигипотезу" Сепира - Уорфа.
Точке зрения Сепира - Уорфа (выражающей глубокий языковый опыт
современной науки) о том, что язык является материалом, на котором
можно интерпретировать сознание, средством для интерпретации
сознания, средством для какого-то конструирования структур сознания,
мы могли бы противопоставить предположение о том, что, напротив,
определенные структуры языка выполняются или, вернее, могут быть
выполнены в материи сознания. Но с гораздо большей степенью
вероятности мы могли бы предполагать, что какие-то структуры
языкового мышления более связаны с отсутствием сознания, нежели с
его присутствием. Сама проблема объективного соотношения языка и
сознания искусственно навязана наукой последних полутора столетий.
Эта проблема может быть поставлена, вероятно, с большим основанием,
когда речь идет о языке. От нее очень трудно, но необходимо
избавиться, когда мы рассуждаем о нашем понимании сознания, потому
что сознание невозможно понять посредством лингвистического
исследования текста. Исследование текста, даже самое глубинное, даст
нам не более чем "проглядывание" сознания; текст может быть создан
без сознания, в порядке объективного знания или спонтанно.
Сказанное можно переформулировать и так: читая текст, мы можем
сказать: "в этом месте есть сознание", но мы не можем сказать, когда
мы видим текст, что "здесь есть сознание". Сам по себе текст как
какой-то абстрагированный от конкретно-содержательных моментов
объект ничего не говорит о сознании. Текст может быть порожден,
между тем как сознание не может быть порождено никаким
лингвистическим устройством, прежде всего потому, что сознание
появляется в тексте не в
[41]
силу каких-то закономерностей языка, то есть изнутри текста, но
исключительно в силу какой-то закономерности самого сознания.
Уже в том как мы обосновываем наше "подвешивание" языка, мы
сталкиваемся с одной особенностью области, обозначенной термином
"сознание". Фактически мы видим эту особенность в существовании
некоей фоpмы, которая обладает способностью или свойством саму себя
обозначать. В языке это происходит там, где предметом сообщения
оказывается сам механизм сообщения, и он (предмет) тем самым
отсылает к самому себе, существует как то, о чем в данный момент
говорится, то есть как нечто, индуцированное состоянием, в котором
происходит говорение или мышление. Но, чтобы пояснить это, вернемся
к метатеории.
Есть ряд явлений, в которых мы обнаруживаем то, что можно было бы
назвать "законом интерпретирования": речь идет о той особенности,
которую мы приписываем нашему способу введения метаязыка, но
одновременно можем обнаружить ее в объектных свойствах той области
или сферы, для разъяснения которой строится именно метатеория, а не
просто теория. Что же это за свойства, которые ускользают от теории,
но, на наш взгляд, поддаются разъяснению в метатеории? Это довольно
обширная область явлений, где объект тождествен его интерпретации.
Приведем простой пример. Допустим, в детстве с человеком что-то
случилось. Случившееся с ним он вспоминает как обстоятельство,
действующее на него, формирующее его, влияющее на него. Но,
рассматривая случившееся с ним в прошлом, ставит ли он вопрос о том,
чтобы выявить объектно случившийся с ним факт? Что является в данном
случае "объективным"? Возможно ли, что само различение объективно
случившегося и того, как объективно случившееся воспринято и
запомнено, не имеет смысла? Но если даже и есть смысл, то механизмы
"как" и "что" были бы настолько близки, ана-
[42]
логичны, что в нашем рассуждении различие между этими механизмами
будут весьма неустойчивым. "Как" и "что" практически будут
совпадать. Но здесь есть и другое. Реально действующей силой здесь
является то, как мы помним, воспринимаем, интерпретируем это
случившееся с нами, и это "как" может меняться, но меняться в
действительности, не только в восприятии. Меняется или возникает
заново какая-то реальность, применительно к которой различение между
интерпретацией и внешним этой интерпретации объектом, между
воспринятым и восприятием не имеет смысла, и это мы можем обнаружить
в большом числе интерпретируемых объектов.
Мы считаем, что применительно к явлениям такого рода, обнаруживающим
именно такое свойство, может строиться метатеория, а не теория. И мы
поэтому предполагаем, что везде, где может вводиться метатеория,
везде, где есть такое свойство, мы имеем дело с тем, что может
условно описываться как сознание. Сознание может вводиться как
некоторое особое измерение, в котором описываются мировые объекты и
события; подобно тому как мировые объекты и события могут полагаться
существующими и конкретизирующимися в пространстве и времени, они
могут полагаться существующими и конкретизирующимися в сознании, и
подобно тому, как существование в пространстве и времени накладывает
какие-то ограничения на предметы и события, так и измерение
сознательного бытия накладывает какие-то ограничения на мировые
события и объекты, условно помещаемые нами в сознание.
По-видимому, не только память, но любой психический процесс (который
может быть рассмотрен как объект, в отличие от сознания) дает
возможность интерпретации в смысле создания такого же
"самоотсылаемого образа", как это было, когда мы говорили о языке и
тексте. Мы могли бы сказать, что везде, где есть сознание (это не
есть пример распознавания сознания), там может
[43]
быть память, но мы не можем сказать, что везде, где есть память, там
есть сознание. Сознание - это не психический процесс в классическом
психофизиологическом смысле слова. Но очень важно иметь в виду, что
любой психический процесс может быть представлен как в объектном
плане, так и в плане сознания. И хотя мы понимаем, что очень трудно
примириться с такой психологической двойственностью, она для нас
существует как двойственность психологии и онтологии. В глубокой
древности, в середине первого тысячелетия до новой эры буддийские
мыслители предполагали, что сознание не есть один из психических
процессов, но что оно есть уровень, на котором синтезируются {все}
конкретные психические процессы, которые на этом уровне уже не
являются самими собой, так как на этом уровне они относятся к
сознанию. Таким образом, на каждый психический процесс мы можем
смотреть как со стороны сознания, так и и со стороны объектов. И, в
частности, тупики в механистическом понимании психического,
по-видимому, происходят от того, что не учитывается сторона
сознания. Возьмем, например, ту же память. На уровне воспроизведения
запомненный факт является фактом сознания постольку, поскольку
осознающий субъект может эксплицировать при этом факт запоминания.
Факт свершения события, о котором идет речь, факт запоминания и факт
воспоминания - это факты, относящиеся к психическому процессу
памяти. Но когда они выступают на уровне их корреляции в едином
потоке, то они уже не могут рассматриваться только объектно. И тогда
это уже дает нам основание говорить о сознании. То есть взятые
отдельно "запоминание" и "воспоминание" суть объективно случившееся
в научном смысле этого слова, а их корреляция есть какое-то "нечто",
в котором нет различия между "как" и "что". И это "нечто" действует
как некоторая интегральная "сознательная сила", но сознательная
только в том смысле, что нечто, что с ней происходит, нами осоз-
[44]
нается не только как факт. Она не есть буквально "сила сознания",
потому что для того, чтобы говорить о сознании, мы должны были бы
перейти от метатеории к теории.
Мы понимаем, что наше понимание сознания не может называться
"сознанием" в том смысле слова, в каком сознание фигурировало бы у
нас, если бы оно было объектом теории, или в том смысле слова, в
каком сознание фигурировало бы внутри классической рефлексивной
процедуры самосознания.
1. СФЕРА СОЗНАНИЯ
Теперь мы переходим от рассуждений о нашей работе с сознанием и о
метатеории сознания к конкретизации сознания. Этот "переход" мы
начинаем с понятия и термина "сфера сознания". "Сферу сознания" мы
вводим для обозначения гипотезы о том, что сознание может быть
описано вне приурочивания этого сознания к определенному
психическому субъекту, индивиду. Более того: в связи с этим
возникает другой вопрос - вопрос о принципиальной возможности не
приписывать сознанию чего бы то ни было, как со стороны субъекта,
так и со стороны объекта. Нам кажется, что для такой гипотезы
недостаточно замечания о том, что сознание может описываться как
необъектное. Здесь необходимо допустить принципиальную возможность
описания сознания как чего-то и онтологически несубъектного. Мы
повторяем: здесь речь идет не о действительном положении вещей,
поскольку действительное положение вещей применительно к сознанию
нами здесь не обсуждается. Мы лишь говорим о том, что в нашем
понимании сознания мы предполагаем возможность его описания вне
какой бы то ни было его приуроченности, вне какого бы то ни было
приписывания как объектного, так и субъектного порядка, поскольку и
субъект и объект сознания по необходимости выступают как некоторым
образом сформулированное
[45]
действительное положение вещей относительно сознания. Под этим углом
зрения, мы можем сферу сознания рассматривать как своего рода
метасферу по отношению к другим возможным сферам научного,
философского и умозрительного рассмотрения. Именно положение
сознания как какого-то универсального метаобъекта делает
сомнительным обращение к аналогиям, ибо всякая аналогия, чтобы быть
корректной, должна производиться или на том же уровне, что и
аналогизируемый факт, или, по крайней мере, на уровне близком к
нему.
Поскольку "сфера сознания" вводится нами как условный прием,
разумность которого пока еще далеко не очевидна, мы позволили бы
себе начать с конкретного, наглядного пути "хождения" по сознанию,
пути, который приводил бы к явному парадоксу. К такому случаю
парадоксальности, в применении к которому мы могли бы предложить
"сферу сознания" как способ разрешения этого парадокса, так, чтобы
читатель одновременно имел, во-первых, исходный материал и во-вторых
- имел бы какую-то очевидную тупиковую ситуацию, в которую его
вводит другой способ рассмотрения сознания. И только тогда он мог бы
принять предлагаемое нами представление о сфере сознания как способ
выхода из этого тупика. Ведь фактически мы вводим "сферу сознания"
как понятие, разрешающее как раз те противоречия, к которым приводит
применение понятия "субъекта" и "объекта". Противоречия, к которым
приводит само различение объектной сферы как сферы натурально
существующей - с одной стороны, и субъектной сферы как тоже
натурально существующей, но имеющей какие-то психологические или
псевдопсихологические качества и характеристики. Одной из причин
введения понятия "сфера сознания" может, например, служить тот факт,
что здесь не существует психологического объекта как такового, и что
любая теория сознания в той мере, в какой она - "теория" сознания
(со всеми ого-
[46]
ворками насчет применимости слова "теория"), должна будет отказаться
в исходных (или вводных) своих построениях от представления о
существовании натуральных психологических качеств, чтобы, может
быть, потом их внести уже на основе сознания, а не как нечто
натурально данное.
Мы исходим из весьма элементарной и тривиальной умозрительной
предпосылки, что если с самого начала принять гипотезу о
принципиальной равноценности (в отношении возможностей их описания)
субъекта и объекта, то становится возможным представление о том, что
существует какая-то универсальная синтезирующая категория, опираясь
на которую мы могли бы перейти к рассмотрению субъектного и
объектного планов. Поскольку мы живем в определенной культуре, мы
привыкли мыслить и описывать события в более или менее строгом
дихотомическом плане "субъект - объект". Допустим, возникает
какое-то иное представление - представление о том, что план
"субъекта - объекта" не считается нами первичным планом умозрения,
что первичный план иной, во-первых, не дихотомический - во-вторых;
что существует какой-то абстрактный синтезирующий план, от которого
мы могли бы перейти к плану "субъект - объект". Иначе говоря, мы
предлагаем в качестве первичного способа описания такой способ,
когда вводится сфера сознания, в которой нечто описывается без
присутствия субъекта или объекта. Сама необходимость в этом ходе,
который мы называем метарассуждением, предполагающим понятие "сферы
сознания", связана с тем, что в попытках описания сознания
необходимо предварительно сконструировать некоторый "синтетический
объект" (то есть объект, который являлся бы объектом "для нас", был
бы конструкцией внутри нашего умозрения, а не объектом в реальном
смысле этого слова).
Этот синтетический объект должен позволить нам свободно двигаться
вдоль и поперек в границах разли-
[47]
чий между психологическим, социологическим, этическим и т. д.
описаниями и позволить нам представить исходную точку отсчета,
которая не зависела бы от предметных разделений на психологический,
социологический, этический и т. д. подходы к сознанию. Вначале нам
важно не быть связанными никакими расчленениями. Это первый и
основной пункт. "Сфера сознания", не содержащая в себе
объектно-субъектных характеристик, является частью "символического
аппарата" нашего понимания сознания (при том, конечно, что весь
аппарат понимания сознания символичен). Когда мы говорили о борьбе с
сознанием, то тем самым фактически имели в виду, что масса процессов
сознательной или духовной деятельности - выразимся здесь пока так,
недифференцированно, - связана с разрушением существующих
объективаций, с одной стороны, а с другой стороны - психологических
кристаллизации, которые приписываются в виде свойств субъекту. И
вот, чтобы обозначить то нечто, ради чего разрушаются вещественные и
психологические структуры, нечто, что уже по самому нашему подходу,
по самому способу фиксации этих явлений не имеет направления, не
имеет характеристики (потому что, если бы оно имело лицо, имело бы
характеристики, оно уже было бы одной из субъективных или
объективных структур), мы вводим конкретизируемый символ (или
оператор) "сфера сознания" как обозначение этого предельного
"нечто". Или иначе - чтоб изобразить эту направленность работы
нашего понимания сознания, то есть такого понимания, которое видит
борьбу с сознанием как возникающую в каких-то точках нашего
мышления, мы должны вводить понятие о "сфере" или о "пустоте", в
которую все это "устремляется", сфере, не получающей никаких
определений. Представим себе парадоксальную ситуацию описания
сознания, которая могла бы вызвать к жизни какие-то новые
представления о сознании (в данном случае представление "сферы
сознания"). Существующие спо-
[48]
собы описания сознания оперируют сознанием как объектом, обязательно
приуроченным к субъекту или, если они не оперируют таким
представлением, то они, тем не менее, связаны с принятием основной
посылки классической философии, а именно, что самая достоверная
точка отсчета для любого явления сознания есть данность сознан и я.
То есть это такие способы описания сознания, которые за пределы
самого сознания никогда и в принципе не выходят. Таков основной
тезис классической философии: привилегированность данностей
сознания, и это же остается - на другом языке и в рамках другого
подхода - исходной позицией феноменологического и
экзистенциалистского анализа. Здесь-то и обнаруживается, что, как
при рассмотрении сознания как объекта, предлежащего субъекту, так и
при таком рассмотрении, которое не выходит за рамки сознания (потому
что ищет в нем самом точку отсчета), мы оказываемся в ситуации,
когда вынуждены сознанием называть нечто, что заведомо им не
является. Так, например, феноменологи термин "сознание" применяли к
процессам, которые совершаются бессознательно, или, как они
выражаются, анонимно, автоматически, спонтанно; то есть сознанием -
другого термина у них не было, на это толкала их логика рассуждения,
- они называли такие вещи, которые в то же время сами не должны были
бы называть сознанием: они не являются сознанием по тем же
характеристикам, которые они сознанию приписывают.
В рамках этого рассуждения двусмысленным становится сам термин
"сознание". Обычно психоанализ упрекают в том, что в нем понятием
совершенно мифологического типа является понятие бессознательного.
Понятие, которое никак не определяется, будучи чем-то вроде
маленького кобольда, бесенка, творящего всякие безобразия. Но дело
не в этом. Основной парадокс психоанализа, может быть (как и
парадокс феноменологии и экзистенциализма), состоит в том, что
термин "сознание"
[49]
стал двусмысленным, расплылся. Проблемой стало не бессознательное, а
сознание, которое осталось непонятным и непонятым. Фрейд и Юнг
открыли цивилизованному миру бессознательное, в порядке
аналитического процесса отчленяющего бессознательное от
сознательного для того, чтобы сделать более содержательным
аналитическое понимание сознания. А на самом деле аналитическое
понимание сознания обнаружило свою полную бессодержательность именно
в результате введения бессознательного. Проблемой стало достижение
"гомологического" понимания сознания. То есть стала ясной
необходимость отказа от такого способа понимания сознания, при
котором в понимание не вводилось бы ничего находящегося вне
сознания, вне сознания как субъектно-объектной реальности. Без этого
нельзя решить проблему сознания. Хотя многие современные авторы и
повторяют, что субъект и объект едины, что есть сфера, в которой
субъект не отделим от объекта, но в той мере, в какой за точку
отсчета берутся данности сознания или данности в сознании, мы
неминуемо оказываемся перед парадоксами. Об одном мы уже говорили:
мы сознанием называем явно что-то несознательное, приписываем
сознанию черты чего-то, явно сознанием не являющегося. Во-вторых, мы
возвращаемся в этих точках отсчета к очень старому парадоксу,
который был известен Сократу, древним индийцам и, по крайней мере,
таким философам Нового времени, как Декарт и Спиноза, а именно, что
сам акт мысли содержит в себе невозможность определения себя как
конечного акта мысли. Например, Сократ говорил: для того, чтобы
узнать что-то, я уже должен знать то, что я хочу узнать. Спиноза
говорил, что фактически для того, чтобы знать, я должен уже знать к
а к я буду это знать и почему мне нужно это узнать, а для того,
чтобы знать, почему мне нужно это знать, я должен знать, что я хочу
узнать, и так до бесконечности. Для разрешения этого парадокса
Спиноза и вводил понятие божественного бес-
[50]
конечного интеллекта, частью которого является человеческий
интеллект. И древние индийцы, собственно, говорили то же самое.
Вспомним хотя бы теорию Атмана, согласно которой, если я нечто
фиксирую как факт моего сознания, то я уже не в этом состоянии
сознания, и я, следовательно, уже не "я" и т. д. до бесконечности.
Так вот, именно для разрешения такого рода ситуаций нам и оказалось
нужным понятие, которое было бы введено в качестве точки отсчета в
понимании сознания так, чтобы эта точка отсчета не полагалась бы как
данность в сознании.
Но понятие "сфера сознания" может помочь и в разрешении ситуации
другого рода. Наша ситуация, с одной стороны, является чисто
умозрительной, с другой же, она связана с еще одной очень стойкой
"металингвистической" позицией. Существует такая аксиома
европейского, да впрочем, почти и всякого иного умозрения, которая в
одних учениях присутствует имплицитно, а в других достаточно ясно
текстуально выражена: если мы говорим, что мы что-то понимаем, что
мы что-то пытаемся понять, то мы при этом предполагаем, что это
что-то себя не понимает, либо, что оно себя не понимает в данный
момент. В общем любое умозрительное допущение "твоего", "моего"
понимания чего-либо с необходимостью, аксиоматически предполагает,
что это "что-то", хотя бы в ситуации нашего понимания, себя не
понимает. Когда мы понимаем, то оно само себя не понимает. Если оно
понимает само себя, то, значит, мы его не понимаем. Такова "аксиома
исключительности", которая, по существу, всегда устанавливает
какие-то области монополии понимания. Введение "сферы сознания"
поможет разрешению такой ситуации, потому что, когда мы говорим, что
существует не приуроченное к объекту и субъекту сознание, то мы
просто отвлекаемся от проблемы его понимания самим собой. Или
точнее, наша попытка понимания сознания не имеет никакого отношения
к вопросу - понимает ли сознание само себя или не понимает. И в этой
гипоте-
[51]
зе имплицитно содержится презумпция, что оно себя понимает, не
будучи приурочено ни к субъекту, ни к объекту. Это допущение не
будет означать буквально, что сознание себя понимает, а будет
означать, что мы в нашем анализе условно принимаем то, что "говорит"
сознание, за действительное положение вещей. Таким образом, вводя
безличную конструкцию "Оно понимает", мы какую-то часть сознания
(независимо от того, что мы могли бы сказать о референтах этого
выражения) приравниваем к действительному положению вещей. Этот
принцип - и здесь нам приходится немного забежать вперед, потому что
это не совсем относится к проблеме сферы сознания, но относится к
ней в то же время в том смысле, что без введения понятия "сфера
сознания" это дальнейшее поле конкретной проблемы нельзя будет
развить, - можно было бы назвать "принципом объективной ошибки". И
он мог бы быть введен наряду с другими принципами классического
философствования (таким, например, как "принцип упорядоченности
мира" и т. д.). Когда мы говорим, что какая-то часть сознания нами
приравнивается к действительному положению вещей (тем самым
отвлекаясь от того, понимает ли сознание само себя или нет), мы
фактически допускаем в качестве универсального позитивного принципа,
что возможна ошибка, но мы должны и будем "ей" верить. Совершая это
"приравнивание" и тем самым отвлекаясь от классической дилеммы, о
которой мы говорили, мы вводим своего рода "квазипредметность". Или,
вернее, так: то, что мы позволяем в нашем понимании сознания считать
за действительное положение вещей, есть то, что мы в нашей
метатеории, имеющей отправным пунктом сферу сознания, будем называть
квазипредметностью. Введение квазипредметности есть весьма удобный
способ разрешения этих парадоксов потому, что суть их состоит в том,
что употребляемые способы описания сознания всегда наталкиваются на
нечто, ускользающее от рефлексивной процедуры.
[52]
А сами эти способы описания неразрывно связаны с рефлексивной
процедурой, очерчены ее посылками, ее традицией и т. д. Но когда они
наталкиваются на нечто ускользающее от рефлексивной процедуры в
принципе, то тогда-то и возникают парадоксы, разрешение которых,
собственно, и состояло бы в отказе от рефлексивности, то есть от
классического способа описания, потому что классическое описание в
принципе исключает приравнивание какой-то части сознания к
действительному положению вещей или к такому положению, которое себя
не понимает, тогда как сознание это то, что мы понимаем. А
действительное положение вещей есть нечто такое, о чем никакая
рефлексия не может сказать, что это "есть" сознание. (Ибо в
классическом способе содержится придуманная контрадикция:
"договорились", что если объект, то он - не сознание, а если -
сознание, то оно - не объект. Мы же, не утверждая объективности
сознания и отвлекаясь от объектности и субъектности сознания,
снимаем эту проблему.)
Возможен еще один подход к сфере сознания. Здесь операционально
удобно исходить из какой-то идеализированной прагматической
ситуации. Рассмотрение любого вопроса, поскольку оно описывается
самим человеком, который этот вопрос рассматривает, должно
предполагать какую-то первичную исходную ситуацию, когда этот вопрос
не рассматривается. Сначала мы не рассуждали о сознании, потом мы
начинаем рассуждать о сознании, мы не занимались пониманием
сознания, потом начинаем заниматься пониманием сознания и т. д.
Теперь же мы условимся, что не будем считать ситуацию, когда мы не
занимаемся пониманием сознания, равнозначной ситуации, когда это
сознание не существует, потому что если бы мы так считали, то мы
имплицитно выражали бы идею, что сознание объектно, тогда как оно не
должно быть ни объектным, ни субъектным даже в такой чисто
прагматической ситуации. Мы считаем: если мы и не присту-
[53]
пили к рассуждению о сознании, к пониманию сознания, к
эксплицированию нашего понимания сознания, то это само по себе еще
ничего не говорит о возможности описания сознания как такового. То
есть мы здесь исходим из условия, что "наше понимание сознания" и
"сознание" находятся на различных уровнях ситуативной достоверности.
Мы принимаем понятие "сфера сознания" как первичное в нашем
рассуждении не потому, что оно является понятием высшего ранга
абстракции, а напротив - потому что оно является здесь понятием
более высокого ранга прагматизации. Мы обобщаем тот круг ситуаций,
который окружает ситуацию нашего понимания сознания, когда "сфера
сознания" выступает как понятие предельно прагматизированное, как
способ обобщенного описания этих ситуаций, а не как способ
обобщенного описания сознания. Этим мы еще раз подчеркиваем, что
речь идет о метатермине.
"Сфера сознания" является не только термином нашей метатеории
сознания; соприкосновение со сферой сознания есть акт, совершаемый,
может быть, ежедневно и ежечасно человеком. Вместе с тем это есть
аксиоматизируемая нами ситуация, в которой в принципе люди могут и
не участвовать.
Когда человек попадает в сферу сознания, мы говорим: "есть человек,
попавший в сферу сознания". Это не значит, что все люди находятся в
сфере сознания, но раз он есть в ней - он есть в ней. Это
тавтология. Когда Вольтер говорил, что добродетель не может быть
половинной (или она есть или ее нет), то он не имел в виду, что все
люди добродетельны, наоборот, он имел в виду, что они могут быть
таковыми (или не быть).
Таким образом, сфера сознания будет фигурировать и как какое-то
псевдотопологическое понятие. О психике мы можем говорить, что она
есть в сфере сознания или что ее там нет. Но говоря о сфере
сознания, что она здесь есть или что ее здесь нет, мы, разумеется,
имеем в
[54]
виду только ее присутствие или отсутствие в отношении нашего
понимания ее и мышления о ней. И, вводя метатермин "сфера сознания"
как некоторую предельную, не содержательную, а чисто ситуационную
абстракцию, мы можем договориться, что она обладает свойствами,
которые дают нам возможность сказать, что она "имеет место" и в то
же время, что она где-то "не имеет места". Но в принципе она имеет
место, то есть вообще она есть. Это - чисто прагматическое
допущение.
Сфера сознания не классифицируема в силу специфики самого нашего
подхода, в основе которого лежит принцип сплошной и последовательной
неклассифицируемости. То есть когда совершается переход от понятия
"сферы сознания" к понятию "состояние сознания" или к понятию
"структура сознания", то это - не переход от общего понятия к
частному, а просто следующая ступень в нашем рассуждении, в
конкретизации нашего понимания. Новые понятия выступают как новые
конкретизации самого нашего понимания, а не его объекта.
До рассмотрения нами дальнейших конкретизации нашего понимания
сознания мы остановимся на таких представлениях, как "мировое
событие" и "мировой объект". Мы полагаем, что некоторые факты,
объекты, события сознания, в отличие от событий психической жизни
человека, являются событиями, объектами, стоящими как бы на линиях,
которые пронизывают любые эпохи, любые человеческие структуры, какие
бы они ни были - культурные, социальные, личностные, в которых
что-то существует вне времени, в которых что-то существует как
тождество. Возьмем такой пример: "потоп" как разлив реки или морское
наводнение есть "событие". Но "потоп" как символ, который „выдан"
сознанием, есть "мировое событие". Объект и событие такого рода,
существующие вне времени (которые, казалось бы, имеют какой-то
реальный аналог, но в действительности вовсе к нему не относятся, а
являются чем-то другим), в принци-
[55]
пе иначе анализируются. И сам факт наблюдения, восприятия людьми
реального события должен анализироваться, таким образом, совершенно
иначе, нежели тот же факт, оказавшийся "мировым событием" и
долженствующий быть соотнесенным как таковой уже с жизнью сознания.
Мы думаем, что материал мифов составляется из мировых событий
(выступающих как мифемы). Таких мировых событий и мировых объектов,
очевидно, можно насчитать не так уж много. [Это понятие вводится как
частное, дополнительное к сфере сознания.] При рассмотрении самой
сферы сознания как мифемы возможна гипотеза, что сфера сознания в
отношении к мировому событию, к мировому объекту выступает как
"универсальный наблюдатель".
Сферу сознания мы вводим как понятие, которое замещает нам
"картезианского человека". Классическая философия оперировала идеей
субъекта как некоего универсального божественного модуля наблюдения
в рамках какой-то рефлексивной процедуры. Понятие "сферы сознания"
должно вобрать в себя часть свойств наблюдения, которые
приписывались наблюдающему субъекту как божественному модулю
универсальной перцепции, и часть свойств, которые приписывались
объекту наблюдения, но без того, чтобы приписывать этому модулю
какие-либо свойства рефлексии, забирая тем самым у него часть
свойств субъекта и часть свойств объекта как инструмента наблюдения
или наблюдающего устройства. Понятия же мирового объекта и мирового
события позволяют нам отвлечься от проблемы связи между культурой и
сознанием, передачи информации от одной культуры к другой, реальной
преемственности и т. д. В результате событие, отраженное в индийской
мифологии, и событие, отраженное в греческой мифологии, могут быть
посредством понятия мирового события взяты в одной точке линии как
одно событие; то есть как один объект, находящийся в одной точке ми-
[56]
ровой линии, независимо от того, можно ли в их реальной связи
проследить преемственность, заимствование в одной культуре из
другой, в одной мифологии из другой и т. д. Оттого-то, вводя понятия
"мировой объект" и "мировое событие", мы избавляемся от проблемы
пространственно-временных связей, оставляя ее этнографии и
антропологии. Таким образом, независимо от реальной связи, должны
быть какие-то два события во внешне разобщенных культурах или
личностях, которые являются одним "мировым объектом".
[Понятие культуры как культуры вообще, как термина и как элемента
восприятия обыкновенного человека в нашем рассмотрении не имеет
никакого отношения к сознанию: наша работа с сознанием и метатеория
сознания к культуре вообще и к какой-нибудь частной культуре может
не иметь никакого отношения.]
Говоря о символическом характере нашей метатеории, мы подчеркиваем
символический характер самой нашей работы, имея в виду некоторые
свойства, которые мы впоследствии обнаруживаем в сознании, а
эмпирически обнаруживали еще до начала нашего движения в самой этой
работе. Они-то и вызывали наше движение к метатеории сознания. Это -
те свойства объекта, которые не поддаются детерминистскому анализу и
в то же время ускользают от любого типа семиотического анализа, ибо
само понятие "сфера сознания" является "символом" того
обстоятельства, что в данном рассмотрении не существует ни
обозначаемого, ни обозначающего, ни обозначателя. Мы имеем дело
только с интуитивным опытом семиотизации, в котором эти три момента
наличествуют, но не улавливаются как отделенные во времени и
пространстве. Как если бы здесь существовала непрерывная связь между
обозначаемым и обозначающим, когда невозможно отделить одно от
другого.
Можно добавить, что говоря о сфере сознания, мы до конца не
понимаем, что сами хотим с ней сделать, но она
[57]
появилась в нашем понимании, и мы должны пытаться ее эксплицировать,
поскольку, образно выражаясь, наши психики оказались в том же самом
месте, где появилась эта идея. Мы еще раз напоминаем о
принципиальной неприуроченности понятия "сферы сознания" к
индивидуальному психическому механизму. Поэтому выражения "здесь
есть сфера сознания" или "здесь нет сферы сознания" условны, и,
вообще говоря, не вполне правильны в том смысле, в каком мы начали
это рассуждение. Ибо, поскольку речь не идет об индивидуальных
психических механизмах, то скорее можно сказать, что сфера сознания
"есть", что она "вообще есть" вне такой приуроченности. Мы можем
утверждать, что она "здесь есть" или что ее "здесь нет", только
когда такая приуроченность нами идеально планируется, что уже, по
сути дела, относится не к сфере сознания, а к состояниям и
структурам сознания. Сфера сознания - прагматический этап. Мы
начинаем экспликацию понимания нами сферы сознания, потому что она
означает в нашем рассуждении определенную границу: "вот здесь" мы
начинаем объяснение терминов нашего понимания и, соответственно,
терминов метатеории сознания, и поскольку оно нами начинается от
какого-то "ничто", мы это "ничто", эту границу называем сферой
сознания.
Теперь, чтобы закончить рассмотрение этого понятия, добавим, что
сфера сознания - это ситуация, в которой прагматически находятся
"сознания" или, вернее, могут находиться, не имея в виду, что каждое
сознание находится в этой ситуации. Оно или находится, или не
находится, при том, что сфера сознания, строго говоря, не обладает
пространственной определенностью (так же, как и временной).
Однако здесь есть движение: мы приписываем движение к сфере сознания
не только нашему метатеорети-ческому рассуждению, но и прагматике
сознания людей вообще. Но это не означает, что все люди находятся на
[58]
пути такой прагматики; сейчас это относится к нашему способу
описания сознания, ибо в рубрику сферы сознания мы вносим какие-то
свойства нашего описания сознания. Вводя сферу сознания, мы тем
самым строим символическую часть нашего аппарата описания структуры
и состояния сознания, часть, которой мы не приписываем никакой
локализации и которую никак не конкретизируем потому, что в
дальнейшем сами состояния и структуры сознания мы будем
рассматривать как локализацию и как конкретизацию того, что мы
фиксируем в сфере сознания. Тем самым мы фактически признаем
символический характер понятия "сфера сознания". Понятия же
структуры и состояния сознания, которые мы далее введем, нами будут
выводиться в качестве интерпретаций этого символа. Само состояние
сознания мы будем рассматривать как интерпретированное,
конкретизированное существование сферы сознания, как локализацию,
"захват", "ловушку" сферы сознания. Или наоборот, можно перевернуть
этот термин и сказать: вхождение в сферу сознания, нечто, вошедшее в
сферу сознания, обладает структурой сознания. Или наоборот:
структура сознания будет разрушаться в сфере сознания и т. д. Нам
сейчас это не важно - нам важно подчеркнуть, что понятие "сфера
сознания" не подразумевает никакого реального события в сознании. В
этом смысле аппарат, в который вводится это понятие, обладает
свойствами общими, скажем, с некоторыми чертами аппарата
психоаналитического описания, если бы последний был реально осознан
его творцами. (Например, когда Фрейд говорит об "эдипо-вом
комплексе", предполагается, что "эдипов комплекс" есть термин,
обозначающий тип реально случившихся событий, то есть что у
такого-то индивида эдипов комплекс реально наличествует, в то время
как на самом деле здесь наличествуют совершенно иные явления
сознания, символически обозначаемые как "эдипов комплекс".)
[59]
2. СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
В качестве примера или случая состояния сознания можно назвать то
состояние, в котором мы сейчас рассуждаем о метатеории сознания.
Этим мы хотим сказать, что каждой возможной мыслительной конструкции
(в данном случае связанной с работой над сознанием, с пониманием
сознания) соответствует определенное психическое состояние субъекта,
"меня". Говоря о сфере сознания, мы постулировали принципиальную
неприуроченность к субъекту и к объекту. Теперь мы постулируем
принципиальную приуроченность к субъекту, оставляя пока открытым
вопрос об объекте. Поскольку мы договорились, что встали на
несколько иной, чем был до сих пор, путь рассмотрения сознания, то
мы можем позволить себе говорить о субъекте, не говоря об объекте
(как, впрочем, и - говорить об объекте, не говоря о субъекте). В
нашем рассуждении в данный момент, в ряде моментов, в какое-то
определенное время, которое мы можем объективно фиксировать, а можем
и не фиксировать, постулируется присутствие некоторого определенного
состояния нашего психофизиологического механизма, которое, будучи
соотнесенным с сознанием (и только в этом случае!), и будет
называться "состояние сознания". Вне этого соотнесения оно останется
чисто психическим состоянием. Мы предполагаем, что каждому акту
нашего рассмотрения соответствует определенное состояние сознания.
Оно может быть равно другому состоянию, может быть не равно ему.
Кроме того, оно может быть моим, твоим, его; в данном случае
существенна, во-первых, его приуроченность к субъекту, а во-вторых,
его чисто прагматическое соотнесение с нашей работой над сознанием.
Можно сказать так: рефлексия над сознанием находится в каком-то
состоянии, которое не является содержанием самой этой рефлексии, а
является постоянной неустранимой добавкой к любому такому
содержанию, не
[60]
входя в него. То есть в каждый данный момент рефлексия находится в
таком состоянии, которое само ею не ухватывается, и то, что оно не
ухватывается, есть состояние сознания. Оно может описываться и
классифицироваться некоторым психологическим образом, но само не
имманентно психике, не есть внутри психологического. Идя дальше, мы
назовем состоянием сознания и то, что в принципе ранее считалось не
имеющим вообще отношения к сознанию. Это - тоже состояние сознания.
Какие-то вещи называются "неметаллами" - это относится к свойствам
металлов. И мы здесь также говорим о сознании в связи с тем, что им
не является (в данном случае - с психикой).
Термин "состояние сознания" показывает не столько наше хитроумие,
сколько наше бессилие решить проблему сознания содержательным
образом.
Говоря о сфере сознания, мы имели в виду, что все остальное мы будем
вводить как ее конкретизацию в качестве нашего символического
оператора. А в определении "состояния сознания" мы говорим, что в
состоянии сознания находится всякий, кто находится в сфере сознания.
Но это - слишком обще. Ведь в состоянии сознания находится и тот,
кто ничего не говорит и вообще ничего не думает, потому что
состояние сознания принципиально {не ориентировано} однозначно на
конкретное содержание, что само уже предполагает равноценность для
него отрицательных и положительных психологических содержаний. (В
этой связи вспомним о гениальной догадке ранних буддийских
философов, которые отводили одинаково привилегированное положение и
позитивным и негативным конструкциям сознания.)
Когда человек не осознает - это состояние сознания, когда он сознает
- это состояние сознания, когда он сознает одно - это состояние
сознания, когда он не осознает другое - это тоже состояние сознания.
[61]
Мы можем рассматривать конкретные психические процессы, явления,
модальности и свойства так же, как и любые уровни специфического
функционирования психики (например - ощущение, восприятие,
представление), соотнося их с определенными состояниями сознания. В
буддийском учении о состояниях сознания (III - II вв. до н. э.)
всякое конкретное психологическое понятие имело свой дубликат.
Например, зрение фигурировало как зрение (как специфический
анализатор) и как категория сознания, связанная с "осознанием
зрения" (либо с "осознанием зримого"), то же самое слух и т. д.
Таким образом, здесь сознанием называлось фактически любое
психическое состояние. Но если мы будем дублировать слух
осознаванием слуха, зрение - осознаванием зрения, то зачем нам нужен
тогда термин "сознание"? Зачем нужна дубликация, если мы утверждаем,
что теоретически, не имея в виду реальной соотнесенности, а условно,
символически можно назвать состоянием сознания любое психическое
явление (может быть, прагматически, чтобы преодолеть в себе инерцию
биологического бытия?). Что дает нам такая дубликация? Может быть,
термин "сознание" здесь что-то решает относительно этих психических
состояний? - Он позволяет нам работать над той стороной нашего
бытия, которая не может быть объектом (не субъектом!) никакого
объектного рассмотрения. Поскольку не все в психике может быть
рассмотрено объективно и в той мере, в какой оно не может быть
рассмотрено объективно - есть сознание, постольку то в психике, что
является нам вне сознания, может быть с введением категории
"состояние сознания" приурочено к сознанию в качестве его состояния.
Когда, идя от сферы сознания к состоянию сознания, мы сопоставляем
два термина: "зрение" и рядом с ним как будто обозначающий то же
самое - "осознание зрения" (и "зримого"), то мы предполагаем, что
это осознание есть состояние сознания, не являющееся содержанием
[62]
зримого. Это означает, что в зрении я фиксирую то, что не является
содержанием ни зримого, ни зрящего, но все время идет вместе с ними
и все время ускользает, потому что если мы снова в какой-то другой
позиции попытаемся зафиксировать то, что у нас ускользнуло в первой,
то мы будем в состоянии сознания, в которое все равно не будет
входить - в качестве содержания - зримое, слушаемое, рефлексируемое.
[Поэтому такие специфически психологические качества, как зрение и
слух, будут нами всегда отличаться от сознания как некоторые
объектные точки психики.]
И в этом смысле мышление есть качество, а сознание не есть качество.
То есть мы можем говорить так: чему-то могут приписываться качества
сознания, но сознание не является качеством. [С этой точки зрения,
мышление так же "психично", как зрение, слух и т. д.]
Когда мы говорим о том, что "состояние сознания" по преимуществу
несодержательно, то, говоря о тех психических процессах, которые
являются объектом науки психологии и о которых мы говорим как об
условных дубликатах сознания (говоря тем самым о сознании как своего
рода универсальном дубликате психических объектов, феноменов и
процессов), мы предполагаем, что состояние сознания, как вводимая
нами категория, несодержательно по преимуществу. Соответствующие же
психические явления, служащие объектом науки психологии, -
содержательны, вернее, могут быть содержательны (могут быть и
несодержательны), во всяком случае они не являются несодержательными
по преимуществу. Когда мы говорим о несодержательности состояний
сознания, мы не имеем в виду оппозицию формы содержанию. Состояния
сознания ни в какой мере не могут быть мыслимы как какие-то формы, в
которых сознание могло бы содержательно реализоваться. Здесь
несодержательность фигурирует как чисто негативное качество, и вот в
[63]
связи с этим, а также в связи с последующим нашим рассуждением о
структурах сознания, которые по преимуществу содержательны, следует
заметить, что состояние сознания может быть определенным образом
приурочено к конкретному содержанию. Более того, в принципе возможна
классификация состояний сознания (при невозможности классификации
сферы сознания), которая может носить как психологический или
логический, так и содержательный характер (то есть, когда нам дано
первично определенное содержание, то этому содержанию может
соответствовать определенное состояние сознания). Тогда этому
содержанию мы приписываем свойства сознания, но само это свойство мы
определяем независимо от содержания.
Мы думаем, что тому факту, что мы пытаемся понять сознание,
соответствует ряд индивидуальных состояний сознания, в данном случае
- наших. Но мы можем безусловно выявить и более конкретное
соответствие - мы можем вообще представить себе, что любое мыслимое
содержание, скажем, содержание типа: "все, что имеет место, имеет
некоторый смысл", или "все, что имеет место, не имеет смысла", либо
любое другое, вычленяемое текстуально содержание - мы можем
соотносить с определенным состоянием или с определенными состояниями
сознания. Речь здесь идет не о каких-то однозначных соотнесениях
(одному и тому же содержанию может соответствовать несколько
состояний сознания, либо ряду содержаний может соответствовать одно
состояние сознания), но о принципиальной возможности такого
соотнесения. Сколь это ни странно, на эту идею интуитивно
ориентируются психиатры последних 60 - 70 лет (поскольку,
разумеется, это доступно неразвитому психиатрическому мышлению
нашего времени), но в психиатрии это соотнесение всегда фигурирует
однонаправленно, психиатр рассматривает какое-то конкретное
содержание, относящееся к поведению человека, к мышлению человека, и
от
[64]
него идет к каким-то общим патопсихологическим характеристикам,
связанным с сознанием.
В метатеории сознания такое соотнесение должно быть всегда обоюдным,
такая соотнесенность существует, но мы не можем никогда с
определенностью сказать, что такое-то содержание соотносится с
каким-то одним состоянием или какое-то одно состояние соотносится с
каким-то одним содержанием. Неопределенность господствует всегда,
когда речь идет о конкретизации состояний в смысле содержания или о
конкретизации содержаний в смысле состояния. Оговорим здесь еще одно
обстоятельство чисто психологического свойства. Мы можем мыслить
какие-то содержания (когда речь идет о состояниях сознания) как
определенные типы. Хотя мы говорим о состояниях сознания в смысле
приуроченности к личности, к индивиду, и хотя мы их соотносим с
содержанием, подчеркивая тот факт, что сами они несодержательны, но
при этом всегда имеем в виду, что соотнесенность с личностью
психических состояний (ориентированных на содержание) ни в какой
мере не может говорить о соотнесенности с "личностью" этих
содержаний. Сами по себе эти содержания, так сказать, не личностны,
и не только потому (как мы увидим в дальнейшем, когда речь пойдет о
чисто содержательной категории "структура сознания"), что они могут
до бесконечности повторяться, что они антиисторичны, генетически не
интерпретируемы, но еще и потому, что эти содержания анонимны, и
поэтому могут нами трактоваться как, условно говоря, типы текстов.
Это очень трудно понять, как потому, что чисто лингвистически такие
конкретизации всегда кажутся в высшей степени чуждыми сознанию, так
и потому, что мы вообще не привыкли думать подобным образом. Но мы
можем представить себе одно состояние сознания, в котором будут все
содержания, или сознание одного, в котором будут все содержания, или
состояния многих, в кото-
[65]
рых будет одно и то же содержание [хотя последнее возможно только
тогда, когда мы отправляемся в нашем рассуждении не от состояния
сознания, а от содержания, то есть когда речь будет идти уже о
структуре сознания].
Нам необходимо понять состояние сознания как формальное понятие не в
смысле противоположности содержанию, а в смысле независимости от
любого мыслимого содержания. Свойство сознания "имеется у
содержания", если содержание "находится" в состоянии сознания. И тем
самым мы уже вводим состояние сознания формально: "сознавать" значит
"быть формой сознания" или, вернее сказать, "осознавать" значит
"быть формой". [Отправляясь от этого положения, мы можем теперь
ввести понятие "текста сознания", не боясь лингвистических и
психологических аналогий и ассоциаций.]
Впрочем, само отсутствие содержания тоже может явиться в некотором
роде соотнесенным с определенным состоянием сознания. Определенное
содержание мы оцениваем и позитивно и негативно. Мы уже говорили о
независимости и равноценности негативного и позитивного случаев,
когда речь идет о сознании. Когда содержание отмечено знаком минус,
и мы говорим, что содержания нет, то мы можем также представить себе
определенное состояние сознания, ориентированное на это "нет" по
отношению к содержанию. Должны существовать и такие состояния
сознания, которым соответствует отсутствие какого-либо осознаваемого
и называемого содержания. В принципе можно было бы сказать, что
текст как содержание есть "нечто читаемое сознанием". Чтение текста
и есть в некотором роде состояние сознания. Но именно потому, что мы
вводим понятие "состояние сознания" как конкретизацию, относящуюся к
чему-то бессодержательному, мы тем самым имеем в виду какую-то
совершенно особую сторону текста. В этом смысле состоянием сознания
является такое чтение текста
[66]
сознания, или точнее, чтение такого текста сознания, который
возникает в акте самого чтения. То есть состояние сознания не есть
чтение текста, который дан до или независимо от состояния сознания.
Само состояние сознания есть такая сторона (или свойство) текста,
которое возникает, существует в акте самого чтения текста. Текст
складывается самим чтением текста, и эта сторона или свойство
текста, или такой текст, есть фактически состояние сознания, есть
конечная, вспыхивающая связь, замыкание осознающего с осознаваемым,
или какой-то ситуации "осознающего - осознаваемого". И то, что
появляется в акте осознавания этого что-то, и есть состояние
сознания.
В принципе, состоянием сознания может быть любое явление, событие
или обстоятельство, которое индуцировало включение индивидуальной
психики в содержательность сознания. Но поскольку такое включение
уже произошло, индуцировавший его фактор теряет свое содержание.
[Метафорически говоря, его содержание "растворяется" в состоянии
сознания.] Именно поэтому мы исходим из положения о полной
неопределенности (и произвольности) этого фактора (в смысле его
содержания) в отношении сознания (но не в отношении психики!).
Безусловно, что на каком-то ином уровне возможна социология сознания
или какой-то социологический ход в самой метатеории сознания, где
сознание может быть интерпретировано как социально рожденный,
социально возникший феномен. От такой возможности мы здесь
специально отвлекаемся, потому что тогда сознание нельзя было бы
как-то объяснить, истолковать отдельно, обособленно от проблемы
коммуникации. Но, тем не менее, мы отдаем себе отчет в том, что мы
саму интерпретацию сознания все же истолковываем как
автокоммуникацию по преимуществу; "состояние сознания" предполагает
возможность интерпретации сознанием психики как самого себя.
[67]
Возьмем такой тривиальный случай: если у 20 человек мы наблюдаем
состояние сознания, которое мы считаем одним и тем же, то это могло
бы предполагать определенную коммуникацию этих состояний в
пространстве или это будет предполагать определенную коммуникацию
содержания. Мы категорически выступаем против такой постановки
вопроса, потому что никакое содержание не коммунициpуется как
сознание. Сознание постоянно должно возникать. Коммуницируется нечто
другое. А если нечто коммуницируется, то оно - не сознание. И в
данном случае нас вообще не интересует проблема объективной
коммуникации, без которой не существует ни современное
лингвистическое понимание текста, ни теория информации в целом.
Таким образом, возвращаясь к нашему пониманию текста, мы можем его
сформулировать следующим образом: текст - это некоторая длительность
содержания, ориентированная на некоторое состояние сознания. А
последнее мы вводим вне какой-либо принципиальной оппозиции.
Состояние сознания не противостоит содержаниям, соотнесенным с ним,
о которых шла речь до сих пор.
3. СТРУКТУРЫ СОЗНАНИЯ
Теперь мы переходим к третьей основной категории метатеории сознания
- "структуре сознания". Нам представляется, что структура сознания
будет содержанием, абстрагированным от состояния сознания, то есть
от того первоначального условия, которое мы ввели, когда вводили
понятие "состояние сознания", а именно, что оно есть нечто, не
существующее вне приуроченности к индивиду. Структура сознания
принципиально не-индивидуальна. Структура сознания может быть
названа содержанием и может быть названа формой, частично по-
[68]
крывая то, что в некоторых философских течениях и школах называется
"формой сознания".
Структура сознания представляется нам каким-то чисто
"пространственным" образом существования сознания. Когда мы говорим,
что сознание существует, то представляем себе, что существует ряд
совершенно конкретных явлений сознания, мыслимых как конкретно
различные или одни и те же в отношении содержания. Допустим, такой
элементарный случай: несколько человек высказывают какую-то общую
идею, этим давая нам возможность обнаружить какие-то "одинаковые
тексты". Эти несколько человек могут жить одновременно, или они
могут жить в разные века или в разных тысячелетиях, или, можно
сказать так: какие-то "тексты сознания" прочитаны в разное время и в
разных местах. И этим предполагается, что как факт сознания они
одинаковы, ибо у нас нет оснований с точки зрения содержательного
подхода к тексту в этом сомневаться. Мы не знаем, кто прочел, но мы
знаем, что прочитано. Или, говоря метафорически - "сознание
прочитало сознание". Нам важно, что прочитало сознание и что оно
прочитало. Тут предполагается и определенная длительность этого
содержания. И когда у нас есть ряд таких текстов, то мы можем
сделать один элементарный вывод, что такого рода текст "вообще
есть", - не то, что он возникает в "разных местах, в разное время, а
что он - "есть".
Мы говорим: текст, а не тексты, потому что, если мы считаем их
одинаковыми с точки зрения нашего подхода, то у нас нет основания
говорить: "тексты". Ведь математик не говорит: "числа 5", но говорит
"число 5", хотя оно может фигурировать в тысячах и миллионах
случаев, связанных с различными прагматическими,
временно-пространственными ситуациями. Мы можем сказать: вот
существует такой факт сознания, предполагая определенное содержание.
Но это еще не есть структура сознания. Мы говорим, что нечто здесь
существует, и на это суще-
[69]
ствование длительности содержания сознания в каких-то случаях можем
накладывать определенные рамки, то-есть в каком-то смысле мы можем
говорить, что существует определенный текст сознания, и в то же
время, если мы про какой-то текст говорим, что он существует, у нас
есть некоторые основания думать, что в этом месте существует
сознание. Это во-первых. Что в этом месте не существует другого
текста сознания - во-вторых. И что есть место, где этого текста
сознания не существует - в-третьих. (Здесь можно было бы добавить
четвертое: этот текст сознания должен существовать.) [Так начинается
привыкание мышления к подходу к сознанию как материалу другого
мышления.]
Мы можем сказать, что эти содержательные факты сознания дискретны,
что они дискретны не столько по отношению к ничему, то есть к тому,
где нет сознания, и не только по отношению к перебиву другими
фактами сознания, но что они дискретны в самих себе, то есть как
одинаковые, но отдельные факты. Когда мы говорим, что есть факт
сознания, это не означает (как в случае, когда речь шла о состоянии
сознания) пространственно-временной непрерывности, потому что когда
он есть, то это не означает ничего более того, что "он есть". Под
"есть" мы предполагаем, что он "есть" в данный момент, когда мы
говорим, что он есть, и что у нас нет основания полагать, чтобы в
какое-нибудь другое время (когда об этом зайдет речь в нашем
метарассуждении) его бы не было. Но мы не рассуждаем непрерывно и не
осознаем непрерывно. Дискретность своего сознательного существования
мы произвольно накладываем на факт содержательности сознания.
Все то, что мы сейчас сказали, само по себе не говорит о том, что
этот факт сознания реально существует в пространстве, но нам удобно
говорить о нем, как о "как бы существующем" в каком-то пространстве.
Само пространство может осознаваться как содержательное явление
[70]
сознания. Содержательный факт или содержательный материал сознания
есть некоторое пространственное расположение самого материала
сознания - не в том смысле, что сознание "в" пространстве, а в том,
что само это сознание (как структура сознания) есть определенное
пространственное расположение относительно самого себя. Сама
структура сознания есть определенная пространственная конфигурация.
Сама по себе она есть некоторое пространство. [И в этой связи мы
решились бы сказать, что "пространство есть структура сознания" в
том смысле, в каком Жан Гебсер говорит, что "время есть феномен
психики".]
Мы говорим о каком-то факте сознания как о структуре в том смысле,
что он может обладать определенной сложностью, то есть он может
содержать в себе известное разнообразие. Мы говорим: "где-то есть
факт сознания", "где-то есть один факт сознания, а где-то совсем
другой". Наши размышления о факте сознания сами по себе есть
размышления о структуре сознания. Он факт, пока мы не наделили его
этим последним важным свойством - внутренней сложностью, в отличие
от однородности состояния сознания. Именно поэтому он может быть
расчленен в процессе метарассуждения иначе, чем он расчленяется в
личностной, культурной, индивидуальной конкретизации, а также в
любой другой: социальной, технологической, математической,
лингвистической и т. д. И метарассуждение, расчленяющее,
структурирующее материал сознания, будет предметно иным, потому что
оно есть некоторый самостоятельный предмет, и с некоторой точки
зрения наше расчленение будет опосредствующим по отношению к другому
расчленению, которое произвел бы сам человек, попадающий или
попавший в ту или иную структуру сознания.
Мы в момент нашего метарассуждения о структуре сознания не имеем
возможности оценивать наше понимание сознания с точки зрения понятия
структуры, но
[71]
мы можем утверждать, что содержанию такого факта сознания, каким
является в данный момент наше рассуждение о сознании, соответствует
известное состояние сознания. Когда мы рассуждаем о нашем понимании
сознания, то сами не знаем в какой структуре сознания мы находимся,
и если бы мы знали, то тем самым автоматически находились бы уже в
другой структуре сознания, чем та, в которой мы излагаем нашу
метатеорию создания.
"Факт сознания", когда мы отличаем его от структуры сознания, может
полагаться равноценным понятию "случившееся сознание". Как
"случившееся", сознание не может быть нами в каждый момент схвачено
в метарассуждении. Спрашивая - является ли указанное случившееся
сознание содержательным, является ли оно структурой сознания, мы
знаем, что в этом случае отпадают такие наложенные ранее
ограничения, как например, "есть факт сознания или нет факта
сознания". Мы считаем, что "есть", потому что мы сейчас в некотором
роде сопричастны этому факту, но мы не можем говорить о структуре
сознания всегда, когда говорим о факте сознания, потому что
структура сознания обязательно предполагает внешнюю отчлененность и
внутреннюю расчлененность. Мы же не способны, в силу известного
правила дополнительности в наблюдении, одновременно переживать факт
сознания и в его определенной структурности: может быть, тогда бы мы
оказались уже в другой или третьей структуре; или мы бы вообще вышли
из области структуры сознания в область случившегося сознания,
которое нами не может быть структурировано. Поэтому мы не можем
сказать, что где существует факт, там существует структура сознания,
ибо мы не можем к каждому факту сознания прилагать интерпретацию
структурированности. Мы лишь предполагаем, что содержательность
сознания может выступать в качестве структур. Понятие структуры со-
[72]
знания позволяет нам компромиссно в "условиях дополнительности"
стать на путь объективного описания того, что мы в начале нашего
рассуждения договорились не считать объектом.
Говоря о структурах сознания в их соответствии с текстами, включая
сюда вербальные, письменные и т. д., мы не можем сказать с
определенностью, о какой именно структуре сознания идет речь. Можно
рассуждать так: существует нечто, что мы называем структурой
сознания. Допустим, мы предлагаем текст: "мы осознаем то
обстоятельство, что мы когда-нибудь умрем, осознавая при этом и то
обстоятельство, что мы не знаем, когда это случится, и осознание
этого обстоятельства лишает первую его часть чисто психологической
достоверности". И мы говорим: "мы считаем это структурой сознания".
Поскольку мы ввели понятие "структура сознания", это уже наше дело
считать, что является структурой сознания, а что не является. Но мы
при этом не можем утверждать, что находимся в этой структуре
сознания. Это можно сказать (недостоверно) про другого, но не про
себя.
Про себя этого нельзя сказать в двух смыслах. Во-первых, потому что
мы тут же неизбежно переходим в метаструктуру, которая не равна
структуре. Это есть вторичное, третичное, четвертичное осознание
сознания (и ему, очевидно, соответствует и особое состояние
сознания). Во-вторых, мы не можем быть уверенными, что находимся
именно в этой структуре, в силу того факта, что мы сейчас осознаем
нахождение в этой структуре, попадая благодаря этому осознанию уже в
другую. Поэтому эмпирическое утверждение о каком-то факте (или
тексте) сознания, что он является структурой сознания, может иметь
место только в объективном плане. Ведь мы в принципе могли бы
сказать, что может быть задан какой-то "список" структур сознания,
но мы не можем сказать в каждый данный момент - в какой части, в
какой точке этого списка мы находимся.
[73]
Теперь возвращаемся опять к одной из первоначальных характеристик
структур сознания. Итак, какие-то факты мы можем рассматривать как
структуры сознания, какие-то как разные структуры сознания, какие-то
факты как относящиеся к структуре сознания, какие-то как не
относящиеся к структуре сознания (если мы ставим вопрос в общей
форме). Является ли этот факт этого рассмотрения сам структурой
сознания или нет? По-видимому, мы можем иметь дело не только с
разными структурами, но и с разными фактами сознания, разными в их
отношении к структуре. О каком-то факте мы можем сказать, что это -
структура сознания, о другом - что это не структура сознания, хотя
последний в определенных прагматических ситуациях может фигурировать
как структура сознания. Это именно то, что можно было бы назвать
псевдоструктурой сознания. Здесь, как об этом уже говорилось
вначале, невозможна теория, и мы не можем заранее предсказать
структуру сознания, даже рассматривая при этом относительно большой
текст. Мы можем этот текст определенным образом сегментировать,
дробить, членить. И мы можем сказать, что текст этот поддается
описанию на уровне структур сознания, или, что в нем поддается
такому описанию и ч т о нет.
Итак, не зная заранее всего, что относится к структуре сознания, мы
договорились, что какие-то факты есть структуры сознания; или что
некоторые факты мы можем представить себе в некоторых прагматических
ситуациях играющими роль структур сознания. Скажем, относительно
такого примера, как "человек смертей", мы предполагаем, что это -
структура сознания. Но понятие "человек" не является структурой
сознания по преимуществу; оно является фактом сознания, но оно не
является фактом, который будет давать нам при многочисленном
повторении во времени и пространстве основание считать себя одним и
тем же, то есть считать себя структурой сознания. Мы его называем
одним и тем же фак-
[74]
том сознания исключительно в силу одинаковости его лингвистической
обозначенности (когда такие тексты оказываются в пределах одного и
того же естественного языка). Таким образом, если мы говорим, что
существует структура сознания в применении к "человеку" (в нашем
примере), то имеем в виду, что человек является структурой сознания
лишь как набор признаков или в содержаниях типа "человек смертен".
"Человек" может иметь отношение к структуре сознания, почему мы это
и называем псевдоструктурой сознания. Возьмем, наконец, для примера
третий факт сознания - "Я". Его еще труднее объективно
квалифицировать с точки зрения сознания, ибо признаки "Я" относятся
к совершенно другой плоскости, чем признаки "человека", не говоря
уже о плоскости, в которой фигурирует структура "человек смертен".
"Человек" или "человек смертен" фигурируют на уровне структур
сознания, а признаки "Я" фигурируют на уровне вторичных образований
сознания, то есть тех, которые конструируются из материалов
первичных структур сознания. И когда человек говорит: "мое Я этому
чуждо", он использует некоторые псевдоструктуры сознания, потому что
"Я" не существует как структура сознания, но соответствует
определенному состоянию сознания. Напомним при этом, что состояние
сознания не обязательно должно соответствовать структуре сознания.
Оно может соответствовать псевдоструктуре сознания или не-структуре
сознания, или факту сознания, или ничему. Но мы здесь условимся
считать, что факты и структуры сознания не могут быть обратно
соотнесены состояниям сознания. Даже если мы рассматриваем
конструкцию "Я" как иллюзорную по отношению к материалу, заданному
структурой сознания, то сама эта иллюзорная конструкция имплицирует
определенное состояние сознания.
Мы договорились, что эмпирически найденный факт сознания мы в общем
случае не можем однозначно соот-
[75]
носить со структурой сознания. Мы не можем также и само наше
метарассуждение соотнести с определенной структурой сознания. Но
каждый этап нашего метарас-суждения является, с одной стороны,
фактом сознания, а с другой, что особенно важно, - соответствует
определенным состояниям сознания. Таким образом, становится
возможным представление о своего рода обратной семиотической связи:
структуры сознания, отсутствия структур или фактов сознания на
данном этапе нашего мета-рассуждения могут полагаться знаками
состояния сознания. Но не наоборот, мы не можем идти от состояния
сознания к содержательности сознания. В этом смысле содержательность
мы рассматриваем как постоянную возможность состояния сознания.
Мы можем представить себе и условную семиотическую классификацию
сознания: что-то в сознании мы могли бы полагать знаком чего-то
другого. В частности, внутри структуры сознания можно вычленить
какой-то атомарный факт, который, будучи нами воспринят отдельно,
будет фигурировать как знак этой структуры. Но и тут не будет
однозначной связи.
Мы не будем здесь спорить с привычной идеей, что все мыслимое
генерируется психикой, потому что мы не занимаемся психикой, - мы
занимаемся только сознанием. Но если мы отказываемся от гипотезы
психического субстрата сознания (в нашем рассмотрении он не
фигурирует), то обязаны отказаться и от тех прагматических навыков и
эстетических образов, которые связаны с идеей генерации, и прежде
всего от одного пространственного образа, который присутствует почти
во всех текстах, где соотносится человек и какой-то акт сознания.
Человек включает факт сознания в какую-то пространственную
физическую (на самом деле "псевдофизическую") сферу своего "я". Он
говорит: "у меня родилась мысль", "я нечто придумал", "в моей голове
возникла идея". Нам было бы интересно, потому что мы
[76]
отказываемся от идеи генерации, предложить своего рода инверсионный
"антиобраз". Если мы будем говорить не "у меня возникла идея", а "я
возник в идее", не "я придумал нечто", а "я оказался в нечто", "я
оказался в мысли о чем-то", "я оказался внутри какого-то факта
сознания", то это может "эстетически" помочь привычке к другому
подходу, помочь чувственно воспринять мыслительные конструкции, к
которым мы хотим приучить себя интеллектуально, помочь развитию
новых рефлексивных навыков. Поскольку мы исходим из факта сознания
как в некотором роде "топологического понятия", понятия, связанного
с местом и пространством, постольку мы можем представить себе
психику как существующую "отдельно" (психики дискретны - психика
"моя", "другого человека" и т. д.), как оказывающуюся внутри
каких-то фактов или структур сознания. Но это опять-таки
предполагает, что психики могут оказаться и вне структур сознания
вообще. Данная психика может быть в нескольких структурах сознания,
может быть в одной или в другой структуре сознания. Естественно,
"психика" при этом будет фигурировать как чисто условное обозначение
псевдоструктуры сознания, наподобие "Я".
В разъяснении того, что такое структура сознания, можно идти от
одной детали нашего истолкования состояния сознания. Состоянием
сознания можно называть то, что "интерпретировано" и "дано как
присутствие", то есть иначе говоря, состояние сознания может
рассматриваться как продукт интерпретации или переживания сознанием
индивидуальных психических механизмов. Или, употребляя другое
эквивалентное этому выражение: сознание может "захватываться" этими
механизмами. Феноменологически же явление сознания можно
интерпретировать как восполнение нашего знания о психике. "Объект" и
"субъект" тогда будут существовать лишь как разные случаи
интерпретации сознанием этих психи-
[77]
ческих механизмов. Оппозиция "объект - субъект", с этой точки
зрения, может быть нами разъяснена как одна из структур сознания. И
в этом смысле может быть рассмотрена не только проблема сознания, но
и проблема бессознательного. И тогда бессознательное будет выступать
как "выполнение" сознания в другом (в данном случае -
психофизиологическом) материале.
И в связи с этим мы опять возвращаемся к тому, о чем уже говорили:
сознание есть такой текст, который возникает актом чтения этого
текста, который сам себя обозначает, который отсылает к самому себе.
Эта самоотсылка снова становится текстом до бесконечности. И отсюда
- переход к структуре сознания. Структура сознания - то
содержательное, устойчивое расположение "места сознания", которое
обнаруживается в связи с состоянием сознания, с точки зрения сферы
сознания. То есть, если мы взглянем на состояние сознания со стороны
сферы сознания, то мы в состояниях сознания можем увидеть,
вычленить, выявить отсылки к структурам сознания. К этим структурам
сознания применимо все то, что говорилось выше, а именно, что они
могут быть, могут не быть и т. д. Структуры сознания дискретны в
пространстве и недискретны во времени, в отличие от декартовой
топологии пространства. Структура сознания есть фактически
внеличностное, квазипредметное состояние бытия. Говоря
метафорически, структура сознания есть некоторое "заделывание дыр
бытия", "дыр", оставляемых причинно-следственными агрегатами. В этой
квазипредметно структурированной "дыре" (которая другой структуры не
имеет, потому что она дыра) есть целостные структуры сознания.
И здесь важно подчеркнуть следующую мысль, касающуюся способа бытия,
жизни структуры сознания. Структура сознания рассматривается нами
как нечто та-
[78]
кое, к чему не применимы понятия возникновения и уничтожения.
Структуры сознания не возникают и не уничтожаются, данной структуры
сознания может не быть в том или другом месте, или вообще может не
быть той или другой структуры сознания. Но если она есть, то мы не
можем уже говорить о том, что она возникла или исчезла. Мы можем
говорить, что сознание ушло из какой-то структуры сознания, покинуло
эту структуру и, может быть, мы это сознание засечем потом в
какой-нибудь другой структуре сознания, но мы ничего не можем
сказать о судьбе предшествующей ей или другой структуры сознания, из
которой сознание ушло или которая была покинута сознанием. Кстати
говоря, раз мы строим метатеорию сознания с учетом условий
дополнительности наблюдения, то мы здесь должны говорить лишь о
новом сознательном опыте, а не о рождении и исчезновении структуры
сознания. В отличие от сознания вообще, структуру сознания мы должны
рассматривать в виде некой исконнозаданности, может быть, даже
ограниченной конечным по своему классификационному ряду материалом,
который мы "берем взаймы" и здесь разрабатываем (под "мы" имеется в
виду технический механизм нашей работы). Мы богаты чем-то взятым
взаймы. Скажем, на этом взятом взаймы мы строим конструкцию "Я". На
этом взятом взаймы мы строим мифологию "начала" или "конца" мира и
т. д. Так вот, сознание может покидать мифологическую, научную или
даже языковую систему. Метатеоретический характер самого понятия
структуры сознания можно разъяснить, сопоставив его с конструкциями
типа "Я". Конструкции этого типа, с точки зрения нашего метода,
приближаются к идеологическим конструкциям*. Они, если их
рассматривать
----------------------------------------
* Напомним, что исходным пунктом всякого буддийского
философствования является тезис о "не-я" (в символическом аппарате
нашей метатеории "„Я" не является структурой сознания"). Но у нас
это не исключает наличия состояния
[79]
в отношении к структуре сознания, находятся как бы на одном уровне,
равноправны между собой и потому схожи со структурами сознания, в
отношении к которым они являются производными, вторичными явлениями.
Так, если идти от "Я" или других идеологических конструкций к
структурам сознания, то они являются конечными, неразложимыми
феноменами, конечными пунктами отсылки. Но если идти к этим
конструкциям от нашего символического аппарата, то в смысле
соотносимых с ними исходных структур сознания они явятся
квазипредметными образованиями, представляющими собой элемент нашего
обобщенного детерминистского описания, которое дает нам предметы и
содержание отсчета. Мы подчеркиваем - содержание отсчета, чтобы
напомнить, что само состояние сознания как таковое вводилось нами
как нечто бессодержательное, в отличие от структуры сознания. Так
вот, это обобщенное описание дает нам содержательные предметы,
идеальные объекты, мотивации, вторичные процессы или саму работу,
всегда совершающуюся во вторичных процессах, и то развертывание,
которое индивидуальный психический механизм совершает с материалом
сознания, когда этот механизм в нем находится. И это описание будет,
по необходимости, рекуррентным, ибо само наше понимание рекуррентно.
Последнее разъяснение настолько трудно понять (не только читателю,
но и нам самим), что оно нуждается в конкретном примере. Мы говорим
"рекурренция есть структура сознания". Но пойдем по этапам
понимания. Сначала она является нам как представление о том, что
любая вещь, личность, событие или факт абсолютно лишены
уникальности, то есть все, что с нами случается (включая нас самих),
уже было бессчетное число раз и
сознания, соответствующего "Я* (в буддийской философии: "Нет такого
состояния сознания, то есть такой дхармы, как „Я"").
[80]
еще бессчетное число раз повторится. Конечно, мы можем представить
себе это как буквальное повторение фактов в циклах однонаправленного
времени (от прошлого, через настоящее, к будущему). Или как движение
событий по какой-то замкнутой кривой времени (включая сюда и
движение нас самих, если события фиксированы, а мы движемся).
Ни то, ни другое не значит ничего в отношении структуры сознания. Но
если мы представим себе, что всякий факт есть в безличной сфере
сознания, и что он случается всякий раз, когда это место (то, где он
есть) пересекается континуумом "моих" (или "чьих-то") сознательных
состояний и что с точки зрения сферы сознания этот "мой" континуум,
так же как и пересечение им этого "места" в сфере, есть такой же
факт, - тогда мы можем сказать, что "рекурренция есть структура
сознания"*.
Таким образом, если наблюдать факт рекурренции как событие
(одновременное бытие различных вещей, каждая из которых есть и без
другой)**, то рекурренцию в смысле структуры сознания можно
интерпретировать следующим образом: "Рекурренция есть возвращение
индивидуального сознания (не в смысле "Я", а в смысле континуума
состояний сознания) к сфере сознания, фиксируемое в рефлексии над
фактами сознания и само наблюдаемое как факт сознания***.
Когда один данный человек идет по дороге меж деревьев,
останавливается и думает: "Вот так же, как сейчас, я когда-то в
другое время шел по этой дороге и чувствовал ветер на затылке, и
остановился, и думал...", то мы, как внешние наблюдатели, могли бы
сказать об этой
----------------------------------------
* Этот пример нами трактуется образом, близким к трактовке в школе
Виджнянавада (одна из 4-х основных школ буддийской философии,
возникших в III - IV вв. н. э.).
** Разумеется, такое наблюдение предполагает позицию метатеоретика,
то есть "нашу" позицию.
*** Внутри факта рефлексии.
[81]
ситуации (в которую мы, разумеется, включаем и самих себя с нашим
думаньем, говорением, писанием и рефлексированием всего этого) так:
(1) Этот человек обнаруживает фактом своего думанья такое состояние
сознания (это мы говорим, что это - "состояние сознания"), которое
"вводит" его в структуру сознания, называемую по нашей таксономии
"рекурренцией".
(2) Его рефлексия сама по себе (здесь ее знак: "Я думаю, что...") не
имеет отношения к сознанию по содержанию и тем самым может считаться
другим, одновременным с первым, состоянием сознания, которое
(3) "вставляет" разные факты ("Я иду по дороге", "дорога", "мое
ощущение ветра" и т. д. - их число и число их комбинаций огромно) в
структуру сознания, называемую "рекурренция", делая их этим фактами
сознания, то есть тем, что сопричастно сознанию по содержанию*.
(4) Наше же наблюдение всего этого (и его описание здесь) есть
прежде всего знак нашего знания о структуре сознания "рекурренция".
Но это не обязательно значит, что сами мы находимся в этой
структуре. Более точно было бы сказать, что мы знаем о ней как о
содержании, которое определенным образом интерпретируется в смысле
сознания. В данном случае образ интерпретации - "структура
сознания", а определенный образ - структура сознания, называемая
"рекурренцией". Тогда какие-то состояния сознания мы сможем
рассматривать как то, что индуцирует такую интерпретацию (вернее то,
что может ее индуцировать)**.
----------------------------------------
* Виджнянавадинскую "сферу сознания" применительно к данному случаю
можно было бы уподобить гигантскому депозиторию "кинокадров
сознания", в котором всякий отдельный кадр является таким же фактом
сознания, как целая пленка или как группа кадров из разных пленок.
** "Интерпретация" в данном случае не может нами полагаться ни как
спонтанный процесс (в смысле Уильяма Джемса), ни как
[82]
В понятии мифа эти две вещи - "структура сознания" и "интерпретация"
оказываются настолько тесно связанными, что в принципе разделить их
почти невозможно. Однако в конкретных случаях это оказывается
возможным. Начиная с Платона, миф фигурирует в резкой и четкой
оппозиции к "знанию" (может быть, даже имплицитно - к
"исследованию"), являясь некоей целостностью (картиной, образом,
ситуацией, сюжетом), не обладающей собственным (все равно -
сознательным или натуральным) бытием. Мы могли бы сказать (если бы
на мгновенье предположили, что Платон и Ницше пользовались нашей
терминологией), что гомеровский Зевс был для Платона мифом, а
сократовский Эвдемон - структурой сознания. В то время как для Ницше
оппозиция добра и зла была мифом, а оппозиция Аполлона и Диониса -
структурой сознания. Но уже с начала XIX века миф начинает
осознаваться в качестве более или менее стойкой конструкции
сознания, которая должна изучаться как таковая, вне зависимости от
ее отношения к действительному положению вещей (историческому,
психологическому, биологическому и т. д.). Это логически (то есть в
силу логики мышления исследователей) привело к трем (в возможности)
основным типам понимания мифа:
I. Как универсалии сознания (психологической у Вундта,
культурно-исторической - у Ницше и Фрейда, психогенетической - у
Фрейда, психоисторической - у Эриксона и т. д.);
II. Как феномена природы, противопоставленного мышлению
исследователя (Фрэзер, Леви-Брюль, Марр и т. д.);
III. Как особого способа (точнее - очень широкой группы способов)
моделирования действительности, по
реализация логического закона или правила (в смысле Э. Гуссерля)
Скорее мы могли бы назвать ее "рабочим" результатом какого-то
состояния сознания, говорить о котором более подробно мы не можем,
пока мы сами здесь интерпретируем.
[83]
существу снимающего (нейтрализирующего) оппозицию "исследователь -
наблюдаемый объект", возвращающего миф к статуту универсалии
сознания и делающего мифическую конструкцию более или менее
аналогичной конструкции языковой (Уорф, Пайк, Леви-Стросс, Топоров и
т. д.). Мы думаем, что в первом случае миф имплицитно сводится к
состоянию сознания, во втором - к факту мышления. Третий же случай
особенно интересен тем, что авторы, раскрывая миф как идеологическую
конструкцию, не понимают, что они раскрывают его интерпретацию, ибо
за всяким "мифом" стоит целый ряд интерпретаций, производимых не
только исследователем мифа, но и самим мифом.
Миф живет в интерпретациях как некая неанализируемая целостность. Но
его нельзя постулировать как структуру сознания (в том смысле, в
каком мы говорили, что "рекурренция - это структура сознания",
"человек смертен - это структура сознания" и т. д.), на него можно
только указать как на целостный факт (или как на факт целостности)*.
Но для того чтобы стать фактом сознания, миф сначала должен быть
фактом. "Всемирный потоп" может осознаваться как повторяющийся
миллионы раз (в структуре сознания "рекурренция") либо как бывший
(или - не бывший) один раз, но он будет интерпретироваться как
фактуальное событие. "Человек смер-тен" (или "страдание" в буддизме
"Малой Колесницы") фактуально, но не в своей событийности, ибо
такого события нет, оно обладает лишь бытийностью сознания. Но
"событие", будучи фактом сознания, может объективно находиться в
структуре сознания или субъективно интерпретироваться в смысле этой
структуры (как "потоп" -
----------------------------------------
* Эта идея была впервые услышана одним из авторов от теоретика
архитектуры Майкла Сиверцева. Он в одном из своих докладов
утверждал, что мифы подобны некоторым "исходным" архитектурным и
градостроительным планам, несводимым к составляющим их элементам, и
невыводимым из них. Поэтому, заключал он, миф "не может быть
частичным".
[84]
в смысле "рекурренции"). Тогда оно потеряет значение факта*. Но
такого рода факт останется фактом всякий раз, когда он будет
получать чисто психологическую интерпретацию**. То есть ему может и
соответствовать определенная структура сознания, но он не окажется в
ней.
Символ в этом отношении (в отношении сознания) отличается от мифа
прежде всего тем, что он - вещь, а не факт. Однако, как и миф, он
останется только вещью (притом - совершенно конкретной), пока не
будет интерпретирован в отношении определенной структуры (или
состояния) сознания. Не вдаваясь в подробности понимания символа (о
чем речь пойдет ниже), мы здесь лишь заметим, что символ логически
не выводим ни из физически составляющих его элементов, ни из целого
(если таковое есть), элементом которого ему случится быть. "Яйцо
Брахмы", символизирующее бесконечную вставленность миров друг в
друга, логически может быть интерпретировано в смысле "рекурренции"
так же хорошо, как созданный Робертом Грейвзом образ (в одном из его
детских стихотворений) мира, повторяющегося до бесконечности в одной
из его деталей. Другой пример - два зеркала, отражающие друг друга.
Но здесь важно не то, как "может" быть интерпретирована вещь, а как
она на "самом деле" интерпретируется. И в этом отношении "Яйцо
Брахмы" - символ "рекурренции", а два других образа - нет, ибо весь
комплекс представлений об этом практически не почитавшемся боге
древней Индии есть комплекс представлений о бесконечности циклов,
образующих своего рода "замкнутое (в яйце) пространство времени", то
есть "вещь, вне которой нет времени" (мы указываем на "яйцо" как на
символ и постулируем "вещь, вне которой нет времени" как структуру
сознания).
Как в буддийской философии факт твоей смерти перестает быть фактом,
когда ты понял, открыл (то есть - вошел в структуру сознания), что
"человек смертен". Этим ты "фактуально" стал бессмертным.
Мы думаем, впрочем, что то же самое можно сказать и о факте,
получающем чисто логическую интерпретацию.
[85]
II. ВВЕДЕНИЕ В ПОНИМАНИЕ СИМВОЛА
0. ЗНАКОВЫЕ ДУАЛИЗМЫ
Цель этой книги - истолкование символа в смысле сознания. Когда мы
имеем дело с эвристическими категориями, привычными для общих
семиотических и теоретико-лингвистических построений, то все эти
категории так или иначе ориентированы на дуализм: знак - значение,
знак - обозначаемое, символ - определенная содержательность,
соответствующая данному символу и т. д. Но это - дуализм
методологии. Без него, как способа или приема, невозможны никакие
лингвистические или металингвистические описания. Но поскольку
методологический план здесь нами устраняется полностью, мы будем
рассматривать сам этот дуализм как некоторую изначально данную,
никем не установленную и не вводимую содержательность. Мы можем ее
квалифицировать как методологию только задним числом, когда не
только проделана вся работа, но когда мы практически придем к
выводу, что нам уже больше нечего делать с тем материалом, который у
нас есть.
К чему же тогда сводится абстрактный анализ любого символа? - Прежде
всего к тому, чтобы показать, каким образом любая содержательность
символа выступает как совершенно пустая оболочка, внутри которой
конституируется и структурируется только одно содержание, которое мы
называем "содержательностью сознания". Но прежде чем рассуждать об
этой "содержательности" (в том смысле, как о ней говорится в I, 3),
нам придется подумать о такой вещи, как "знаковость". Когда
семиотика рассматривает человека как "знаковое существо", то она
должна понимать под этим не то существо, которое придумывает знаки,
а то существо, которое всякий раз, когда начинается его
индивидуальная рабо-
[86]
та с вещами и событиями (и с самим собой как с вещью и событием), их
использует как уже готовую, сложившуюся знаковую систему. Эта
система сознательно мыслится нами применительно к использующему ее
"существу" как нечто искусственное*, своего рода "аппарат" (под
словом "аппарат" мы здесь понимаем "некоторое автоматически
функционирующее устройство").
Теперь, в качестве первого короткого шага в нашем рассуждении,
представим себе, что у человека есть два аппарата: аппарат
естественный и аппарат искусственный. Естественным аппаратом
являются органы чувств человека, его так называемая психика,
мыслимая нами (разумеется, чисто философски, а не психологически)
как какие-то природные или природно-биологические данные,
приспособления, структурно с сознанием не связанные. Мы мыслим таким
образом, потому что мы можем прекрасно представить себе некоторую
психику, некоторый аппарат отражения, не связанный с сознанием, но
если сознание присутствует, то тогда психическое устройство, органы
чувств и т. д. оказываются (или становятся) аппаратом, который может
использоваться в связи с сознанием.
Теперь сделаем следующий шаг. На том же уровне природного
существования и на том же уровне анализа, что и психика, находится и
знаковая система (поскольку она уже используется). Знаковая система
является продолжением естественного аппарата отражения,
искусственным созданием человечества или человека (но не обязательно
индивидуального человека, потому что мы предполагаем, что в индивиде
она воспроизводится в определенном состоянии сознания, погружаемого
в существующую знаковую систему или существующий знаковый аппарат).
Но, повторяем, в принципиальном смысле слова знако-
----------------------------------------
* Это очень важная характеристика, так как в отношении вещей и
событий знаковая система может мыслиться и как естественное
проявление присущей им "знаковое(tm)".
[87]
вый аппарат рассматривается нами на том же уровне, что и
естественный аппарат отражения, как развитие, усиление,
усовершенствование или дублирование последнего.
Мы думаем, что существуют три возможности исследования знаковых
систем: первая возможность - это проектирование некоторого не
существующего в сознании технического аппарата идеального знакового
уровня, то есть такая возможность, которая была реализована
структурной лингвистикой, где любая знаковая система*
рассматривалась как некоторый первичный способ описания.
Вторая возможность: рассмотрение знаковой системы на том же уровне,
что и психических механизмов человека, поскольку пользование знаками
рассматривается в качестве некоторого активного продолжения этих
механизмов.
Третья возможность (которой мы отдаем предпочтение) - попытаться
рассмотреть знаковую систему как определенную проекцию сознания,
знаковость на некотором - по отношению к психическому механизму -
высшем уровне, то есть попытаться представить как выглядит эта
знаковость, если смотреть на нее со стороны сознания, при том что
она оказывается некоторым образом между сознанием, которое
"наверху", и психическим механизмом, который "внизу".
Но прежде чем реализовать эту третью возможность и попытаться узнать
как знаковые системы выглядят со стороны сознания, попробуем
расширить само наше представление о них.
Строго говоря, если мы ставим знаковые системы по отношению к
сознанию на тот же уровень, на котором находятся механизмы, данные
человеку природой, то мы можем поставить на тот же уровень любые
эксперимен-
----------------------------------------
* Мы умышленно не говорим "структура", ибо структурой она
оказывается уже после применения структурного способа описания как
его конечный результат.
[88]
тальные устройства, создаваемые наукой искусственные средства
коммуникации и сигнализации и т. д. Они сходны со знаковыми
системами, в отличие от психики, хотя бы тем, что они есть
искусственные по определению. В качестве знаков могут выступать все
физические экспериментальные ситуации, изобразительные и
коммуникативные средства. Наблюдая, как они себя ведут в отношении
сознания, мы можем говорить о сознании как о том, что извлекает
информацию из материала, получаемого в аппарате отражения (то есть
включая органы чувств). Тогда мы сможем увидеть в любой знаковой
системе своего рода экспериментальное устройство или сможем
вообразить, что все ситуации сконструированы так, что они являются
знаковыми (то есть порожденными функционированием знаковых систем).
Теперь, если довести эту серию предположений до конца, то окажется,
что в знаковых системах со всеми их структурами и элементами
потенциально дана, содержится вся наблюдаемая человеком Вселенная, и
если мы чего-то не знаем об этой Вселенной, то это что-то
фиксируется как наблюдатель. Тогда сам факт такой фиксации будет
означать, что мы чего-то не извлекли из того, что в принципе должно
содержаться в получаемой информации, - мы не извлекли из нее себя.
И то, что мы не извлекли себя, должно стать исходной точкой для
разворота проблемы по отношению к сознанию - проблемы двойственности
понимания и знания.
Знание всегда есть знаковая система. Можно вообразить существование
некоего потенциального, абсолютного знания, которое задано в
каком-то знаковом теле, но которое мы не знаем в качестве знания, не
понимаем его в качестве знания как такового, которое мы не можем
извлечь в порядке прохождения в пространстве через структуры
сознания и в порядке прохождения во времени продлением состояний
сознания. Знание также мо-
[89]
жет быть представлено как какое-то устройство, как механизм
извлечения информации из знаковых систем, механизм, который во
многих случаях может более или менее одинаково воспроизводиться во
всей массе индивидов, сменяющихся во времени и пространстве.
Но это извлечение того, что, как мы уже говорили, только объектно не
извлекаемо. Извлечение и есть переход к структуре сознания,
понимаемый как переход от знания к пониманию. Пока мы знаем, мы не
можем довести извлечение из потока информации до конца. Здесь
необходим переход к такой новой ситуации, которая обязательно
включала бы в себя наблюдателя.
Когда мы только еще начинаем смотреть на "знаковое" состояние
сознания, мы наблюдаем примерно такую картину: индивидуальный
психический механизм пробегает ряд не одинаковых состояний и
разновидностей состояний сознания, причем некоторые из этих
состояний сознания заведомо никоим образом не обозначаются, то есть
не попадают в такие факты сознания, содержанием которых является
знаковость. Но важно иметь в виду, что всякий раз, когда мы смотрим
на явление, которое мы условно называем "человек", то мы уже
привыкли о нем думать, что его поведение (как порядок, режим
пробегания им бесконечного ряда его натуральных психических
состояний) во всей динамике его психического эффекта, жизни - всегда
ориентировано на такие состояния, которые включают в себя пребывание
в содержательном порядке знаковости. Именно поэтому существует, с
одной стороны, возможность любое поведение рассматривать как
знаковое, а с другой - чисто субъективное ощущение своей собственной
жизни как потока состояний, ориентированных на знаковость,
переводящих незнаковые в знаковые. Но обычно незнаковые состояния
либо не регистрируются в порядке наблюдения сознания, либо
регистрируются ошибочно как знаковые.
[90]
Поэтому фраза "человек - существо, оперирующее знаками",
бессодержательна. Мы знаем (не "понимаем", а "знаем"), что человек
это существо, которое может оперировать всем, чем угодно, но это
существо, которое в порядке рефлексивного мышления, в порядке
описания своего рефлексивного мышления, всегда склонно рассматривать
свою знаковость не только как бесспорный факт, но и как известное
преимущество.
Такое рефлексивное знание о самом себе "не замечает" того
обстоятельства, что здесь происходит некоторая элиминация сознания,
которая как бы "природно" связана со всяким знаковым
функционированием. Рассматривая знаки как нечто такое, что
потенциально содержит в себе максимально возможную информацию, все
то, что можно узнать в принципе, мы можем понимать знаки как
псевдонатурные образования, безразличные по отношению к сознанию. Но
когда знаки функционируют "как знаки", то им присуща тенденция,
которую можно назвать тенденцией антисознания. Оперирование знаком
как знаком не предполагает, что субъект, пробегающий при постоянном
(то есть одном и том же) состоянии сознания те или иные знаковые
порядки, восстанавливает тот способ извлечения информации из
знаковых систем, при котором эти знаковые системы имеют смысл и
реально функционируют.
Чтобы оперировать знаком как знаком, достаточно оперировать
предметом этого знака, совершенно отвлекаясь от того способа видения
знаковых систем со стороны сознания, при котором этот предмет и
получает смысл обозначаемого. На уровне знаков предметы оказываются
и предметной действительностью как таковой и знаками, обозначающими,
что они "знаковые" (то есть обозначающие и обозначаемые) предметы. И
мы оперируем знаками как предметами в полном отвлечении от того, что
то, чем мы оперируем в качестве обозначаемого, является таковым
только потому,
[91]
что сознание именно таким образом извлекло информацию из того, что
было дано в натурном аппарате отражения в широком смысле этого
слова. И все это могло произойти только потому, что есть такое
состояние сознания, которое "завело" психический механизм в такую
структуру сознания, где оперирование может происходить только таким
образом.
С точки зрения сознания (и только с этой точки зрения!) о природе
знака можно думать так:
Нечто, чтобы быть знаком, предполагает остановку сознания и
одновременно предполагает рефлексию человека о самом себе как о
существе в принципе знаковом, оперирующем знаками или существующем
среди знаков. И тогда знаки не изобретаются; они являются человеку
стихией, в которую он погружен, и ее элементы находятся или могут
находиться как вне человека данные и "готовые" знаковые системы.
Всякий раз, когда он "извлекает" из рефлексии свой психический
механизм, он обнаруживает знаки.
В принципе возможно (если допускать возможность регистрации всех
состояний сознания, при которых извлекаемый психический механизм
оказывается в других структурах сознания) говорить о "человеке" и
когда "нет знаков". Но эмпирически этого не происходит, ибо это не
предусмотрено нормальным режимом рефлексирования человека. Иное же
рефлексирование даст принципиально иной результат. И отсюда
вытекает, что последовательное анализирование конкретного знакового
факта выводит нас из поля знака и переводит в антизнаковость, то
есть возвращает нас в сознание.
В этом смысле интересно вспомнить платоновское учение об идеях. Оно,
по-видимому, есть впервые в истории человеческого мышления
текстуально выраженное мышление о знаках. Для Платона
действительность дублировалась некоторым другим миром, который
фактически соотносился с нею, как знаковость с обозначаемостью.
[92]
Отличие платоновской точки зрения от обобщенно семиотической
заключается лишь в том, что там произошла своего рода перемена мест:
предмету соответствовала идея, но знаком идеи являлся предмет, а не
идея являлась знаком предмета. Тогда обнаруживается возможность
пограничных состояний между знаковостью (как "минус сознанием") и
незнаковостью, и становится мыслимой такая область сознания, которую
мы называем "знаковой".
Когда мы говорим, что для нормального функционирования знаковой
системы в качестве условия предполагается своего рода "омертвление
сознания", то мы сразу же оказываемся перед двойственностью знания и
понимания, имеющей уже прямое отношение к проблеме осознания языка.
Ведь когда мы говорим, что сознание оперирует знаками и предметами,
то фактически (а не метафорически) понимаем, что любой факт
оперирования знаком предполагает, что, по сути дела, это не
оперирование языком как системой, которую мы понимаем, а наше
действие как существ, которые уже знают язык и оперируют предметами
как таковыми. И тогда факт языка для нас будет не знаком, а фактом,
который в принципе можно использовать естественнонаучным образом в
порядке "подмены" или "вытеснения". И видимо, отсюда и происходит
идея о том, что знак может исследоваться по преимуществу
естественнонаучным образом или системным образом, структурным и т.
д. Исследуемая таким способом область или среда, среда знаковой
структуризации, и является естественным условием автоматизма
оперирования языком.
Это обстоятельство ставит нас перед странной дилеммой: каким образом
можно правильно говорить на языке, не опосредствуя акт говорения
реконструкцией и экспликацией законов такого говорения, то есть
"правил правильности"? Совершенно очевидно, что главным условием
таких правил правильности (без того, чтобы
[93]
совершилась рефлексия об этих правилах) является некоторый механизм
идентификации обозначающего с обозначаемым и одновременно их
натурализация. Об этом говорит тот факт, что мы думаем о предметах,
а не о знаках языка, на которых мы об этих предметах рассуждаем. Мы
соединяем стол со стулом по правилам грамматики, а не слово "стол"
со словом "стул". И мы можем задавать языковый механизм, действующий
автоматически именно потому, что условие извлечения информации,
лежащее в сознании, вытеснено действием самого этого механизма.
Поскольку механизм уже переведен на автоматический уровень, мы можем
говорить на языке, следуя его правилам без какого-либо понимания
этих правил.
Выбранный способ думанья о языке заставляет нас с некоторым
сомнением относиться к общей идее Фердинанда де Соссюра о языке как
системе, которую можно исследовать исключительно внутренним образом.
Но, конечно, с еще большим сомнением мы думаем о теории Хомского о
глубинном плане языка (обусловливающего его реализацию). С нашей
точки зрения, то, что Хомский считает глубинным планом, на самом
деле не глубинный, а наоборот, "верхний" план языка, и если этот
план не предусматривает некой психологической субстративности, то он
должен быть осмыслен как нечто сугубо внешнее, ибо здесь Хомский
фактически имеет в виду интенциональную сторону языка. На деле
происходит некоторая акция смотрения одновременно на язык и
сознание, которое мы, при подходе к этой акции со стороны, можем
рассматривать как основное внешнее условие функционирования языка в
качестве готовой системы. Внутренним условием оно становится только
тогда, когда мы переходим на некоторую метапозицию и смотрим на эту
ситуацию как на готовый комплекс функционирования. Так язык
наблюдается со стороны сознания (тем самым исключая последнее из
наблюде-
[94]
ния). Но, разумеется, при таком наблюдении мы покидаем "прежнее"
сознание, которое превращаем тем самым сначала в "язык", а потом уже
в "предмет".
Теперь нам придется немножко пересмотреть то, что нами самими
говорилось о Платоне. Не случайно было сказано, что у Платона не
идеи являются обозначениями предметов, а предметы являются
обозначениями. Такой вывод был бы вполне верен, если бы Платон был
только семиотиком. В самом деле, он был первым "историческим"
семиотиком, но весь его семиотический опыт был произведен не из
семиотики. Ведь, вообще говоря, семиотика - это не более чем один из
случаев двойственного рассмотрения чего угодно. В этом смысле мы не
знаем другого, более последовательного дуализма. Семиотический
дуализм "знак - обозначаемое" - это глава с зашифрованным названием,
названием, в котором зашифрован дуализм предметного человеческого
мышления.
Но в том-то и дело, что платоновское рассуждение было гораздо
сложнее, и сложность его была в том, что Платон не мыслил ни
предметно, ни человечески. И хотя его теория идей была первой
семиотической теорией, она же была и одной из первых теорий
сознания. Это очень важно для того специфического понимания символа,
которое мы развиваем в нашей работе, для понимания символа как
не-знака. У Платона идеи есть символы сознания, а не знаки. И
поэтому у него и возникает ситуация, где он вынужден предметы
считать обозначениями идей: то есть не идеи обозначают предметы в
сознании, а предметы есть знаки идей. Предметы фактические,
материальные или какие-нибудь другие, в том числе и человеческая
психика, суть выполнения идей, понимаемые как их обозначения.
Откуда могла возникнуть такая теория? Она возникла из того, что
Платон понятием "идея" символизировал сознание, и прежде всего - от-
[95]
личение духовных (сознательных) структур, в принципе по Платону
трансцендентальных, от структур вещественных. Он понимал одну очень
важную вещь: с того момента, как мы "находимся" в сознании, мы имеем
усиление нашего обычного психического аппарата отражения
трансцендентальными условиями сознания. В этом отвлечении Платон
формирует одновременно и психическую идею перехода в другой режим
бытия (т. е. сознания). В этом смысле очень важно, что он избрал
идеальным символическим типом своей философии Сократа. Сократ как
учитель был символом пребывания в сознании. В этом заключается его
функция - чисто символическая функция "вступления" идеального
психического механизма ученика в новый режим, который Платон описал
не психическим, а метафизическим образом, полностью абстрагированным
от его физической природы и его человеческих возможностей. Символ
был введен им как символ того, что является по отношению к
знаковости ничем... или чем-то всегда более высокого порядка (а по
отношению к рассмотрению - более высоким порядком рассмотрения). Ибо
в рамках любого сознательного опыта сознание всегда как минимум на
один порядок выше, чем порядок содержания, составляющего этот опыт
сознания. И этот опыт требует другого набора состояний, пробегаемых
индивидом. Или лучше сказать так: дело не в том, что индивид
пробегает другие состояния, а в том, что он фиксирует свое мышление
на других им пробегаемых состояниях сознания.
Но здесь всегда необходимо движение в сознании. Прямо сказать об
этом мы не можем, это то же самое, как если бы поднять самого себя
за волосы. Если сознание всегда на один порядок выше порядка
элементов содержания, составляющего опыт сознания, то у нас нет
другого способа говорить об этом более высоком порядке, как говорить
о нем косвенно, символически.
[96]
1. ПРИБЛИЖЕНИЕ К СИМВОЛУ
Теперь перейдем к рассмотрению другого дуализма - дуализма
человеческого мышления, его природной интенции на двойственное
ориентирование. С одной стороны, в этом дуализме есть возможность
принципиальной семиотики, то есть наблюдения в чем угодно
знако-вости, а с другой стороны - этот дуализм несет в себе и
возможность возвращения в сознание "в порядке созерцания". Можно
представить себе такую особую процедуру, в которой дуализм
подвергается редукции, то есть становится только дуализмом
рассмотрения. Мы говорим о том, что символ в собственном смысле есть
знак ничего. Но в каком смысле? В смысле сознания, потому что
сознание не может нести в себе того содержания, которое имеется в
виду, когда говорится о вещи, о том, что обозначено. Всякий раз,
когда мыслитель последовательно исследует знаковые ситуации, в
которых нечто существует как знак и обозначаемое, он обязательно
приходит к выводу, что "знак есть только знак".
Но не с древнейших ли буддистских текстов живет в мире идея, что
если знак только знак, то он может обозначать либо отсутствие всякой
вещи, и тогда сам он ничто, либо бытие некоего ничто, и тогда он -
все?
Но не разные ли это "ничто"? - "Ничто" символа, как содержательно
непостигаемое сознание, и "ничто" знака, как отсутствие реального
предмета в качестве обозначаемого? Но если знак рассматривать как
то, за чем ничего нет, то он может явиться и как нечто существующее
совершенно самостоятельно в качестве псевдонатурного предмета,
который... знак, и которому просто ничего не соответствует.
Естественно, тут возникал вопрос: а почему тогда этот предмет
называется знаком? Ведь знак представляет дуализм знака и
обозначаемого. И на это есть очень простой ответ: да, так было, пока
мы не рас-
[97]
смотрели эту дуальную структуру до конца, но вот, мы ее исчерпали,
мы узнали, что у знака нет обоз |
|