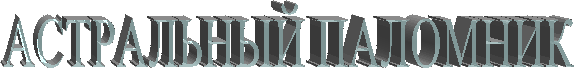|
Выдержки из произведения
Лунное дитя
Алистер Кроули
Глава I КИТАЙСКИЙ БОЖОК
Лондон, столица Британского королевства, расположен на берегах Темзы.
Вряд, ли
можно предполагать, что этот факт был неизвестен Джеймсу Эбботу
Мак-Нейлу
Учстлсру, шотландскому джентльмену, урожденному американцу, проживающему
в
Париже. Однако вполне достоверно будет предположить, что он этого факта
не
признавал, ибо, усевшись однажды на ее берегу, он открыл для себя
совершенно
иной факт, о котором до него, судя по всему, никто даже не догадывался.
А
именно, что ночам» Лондон бывает очень красив. Погрузившись в
мечтательные
видения, он открыл для себя Лондон в мягком, мистически-прекрасном
тумане —
чудесную сказку о тоске и неясности.
Из этого явствует, что у судьбы есть свои любимчики, потому что
изобразить
Лондон таким, как он есть, удалось бы, наверное, только Гойе. В
действительности
город чудовищно безобразен. Тайну его хранят не потемки, а потомки. Эта
истина
становится очевидной для тех, кто понимает, что сердце Лондона - это
вокзал
Черинг-Кросс.
Как с точки зрении обычной географии, так и, так сказать, географии
нравственной
этот древний перекресток расположен в самом центре города. В обе стороны
от него
тянется улица Стрэнд, упираясь одним концом во Флитстрнг. и с другой
двигаясь в
направлении Ладгсйт-хиллд и заканчиваясь собором Св. Павла. На юг от
него
отходит улица Уайтхолл, ведущая к Вестминстерскому аббатству и зданиям
Парламента. Трафальгар-сквер, прикрывающий вокзал с третьей стороны, к
какой-то
мере порождает его по банальной современности Пикаилли и Пэлл-Мэлл,
полных
гсоргианских архитектурных излишеств, не заслуживающих оправдания даже в
качестве элементов ритуала преклонения перед историческим величием
религиозных
памятников, ибо Трафальгар — это действительно история. Тут следует
заметить,
что Нельсон со своего постамента очень внимательно смотрит на Темзу, ибо
именно
вокруг неё сосредоточена подлинная жизнь города, Здесь бьется аорта его
огромного сердца, и Вестминср — митральный клапан era. Нет, все-таки
Черинг-
Кросс — единственный в мире "настоящий столичный вокзал. Хьюстон, Св.
Панкрас и
Кингс-Кросс годятся лишь на то, чтобы помочь человеку добраться до
провинции, да
хоть бы и до строгой Шотландии, и в каши дни столь же строгой, столь же
юлой и
неприступной, как во времена доктора Джонсона; Виктория и Паддингтон
связывают
лондонца со всеми безобразиями района и Бурнемута в зимнее время, а
Мэйденхсд и
Хенли — в летнее; Ливерпуль-стрит и Фенчерч-стрит — всего лишь сливные
трубы
пригородов, а Ватерлоо — это темная прихожая Уокинга. Большой
Центральный вокзал
олицетворяет некую «идею», имя и все атрибуты которые импортированы с
Бродвея
неким ловкачом строителем по фамилии Джеркс; с этого вокзала никуда и не
доедешь, кроме как до площадок для гольфа под Сэпди-лоджем. Если в
Лондоне есть
еще вокзалы, о которых я не упомянул, значит, и просто забыл о них — вот
еще
одно доказательство их незначительности.
Перекресток же Чсринг-Кросс возник еще задолго до нормандского
завоевания. Па
этом месте Цезарь, несмотря на вес доблести пришедшего приветствовать
его вождя
Боадика, встретил его презрение»; и здесь же Блаженный Августин произнес
свои
знаменитые слова: Non Angli, scd angcli.
Впрочем, не будем преувеличивать: достаточно вспомнить, что Черинг-Кросс
связывает Лондон с Европой, а тем самым с историей. Он сознает и свое
достоинство, и свое предназначение; служащие вокзала никогда не забывают
историю
про короля Альфреда и пирог и очень ревностно выполняют свои Бог весть
кем
предписанные обязанности по отношению к любым нуждам господ
путешествующих.
Скорость поездов испокон веку соответствует скорости продвижения римских
легионов — три мили в час, и они всегда опаздывают, видимо, в память
бессмертного Фабия, сказавшего: Qui cunctando restituit rem. Вокзал
прямо-таки
купается и лучах славы бессмертных. Это наверняка здесь, в одном из
залов
ожидания, Джеймсу Томсону пришел в голову замысел его «города страшных
ночей», и
он по-прежнему остается сердцем Лондона, пульсирующим от тоски по
Парижу.
Человек, отправляющийся в Париж с вокзала Виктория, никогда не увидит
настоящего
Парижа. Он приедет лишь в город полусвета и толп туристов.
Впрочем, решение Лавинии Кинг прибыть в Лондон через вокзал Чсринг-Кросс
не было
продиктовано ни вышеизложенными соображениями, ни даже каким-либо
инстинктом.
Она была просто всемирно известной танцовщицей необычного эзотерического
стиля,
собравшейся ступить своей драгоценной ножкой на лондонскую сцену и,
после пары
очаровательных пируэтов, продолжить путешествие в Петербург. Нет,
причина, по
которой она избрала вокзал Черинг-Кросс, не была связана ни с какими
высшими
соображениями; если бы мы спросили ее самое, то она со своей загадочной
улыбкой,
застрахованной на сумму в семьдесят пять тысяч долларов, ответила бы,
что оттуда
просто удобнее добираться до отеля «Савой».
Окна же своего номера люкс она распахнула потому, что эта октябрьская
ночь,
открывшая художнику и свою красоту, и свое безобразие, была чрезвычайно
жаркой,
что в это время года для Лондона достаточно непривычно. Ни открывавшийся
из них
вид на исторический сад Тсмпль, ни излюбленный лондонскими самоубийцами
мост
темной громадой написавший над освещенными железнодорожными стрелками,
ее не
интересовали.
Она просто скучала в обществе своей подруги и неизменной компаньонки
Лизы Ла
Джуффриа, которая вот уже в течение двадцати трех часов без перерыва, с
тех
самых пор как Биг Бен пробил одиннадцать вечера, отмечала свой день
рождения.
Вот уже восьмой раз та эти сутки Лиза выспрашивала о своем будущем одну
даму,
такую плотную и к тому же упакованную и железный корсет, что любой, кто
хоть раз
в жизни имел дело со взрывчаткой, не удержался бы от того, чтобы
немедленно не
отправить ее на улицу, в сад, дабы с ней в этом тесном помещении бога
ради не
стряслось снова того же, что очевидно, однажды имело место. Кроме того,
эта дама
была уже настолько пьяна, что любой поборник трезвости охотно отдал бы
за нее
столько, сколько весила бы она сама, будучи погруженной в грейпфрутовый
сироп,
чтобы заполучить столь наглядный образец для своей душеспасительной
пропаганды.
Знали эту даму Эми Брау, и на очередную просьбу раскинуть карты она
всякий раз
соглашалась безропотно.
— На день рождения вы получите тринадцать подарков, — повторила она уже
в
сто тринадцатый раз — А вот это означает «смерть в семье». Затем вы
получите
письмо с приглашением к путешествию, и еще будет какой-то темноволосый
мужчина... И большой дом. Дом очень большой. Думаю, что вам предстоит
поездка —
очевидно, по этому письму. Н-да, Девятка плюс тройка — это двенадцать,
плюс туз—
тринадцать... Конечно, подарков будет тринадцать.
— Но я пока получила только двенадцать, — возразила Лиза, тоже уставшая;
она
скучала, ей все надоело.
— Ну и что? — отозвалась Лавиния Кинг, скучавшая у окна. —У тебя еще
целый
час времени.
— Тут действительно какой-то большой дом, — продолжала Эми Бpay. — И,
думаю,
что дело будет спешное.
—Все это очень странно! — воскликнула Лиза, неожиданно почувствовав себя
лучше.
— То же самое предсказал мне буньип, когда я вызвала его по поводу моего
недавнего сна. Нет, это просто удивительно! Но еще удивительнее, что
находятся
люди, которые во все это не верят.
Из глубины одного из кресел раздался стон, полный невыразимой тоски:
— Может, кто-нибудь даст мне персик?
Этот голос — резкий, гулкий — принадлежал американцу с синими от бритья
щеками и
крутым подбородком. Одет он был довольно странно, если не сказать
безвкусно: на
нем была греческая хламида, на ногах — античные сандалии. Трудно
подобрать мало-
мальски философ-скос объяснение тому, отчего сочетание подобного костюма
с
чикагскими физиономией и выговором производит отталкивающее впечатление.
Однако
это было именно так. Это был Арнольд, брат Лавинии, и наряд свой он
носил как бы
в целях рекламы: это было частью той игры, в которую играло все
семейство.
Какому-нибудь близкому другу он мог бы, наверное, объяснить это так: я
прикидываюсь шутом, чтобы отвлечь внимание людей и, пока они будут меня
разглядывать, спокойно обшарить их карманы.
—Кто сказал «персик»? — отозвался другой спящий, молодой еврей-художник,
вообще
отличавшийся необычайным чутьем.
Лавиния Кинг перешла от окна к столу. На столе стояли четыре огромные
вазы-
полушария из серебра. В них находились самые лучшие цветы, которые
только можно
было достать в Лондоне — дар аборигенов ее таланту. Одна из ваз,
впрочем, была
заполнена персиками по четыре шиллинга штука. Лавиния бросила один
брату, другой
— рыцарю Академии художеств.
—Не пойму, что это за человек, — продолжала свои рассуждения Эми Брау. —
Возможно, он как-то связан с этим домом.
Блауштейн, художник, весь погрузился в мякоть персика, блестя очками с
толстыми
стеклами.
— Да-да, дорогая, — вещала Эми дальше, откашлявшись. — Вам предстоит
путешествие, и именно из-за этого письма. Девятка плюс туз — это десять,
плюс
тройка опять тринадцать! Вы еще получите свой недостающий подарок. Это
так же
верно, как-то, что я туг сижу.
— Правда получу? — спросила Лиза, чуть не задыхаясь от жары. Да не сойти
мне
с этого места!
— А может, хватит? — раздраженно воскликнула Лавиния. — Я хочу спать!
— Если ты уйдешь спать с моего дня рождения, — отозвалась Лиза, — я
перестану с тобой разговаривать.
— Может быть, поделаем что-нибудь? — спросил Блауштейн, никогда не
умевший
делать что-нибудь, кроме своих рисунков.
— А давайте споем, — предложил брат Лавинии, выбрасывая персиковую
косточку
и снова закрывая глаза.
Биг Бен пробил половину часа. В своем историческом величии он не обращал
внимания на земные дела: что ему смены династий? Он и их видел немало, а
ведь он
еще так молод!
—Да заходите же, открыто! — громко проговорила вдруг Лавиния Кинг: ее
чуткий
слух различил легкий стук в дверь.
Она ожидала чего-то необыкновенного, однако это был лишь ее личный
пианист-
паралитик, калека с манерами спятившего миллионера и моральными
принципами
международного шпиона, вообразившего себя епископом.
—Надеюсь, ты хорошо встретила свой день рождения? — осведомился он у
Лизы, после
того как поздоровался со всеми присутствующими. — А теперь я хотел бы
представить тебе своего друга, Сирила Грея.
Удивлению гостей не было границ. Они только теперь заметили, что в номер
вошел
еще один человек, остававшийся до сих пор как бы невидимым и неслышным.
Он был
велик ростом и почти так же худ, как пианист, но его отличала одна
особенность:
он умел не привлекать к внимания. Когда его заметили, он повел себя
самым
обычным образом — улыбка, поклон, рукопожатие, несколько слов
приветствия. Но,
как только церемония представления закончилась, он как будто исчез
снова.
Разговоры иссякли; Эми Брау улеглась спать; Блауштейн отправился домой,
Арнольд
Кинг — тоже. Пианист поднялся, чтобы последовать их примеру, и огляделся
в
поисках своего друга. Лишь теперь остальные заметили, что тот сидел на
полу,
скрестив ноги, нисколько не обращая внимания на всю компанию.
Эффект от этого открытия был прямо-таки гипнотическим. Только что бывший
никем в
этой компании, он внезапно стал всем. Даже Лавиния Кинг, уставшая от
светской
жизни уже к тридцати годам (а сейчас ей было тридцать четыре), отметила
для себя
нечто новенькое. Она вглядывалась в его неподвижное лицо. Челюсть
казалась
квадратной, все лицо — плоским; маленький рот с ярко-красными, как мак,
губами,
необычайно чувственный. Небольшой нос, закругленный, но тонкий.
Казалось, что
вся жизнь этого лица сосредоточена в ноздрях. Маленькие темные глаза,
странные
брови, под которыми таился вызов, и прядь непослушных волос на лбу,
напоминавшая
одинокую пинию на склоне горы: за этим исключением образ гостя
представлялся
совершенно гладким, ровным. Волосы были с проседью, череп был необычайно
узким и
длинным. Она вновь попыталась заглянуть ему в глаза. Те неподвижно
смотрели в
одну точку, в бесконечность. Зрачки казались острыми как булавки. Она
поняла,
что он не замечает ничего и никого в номере. Тщеславие знаменитой
танцовщицы
вновь выручило ее. Она подошла к этой неподвижной фигуре и насмешливо
поклонилась ей. То же самое она могла бы проделать перед каменной
статуей. К
своему удивлению она внезапно почувствовала на плече руку Лизы: в ее
глазах она
увидела испуг и возмущение. Подруга отодвинула ее в сторону и,
обернувшись, она
увидела, как Лиза опускается на колени перед сидящим, глядя ему прямо в
глаза.
Было очевидно, что он не замечал ничего из происходящего вокруг.
Лавиния Кинг ощутила вдруг беспричинную злобу. Она подхватила своего
пианиста
под руку и поволокла к окну.
О ней ходили слухи, что она слишком близка со своим музыкантом, а слухи,
как
известно, не всегда лгут. Сейчас она воспользовалась ситуацией, чтобы
приласкаться к нему. Моне-Кнотт (таково было его имя) воспринял это как
знак ее
расположения. Ее страсть наполняла его кошелек деньгами, а его самого —
гордостью. Не отличаясь страстным темпераментом (он был своеобразный тип
заботливого женственного мужчины), он окружал заботой танцовщицу,
которая вполне
могла бы найти себе более подходящего любовника.
У этого человека не было даже ревности того автомобильного магната,
который
финансировал турне Лавинии.
Однако в эту ночь она не могла заставить себя думать о нем: ее мысли все
время
возвращались к человеку на ковре,
— Кто он такой? — спросила она строгим шепотом. Как, ты говоришь, его
зовут?
— Сирил Грей, — ответил Моне-Кнотт равнодушно. Его считают величайшим в
Англии
знатоком своего дела.
— А чем он занимается?
— Этого никто не знает, — последовал странный ответ.— Он никогда не
показывает своего искусства. Говорят, что это крупнейший лондонский
мистик.
— В жизни не слышала подобной чуши! — рассердилась танцовщица. — Тогда я
тоже мистик, потому что родилась в штате Миссури.
Пианист уставился на нее, не понимая.
— Шучу, — пояснила она. — Потом покажешь мне как-нибудь, как это
делается.
Но думаю, что все это — сплошной обман.
Моне-Кнотт пожал плечами: эти темы его не интересовали.
Неожиданно раздались удары Биг Бена: полночь. В гостиничный номер вновь
ворвался реальный мир. Сирил Грей распрямился, потягиваясь, точно змея
после
полугодового сна. Какой-то миг — и он превратился в заурядного
приторного
джентльмена. Обменявшись со всеми улыбками и поклонами, он поблагодарил
мисс
Кинг за прекрасный вечер, позволив себе сверх того лишь одно замечание
насчет
позднего часа.
— Заходите почаще, — съязвила Лавиния, — в наше время не часто встретишь
такого интересного собеседника.
— Мой день рождения уже прошел, — вспомнила Лиза уже в холле, — а я так
и не
получила тринадцатого подарка!
Это, видимо, разбудило Эми Брау.
— Там будет такой большой дом... — начала было она, но вдруг оборвала
свою
речь, сама не зная почему.
- В файф-о-клок меня всегда можно застать дома, - вдруг обратилась Лиза
к
Сирилу. В ответ он лишь улыбнулся, нагибаясь к ее руке. Однако прежде,
чем она
заметила это, он уже вышел из номера танцовщицы.
Оставшись одни, три женщины посмотрели друг на друга. Лавиния Кинг
неожиданно
расхохоталась. Выглядело это настолько нелепо, даже грубо, что подруга в
первый
раз в жизни не поняла ее. Она бросилась к себе в спальню и захлопнула за
собой
дверь. Лавиния, почти столь же раздраженная, отправилась в соседнюю
спальню и
вызвала горничную. Спустя полчаса она уже спала. На следующее утро она
решила
проведать свою подругу. Та лежала на постели, одетая, с красными
припухшими
глазами. Лиза не спала всю ночь. Эми Брау же, напротив, всю ночь мирно
проспала
в своем кресле. Проснувшись, она пробормотала только: — Вы получите
письмо, и
в нем будет что-то про поездку. — Потом она отчего-то вздрогнула и, не
говоря
больше ни слова, отправилась в салон на Бонд-стрит, где работала
модельершой.
Салон принадлежал одному крупному парижскому дому мод.
Лавиния Кинг никогда не умела ничего устраивать. Она не знала даже, что
есть
вещи,
которые нужно устраивать, иначе они не сделаются. Однако в этот день она
ощутила, что нуждается в немедленной помощи своего друга-миллионера.
Лиза осталась в апартаментах одна. Она сидела на диване, широко раскрыв
свои
черные живые глаза и глядела в пустоту. Ее черные волосы спадали на лоб,
локон
за локоном, загорелая кожа пылала. Полные губы непрестанно двигались.
Она не удивилась, когда дверь вдруг без стука открылась. Сирил Грей
мягко
затворил ее за собой. Она была очарована настолько, что не могла даже
пошевелиться, приподняться, чтобы приветствовать его. Он подошел, взял
ее голову
в руки и, отклонив назад, поцеловал прямо в губы, чуть не прокусив их.
Это
продолжалось всего лишь мгновение; вот он уже отпустил ее и, усевшись
рядом с
ней на диван, произнес несколько банальных слов о погоде. Она смотрела
на него с
удивлением и ужасом, а он, казалось, не обращал на это внимания,
продолжая
болтать обо всем подряд — о театре, о политике, о литературе, о новостях
искусства...
Наконец она пришла в себя настолько, что смогла вызвать горничную и
заказать
чай. После чая и новой серии пустых разговоров она наконец решилась.
Или, лучше
сказать, осознала свое решение: она поняла, что уже принадлежит этому
человеку
телом и душой.
Она не испытывала и тени стыда — все было выжжено пламенем, охватившим
ее душу.
Она долго и безуспешно пыталась показать ему это, свернуть разговор с
накатанных
рельсов, заговорить о серьезном. Но он всякий раз озадачивал ее своей
мягкой
улыбкой и непрекращающейся болтовней, превращавшей любой предмет в
невыносимую
банальность, шести часам она уже мысленно стояла перед ним на коленях.
Вслух же
она осмелилась лишь попросить его остаться на ужин.
Он отказался. Оказалось, он уже дал согласие отужинать, вместе с некоей
мисс
Бэджер в Чейни-Уолке. Он пообещал позвонить, если вернется не слишком
поздно.
Она попыталась отговорить его от ужина с этой мисс, но он ответил, и это
были
его первые серьезные слова, что никогда не нарушает своих обещаний.
Наконец он поднялся, чтобы уйти. Она буквально вцепилась в него. Он дал
ей
почувствовать свое раздражение. Тогда она стала тигрицей, он же
превратился в
невинного ягненка, ответив ей лишь все той же мягкой улыбкой.
Он поглядел на часы, и его поведение вновь резко изменилось.
— Я обязательно позвоню, если смогу, — сказал он ласково, но твердо, и
силком усадил ее на диван.
Он ушел, а она лежала на подушках и рыдала так, как, кажется, не рыдала
никогда
в жизни.
Остаток вечера показался ей сплошным кошмаром — как, впрочем, и Лавинии
Кинг.
Пианиста, заглянувшего в надежде на обед, вышвырнули с руганью: зачем он
притащил с собой этого мужлана, этого психа, этого идиота? Эми Брау
взяли под
жирные белые руки и усадили за карты. Однако стоило ей в первый раз
опять
произнести слова «большой дом», как ее тоже выгнали. Наконец, Лавиния
была
чрезвычайно озадачена, услышав от Лизы, что та не придет смотреть ее
выступление — единственное в Лондоне в этом сезоне! Это было невероятно.
Когда
Лавиния ушла, Лиза тоже было засобиралась и даже накинула манто, однако
передумала, не дойдя и до половины холла.
Весь вечер она металась, страдая от нерешительности. Когда Биг Бен
пробил
одиннадцать, она лежала на полу в полном отчаянии. Минуту спустя
зазвонил
телефон. Это был Сирил Грей — конечно, конечно, кто же еще мог это быть?
— Когда я мог бы застать вас дома? — спросил он вежливо.
Она представила себе его па том конце провода, с ехидной улыбкой на
устах,
почему-то решив, что он всегда так улыбается.
— Никогда! — воскликнула она в сердцах. — Я завтра же уезжаю в Париж.
Первым
поездом!
— Тогда я лучше приеду сейчас. — Его голос звучал неумолимо, как смерть.
Только поэтому Лиза сразу же не бросила трубку.
— Сейчас нельзя! Я не одета.
— А когда же?
Нет, каков нахал! Наверняка он ехидно улыбается, к том)' же подавляя
зевоту...
Но тут силы оставили ее:
— Приезжайте, когда хотите.
Трубка выпала из ее руки, но она еще успела расслышать слово «такси».
Утром она проснулась ни жива ни мертва. Он приехал, потом уехал. Они не
обменялись почти ни единым словом, и он ничем не выразил, что хотел бы
встретиться с ней еще раз. Лиза велела прислуге собирать вещи,
намереваясь ехать
в Париж, но у нее самой не было никаких сил: она вдруг ощутила себя
безнадежно
больной. Истерия постепенно перерастала в неврастению, причем Лиза
чувствовала,
что исцелить ее могло бы одно-единственное слово. А слово это все не
звучало. От
кого-то она слышала, что Сирил Грей иногда играет в гольф под Хойлейком.
Ей
захотелось немедленно поехать искать его, но эту мысль очень скоро
сменили мысли
о самоубийстве. Прошло несколько, а точнее много дней, прежде чем
Лавиния Кинг
заметила, что с Лизой что-то неладно. Мысли Лавинии редко вырывались за
границу
размышлений о ее собственных талантах и достоинствах. Тем не менее она
увезла
Лизу с собой в Париж: в конце концов, та была нужна ей как компаньонка.
Через три дня после их прибытия в Париж Лиза получила открытку,, на
которой
стоял лишь адрес да большой вопросительный знак. Подписи не было, его
почерка
Лиза не знала, но сразу поняла, от кого она. Не медля ни минуты, она
схватила
манто и шляпку и помчалась вниз по лестнице. Автомобиль стоял у
подъезда; десять
минут спустя она уже стучала в дверь парижской студии Сирила.
Дверь открыл он сам.
Он раскрыл руки, чтобы обнять ее, но она уже стояла перед ним на
коленях. — О
мой бог, мой китайский божок! — воскликнула она.
— Вы позволите, — прервал ее Сирил серьезным тоном, — представить вам
моего
друга и учителя, мистера Саймона Иффа?
Лиза подняла глаза. Кроме Сирила, в студии был еще один человек, очень
пожилой,
но необычайно живой и бодрый. Смутившись, она поднялась на ноги.
— Ну, какой я ему учитель, — произнес тот добродушно, — а вот он и
вправду
китайский божок, как вы совершенно точно изволили заметить. Я же — всего
лишь
студент, изучающий китайскую философию.
Глава II
НЕСКОЛЬКО ФИЛОСОФСКИХ
РАССУЖДЕНИЙ О ПРИРОДЕ ДУШИ
Если не брать в расчет наших западных манер, — заметил Сирил Грей, — то
разницы
между китайской философией и английской нет никакой. Китайцы закапывают
мужчину
живьем в муравейник, англичане знакомят его с женщиной. Эти слова
вернули Лизу
Ла Джуффриа на землю, хотя и были сказаны безо всякого намека на иронию.
Она
решила немного осмотреться. Сирил Грей разительно изменился. В чопорном
Лондоне
на нем был красный пиджаке огромным галстуком-бабочкой под мягким
шелковым
воротником. В богемном Париже он был одет с какой-то дьявольской
строгостью, с
полным соблюдением этикета. Смокинг безупречно-строгого покроя,
застегнутый на
все пуговицы, светло-серые брюки. Черный широкий галстук, заколотый
булавкой с
сапфиром, таким темным, что его почти не было заметно. Воротник жестко
накрахмален. В правом глазу — монокль без ободка. Соответственно костюму
изменилось и поведение. На лице не было ни высокомерия, ни улыбки. Так
мог бы
выглядеть дипломат эпохи кризиса какой-нибудь империи; нет, не дипломат
даже, а
скорее дуэлянт перед началом дуэли. Студия, где произошла их встреча,
находилась
на бульваре Араго, рядом с тюрьмой Сайте. Чтобы попасть в нее, нужно
было
свернуть с улицы в ворота, за которыми открывался двор с небольшим
садом. За ним
находились студии, позади которых снова был сад, поделенный на участки,
куда
выходили двери студий. Между собой участки соединяла тропинка. Все это
выглядело
не просто как частное владение, а как настоящая сельская идиллия.
Казалось, что
ты находишься милях в десяти от города.
Сама студия была устроена скромно, но со вкусом — simplex munditiis;
стены
заклеены темными обоями. В центре стоял резной квадратный стол из
эбенового
дерева; обстановку дополняли комод у западной стены и письменный стол —
у
восточной. Вокруг центрального стола располагались четыре стула с
высокими
готическими спинками; у северной стены был диван, покрытый шкурой белого
медведя. Пол тоже был покрыт шкурами медведей, но черных, гималайских.
На столе
красовался темно-зеленый бронзовый дракон из Бирмы. Из его пасти
тянулась
струйка благовонного дыма. Однако самым удивительным экспонатом этой
странной
выставки был все-таки Саймон Ифф. Лиза о нем уже слышала: он был автором
нескольких книг по мистике, принесших ему репутацию человека, склонного
к зауми.
Впрочем, в последние годы он начал изъясняться более доступным языком,
решив
стать ближе к народу. Это он оказал неоценимую услугу Англии, спасши
знаменитого
профессора Бриггса, приговоренного к смертной казни по обвинению в
убийстве.
Профессор был настолько увлечен сооружением своей новой летательной
машины, что
решительно не замечал, как его же собственные коллеги сговариваются
отправить
его на тот свет. Именно Саймон Ифф помог распутать с полдюжины сложных
преступлений, не пользуясь для этого практически ничем, кроме своей
феноменальной способности разбираться в человеческой психологии. После
этого его
репутация начала меняться; люди начали даже читать его книги. Однако
личность
этого человека по-прежнему оставалась окружена ореолом таинственности.
У него была привычка исчезать на долгое время, и ходили слухи, что он
владеет
тайной эликсира жизни: все знали, что ему в простоте прибранно уже под
восемьдесят, но его живости и бодрости духа мог бы позавидовать
сорокалетний.
Весь его облик излучал силу, в глазах горело неугасимое пламя, ум был
точен и
быстр — все это говорило о присутствии в нем некоей таинственной
энергии, не
знакомой обычным людям.
Это был человек небольшого роста, небрежно носивший свой синий костюм и
узенький
темно-красный галстук. Седые волосы вились тугими кольцами. Кожа на лице
была
здоровая и чистая, хотя и начала уже покрываться морщинами. Маленький
подвижный
рот то и дело складывался в улыбку, и все его существо излучало чистую,
заразительную радость. Он приветствовал Лизу более чем сердечно. В ответ
на
замечание Сирила он дружески взял ее под руку и усадил на диван.
— Я уверен, что вы курите, — сказал он. — Располагайтесь, забудьте о
Сириле.
Попробуйте вот этих: я получаю их от табачника самого хедива!
Ифф извлек из кармана портсигар и раскрыл его. С одной стороны в нем
лежали
темные сигары, тонкие, длинные, с другой — белые, похожие на обычные
сигареты.
—Темные — с запахом мускуса, эти желтые — с амброй, а у белых — аромат
розового
масла.
Помедлив, Лиза выбрала амбру.
— Прекрасный выбор! — обрадовался старик. — Золотая середина. Теперь я
совершенно точно знаю, что мы с вами будем друзьями.
Он поднес огонь к ее сигарете, а сам закурил сигару.
— Знаю, знаю, о чем вы думаете, милочка: там, где двое, третьему делать
нечего. Я с вами совершенно согласен, поэтому давайте попросим брата
Сирила
продолжить свои занятия Каббалой, потому что прежде, чем мы засунем его
в
муравейник — о, в его мужестве я не сомневаюсь! — мне хотелось бы
немного
поболтать с вами. Видите, я сразу догадался, что вы — одна из нас!
— Ничего не понимаю! — отозвалась девушка с некоторой обидой в голосе,
увидев, что Сирил и вправду отошел к письменному столу, взял в руки
большую
толстую книгу и углубился в чтение.
— Брат Сирил рассказал мне о трех встречах с вами, так что теперь я знаю
о
вас все — или почти все. У вас) прекрасное здоровье, и все-таки вы
склонны к
истерии! Вы — натура увлекающаяся, особенно вещами загадочными и
необычными. Вы
стараетесь выглядеть гордой и не зависимой — и в то же время желаете,
чтобы вас
считали страстной натурой. Вы мечтаете о любви, это ясно, и вы
достаточно знаете
самое себя, чтобы понимать, что обычная любовь не увлечет вас: ваша
любовь
должна быть уникумом, взрывом, сенсацией. Но, скорее всего, вы не
понимаете, в
чем корень этого вашего желания. Я скажу вам это. Ваша душа
изголодалась, вы
устали от этого мира с его маленькими и большими обманами и
подсознательно ищете
чего-то высшего, нежели все то, что может предложить вам наша планета.
Чтобы вы убедились в правоте моих слов, я вам расскажу кое-что еще. Вы
родились
одиннадцатого октября — это мне сообщил брат Сирил. Однако он не назвал
мне
часа. Вы
тоже не говорили мне его; но это произошло незадолго до рассвета. Лиза
вздрогнула: мистик угадал правильно.
— В Ордене, к которому я принадлежу, — продолжал Саймон Йфф, — не
принято
верить во что-либо; мы либо знаем, либо сомневаемся, в зависимости от
конкретного случая, и всегда стремимся приумножить наши знания при
помощи чисто
научных методов, то есть путем наблюдения и эксперимента. Поэтому не
думайте,
что я стану предсказывать вам судьбу или отвечать на такие вопросы, как,
например, «что такое душа». Я расскажу вам только то, что действительно
знаю и
могу доказать. Могу сообщить также, какие гипотезы заслуживают внимания.
Наконец, могу посоветовать, какие эксперименты стоит поставить. Это
последнее и
есть то, в чем вы можете очень помочь нам; вот почему я примчался сюда
из Сен-
Жан-де-Люс, чтобы увидеться с вами.
В глазах Лизы вспыхнула радость:
— Знаете, вы первый человек, которому действительно удалось понять меня!
—
призналась она.
— Надеюсь, что это так; но я все еще слишком мало знаю о вашей жизни.
Рискну
предположить, что вы наполовину итальянка... А другая половина,
наверное,
ирландская?
— Правильно.
— Ваши предки были крестьяне, но вы выросли в обеспеченной семье, и ваша
личность развивалась без помех и принуждений. Вы рано вышли замуж.
— Да, но неудачно. Я развелась с мужем и через два года вышла замуж еще
раз.
— На этот раз за маркиза Ла Джуффриа?
-Да.
— А потом бросили и его, хотя он достойный человек и был вам хорошим
мужем,
и стали компаньонкой Лавинии Книг.
— Да... Через месяц будет ровно пять лет, как я езжу с нею.
— А почему, собственно? Я ведь вас действительно уже знаю, а она и пять
лет
назад была так же вульгарна, глупа, бессердечна и жадна, как сейчас. У
нее
подлая натура, а это самый мерзкий тип куртизанки. Кроме того, она
кривляка. Да
вас должно было бы оскорблять каждое ее слово! И все-таки вы привязаны к
ней
сильнее, чем к родной сестре.
— Да-да, вы правы! Но она бывает просто гениальна в своем танце. И
вообще
она — великая актриса. — Бывает, что гений посещает ее, — поправил
Саймон
Ифф. — Ее танец — это своего рода ангельская одержимость, если можно так
выразиться. Она танцует под величайшую, полную духовности музыку Шопена
или
Чайковского, а потом сходит с подмосток — и превращается во вздорную,
скандальную, болтливую бабу. «Двойственность характера» — недостаточное
для
этого объяснение. Мало того: бессмысленно было бы и пытаться объяснить
это таким
образом. Тут можно, пожалуй, лишь провести аналогию с великим мудрецом,
у
которого есть глупый, самодовольный, нечистый на руку секретарь.
Единственная
заслуга секретаря в том, что он грамотно записывает слова мастера и
таким
образом преподносит их миру; однако сам секретарь этого никогда не
осознает!
Думаю, что так дело обстоит со всеми гениями. Иногда человеку удается
сохранять
со своим гением более или менее гармоничные отношения, и он по крайней
мере
старается быть достойным инструментом для своего мастера. Если же
человек хитер
и к тому же не лишен практических способностей, он «отключает» своего
гения,
когда ему нужно чего-то добиться в обыденной жизни. Человек истинно
гениальный
подчиняется этой жизни, сводя свое человеческое «Я» до нуля или даже до
отрицательных значений, чтобы дать своему гению проявлять себя, как тот
захочет.
Мы просто глупы (и чаще всего осознаем эту свою глупость), когда
пытаемся делать
что-то по своей собственной человеческой воле. Попробуйте заставить
любую свою
мышцу работать непрерывно, как-то делает сердце без всякого понукания с
нашей
стороны! Вы не выдержите и двух суток. Я сейчас не помню точных данных,
но такой
эксперимент закончился, кажется, даже раньше, чем через сутки. Все это —
вещи,
неоднократно проверенные практикой, а в основе их лежит даосское учение
о
Недеянии: «действует бездействием мудрец»6. Положитесь полностью на волю
Неба, и
вы станете всемогущим инструментом его воли. Аналогичные учения вы
найдете в
большинстве мистических систем, однако доказать его на практике сумели
лишь
китайцы. Что бы сам человек ни делал, он ничего не прибавит этим к
своему гению;
однако гению нужно наше «Я», и он может усовершенствовать его, может
оплодотворить это «Я» знанием, обогатить творческими способностями.
Подыгрывайте
же своему гению, образно говоря, целым оркестром, а не жалкой дудочкой-
жестянкой! Возьмите любого из наших «маленьких гигантов», этих поэтов
одного
стихотворения, художников одной картины: в том-то и беда их, что они
никогда
даже не пытались усовершенствовать себя как инструмент. Гений, создавший
«Сказание о Старом Мореходе», ничуть не меньше того, что создал «Бурю»,
но
Колридж не умел сохранять порождаемые его гением мысли и не успевал
выражать их.
Вот отчего все остальное его творчество так вяло и безвкусно. Шекспиру
же каким-
то образом удавалось собирать именно те знания, которые нужны были для
выражения
мыслей его гения, и он владел достаточным навыком, чтобы выражать эти
мысли
наиболее гармонично. Вот видите, перед нами два Ангела, только у одного
оказался
плохой секретарь, а у другого — хороший. Думаю, что таково единственное
объяснение феномена гения, а Лавиния Кинг — это просто экстремальный
случай.
Лиза Ла Джуффриа слушала его со все возрастающим вниманием.
— Я не хочу сказать, — продолжал мистик, — что гений и его носитель
никак не
связаны между собой. Нет, связь существует, и даже более тесная, чем
между
всадником и лошадью. Но однажды приходится принимать решение. Вдумайтесь
только:
гений является во всей полноте знания и просветленности, и ограничивает
его лишь
слабость сил медиума. Хотя даже это ему не мешает. Вспомните писателей,
самих
удивлявшихся тому, что они написали! «Я ведь не знал этого», восклицает
он,
пораженный, хотя его собственная рука вывела эти строки минуту назад.
Короче
говоря, гений появляется как существо из иного мира, как душа Света и
Бессмертия. Конечно, многое из того, что я называю «гением», можно
объяснить
наличием некоей вполне материальной субстанции, в которой под
воздействием тех
или иных раздражителей в определенный момент оживает сознание целой
расы.
Говорить об этом можно было бы до бесконечности, и подтверждением этому
служит
даже язык: такие слова, как «знание», «гносис» суть не что иное, как
отзвуки
того первого крика, который вырывается при рождении. Ибо корень гаи лишь
во
вторую очередь означает «знание»; в первую же очередь это — «рождение»,
так же,
как и «дух» — «дыхание». Слово же «Бог» и другие ему подобные восходят к
значению «Свет». Одно из ограничений нашего ума именно в том и состоит,
что язык
приковывает нас к грубым представлениям наших варваров-предков, и какой
же
свободой должны мы были бы обладать, чтобы действительно разобраться, не
кроется
ли за эволюцией языка все-таки нечто большее, чем элементарное развитие
все
более абстрактных понятий. А может быть, люди все-таки были правы,
вложив
хитроумные идеи в примитивные слова и знаки? Может быть, рост языка и в
самом
деле означает рост знания? Может быть, после того, как будет сделано и
сказано
все возможное, все-таки отыщется доказательство существования души?
— Души? — подхватила Лиза восторженно. — О, я верю, что она существует!
— Вот вы и попались! — охладил ее восторг мистик. — Вера — враг знания.
А
Скайет, между прочим, пишет, что слово «душа», возможно, происходит от
корня su,
означающего «рождать»".
— Не могли бы вы объяснять попроще? — взмолилась Лиза. — Вы возносите
меня
за собой в какие-то заоблачные высоты... А падать, знаете, как больно!—
Это
оттого, что у ваших знаний нет фундамента. Хотите, я объясню вам, почему
мы все-
таки смеем предполагать, что душа существует, и не только существует, но
еще и
всемогуща, и бессмертна? Основания у нас для этого совершенно иные, чем
в случае
с гением, о котором мы уже говорили. Нет, я не стану в очередной раз
напоминать
вам об аргументах Сократа, ибо считаю «Федона» всего лишь набором глупых
софизмов... Хоть я и член основанного им Клуба любителей болиголова.
Хотите, приведу вам один любопытный пример из области медицины? Когда
человек
от старости впадает в маразм, когда его сознание уже затемнено и
обследование
показывает разрушение тканей мозга, у него тем не менее бывают моменты
абсолютно
ясного сознания — редко, но бывают. Одним только физическим состоянием
мозга
этого никак не объяснишь. Кроме того, наука уже убедилась, что у людей
бывают
такие аномальные состояния, когда в одном человеке сталкиваются — и
борются друг
с другом! — две совершенно различные души. Вы знаете, в чем заключается
самая
большая проблема спиритов? В том, что они никогда не могут быть уверены,
что
вызванный ими дорогой покойник — действительно тот, кого они вызывали. В
самом
деле, какими средствами мы располагаем, чтобы удостовериться в личности
человека, с тех пор, как утратили ту способность обоняния, которой до
сих пор
обладают, например, собаки? У нас есть антропометрия, которая, в
сущности,
ничего не говорит ни о личности человека, ни тем более о его душе, есть
тембр
голоса, почерк, есть вопросы, ответ на которые знает только он один.
Если
человек умер, тогда нам остается только это последнее средство. Вот
тут-то и
возникает дилемма. Либо «дух» сообщает нам что-то, о чем известно, что
он знал
это при жизни, но тогда не исключено, что тот, кому он успел сообщить об
этом,
поделился своими сведениями с медиумом. Либо же он сообщает нам нечто
новое, и
тогда это следует скорее считать доказательством обратного, то есть что
он — это
не он!
Разрешить эту дилемму пытались самыми разными способами. Человека
просили,
например, составить и запечатать письмо, вскрыть которое должны были
через год
после его смерти. Тот из медиумов, которому бы удалось узнать содержание
письма
до этой даты, заслужил бы аплодисменты критиков. К сожалению, до сих пор
пока
этот трюк никому не удался, хотя в награду за него обещаны тысячи
фунтов; однако
даже если бы это произошло, счесть это доказательством общения медиума с
покойником было бы довольно трудно, ведь содержание письма тоже можно
узнать
разными способами — возьмите хоть ясновидение, хоть телепатию, хоть
просто
невероятное везение.
Кроме того, имеется еще метод так называемого перекрестного обмена
письмами...
Впрочем, не буду утомлять вас всеми этими подробностями. Если вам
интересно,
попросите Сирила рассказать вам об этом — в Неаполе.
Лиза помотала головой, чтобы хоть немного прийти в себя. Все эти темы
очень
увлекали ее, однако она чувствовала, что устала невероятно. Последние
слова
вызвали у нее недоумение.
— Я все объясню вам — после обеда, — пообещал мистик, закуривая третью
сигару. — Как вы, вероятно, заметили, хотя и не сочли нужным указать мне
на это,
я уклонился от темы. Я собирался объяснить вам, как одна душа может
«выселить»
из физического тела другую, менее сильную, и как в одно тело может
«вселиться»
до дюжины разных личностей. Доказательством того, что это — разные,
совершенно
отдельные души, служит и разница в их познаниях (в чем, впрочем, тоже
трудно
быть уверенным), и почерк, и тембр голоса, и некоторые детали, для
которых в
нашем языке пока нет определений, и даже симуляция, когда одна душа
пытается
выдать себя за другую, или подозрение о такой симуляции. В конце концов,
любая
личность есть некая константа; она уходит и приходит, оставаясь такой
же, как
была. Отсюда ясно, что для существования ей не обязательно нужно
физическое
тело, она может обходиться и без него.— Но ведь это — все та же ваша
теория
«одержимости», как в случае с гергесинскими свиньями! — воскликнула
Лиза,
радуясь, сама не зная чему.
Тут в их разговор впервые вмешался Сирил Грей. Он поднялся с кресла и
откашлялся, поправляя монокль.
— В наши дни, — сказал он, — когда бесы вселяются в свиней, те отнюдь не
торопятся бросаться с обрыва. Они называют себя «творцами новой морали»
и
голосуют за сухой закон.
Еще не успев договорить, он снова уселся в кресло и предался изучению
Каббалы.
— Надеюсь, теперь вы понимаете, — улыбнулся Саймон Ифф, — с кем вы
связались?
Лиза улыбнулась в ответ, покраснев:
— Да, я опять попалась. Но я и до сих пор не знаю, как я должна с ним
разговаривать.
— Разговаривать! — отозвался Сирил Грей, не поднимая глаз. — Слова,
слова,
слова! Тяжело, знаете ли, быть Гамлетом, когда Офелия так и липнет к
Полонию!
Единственное, чего я хотел, так это научить ее Молчанию — недаром один
приятель
Катулла превратил своего дядюшку в Гарпократа.
— Гарпократ? Да, помню: египетский бог молчания, — отозвалась итало-
ирландка.
Саймон Ифф бросил ей многозначительный взгляд, и она поняла его: не
стоит
слишком вдаваться в эту тему.
— Знаете ли, мистер Ифф, — сказала Лиза, чтобы хоть как-то разрядить
неловкое молчание, — мне было ужасно интересно вас слушать, тем более,
что все
это и раньше меня очень интересовало, и мне даже кажется, что я кое-что
поняла.
Однако я не совсем понимаю, зачем вы мне все это рассказывали? Вы
хотите, чтобы
я научилась правильно понимать сообщения дорогих покойников?
— В настоящий момент, — с нарочитой серьезностью произнес мистик, — я
хочу,
чтобы вы запомнили все то, о чем я рассказал вам, и перешли к обеду,
которым нас
собирается угостить брат Сирил. После этого, на свежую голову, мы лучше
сумеем
разобраться с проблемами четвертого измерения.
— Ах, вот как? Значит, бедной Лизе придется еще попотеть, чтобы узнать
истинную причину вашего столь поспешного отъезда из Сен-Жан-де-Люс?
— Да, и еще кое-что, например, о гомункулусе.
— А это еще что такое?
— После обеда, дорогая моя, только после обеда!
Приготовления к обеду заняли некоторое время. В самом конце их раздался
звонок в
дверь.
Сирил Грей пошел открывать; Лизе он снова показался дуэлянтом,
отправляющимся на
роковое свидание. Или стражем врат: в своем воображении она даже вложила
ему в
руку копье.
Ателье принадлежало Сирилу Грею, то есть он снимал его; однако он
выкрикнул
имена гостей, как дворецкий:
— Акбар-паша и графиня Елена Моттих!
Саймон Ифф бросился к двери; вошедших он встретил с распростертыми
объятиями.
— Как только вы переступили через порог, — объявил он, — я понял, что вы
не
откажетесь разделить с нами нашу скромную трапезу.
Гости пробормотали что-то вроде слов благодарности. Выражение лица у
Сирила Грея
было самое неприветливое: видно было, что он знал этих людей и относился
к ним
крайне неприветливо, мало того: он боялся этого визита, хотя чего,
собственно,
было бояться? После неловкой паузы он присоединился к словам своего
учителя,
однако если верно, что молчание может быть красноречивым, то эти секунды
молчания были наполнены самой безбожной руганью.
Руки гостям он не подал. Саймон Ифф поздоровался с ними за руку; однако
сделал
это таким образом, что та и другая сторона оказались вынуждены подать
друг другу
руки одновременно.
Лиза поднялась со своего дивана. Она поняла, что тут происходит какой-то
спектакль, однако в смысл его пока не могла проникнуть.
Когда гостей усадили за стол, Лиза решила, что приличнее всего будет
ознакомить
их с последними парижскими новостями. Этим она и занялась, всей душой
отдыхая от
высоких теорий Саймона Иффа. Остальные с облегчением предоставили ей
вести
вечер. Лиза как раз делилась несколькими пикантными подробностями
последнего
выступления Лавинии Кинг, когда Сирил закончил все приготовления к обеду
и сумел
наконец прервать ее своим язвительным тоном:
— О да, я тоже видел этот спектакль. Мне понравился первый танец,
«Умирающий
лебедь» в си-бе-моль-миноре, это было весьма реалистично. За этим
следовало что-
то вроде сонаты о бутерброде, падающем маслом вниз, которая меня
совершенно
разочаровала. Правда, потом была одна из симфоний Чайковского, уже
гораздо
лучше, да и публика принимала хорошо. У меня она вызвала странные
ассоциации:
мне казалось, что я стою на платформе какого-то вокзала юго-восточной
железной
дороги, дожидаясь поезда...
Лиза вспыхнула от возмущения:
— Лавиния — лучшая танцовщица в мире!
— Я и не спорю, — согласился ее возлюбленный с нарочитым трауром в
голосе. —
Она прекрасная танцовщица.
Мой покойный отец говорил, что, когда ей было сорок, она уже так же
хорошо
танцевала. Ноздри Лизы задрожали: ей пришло в голову, что она дала
увлечь себя
гнусному чудовищу, и что пришла пора готовиться к решающей битве с ним.
Но тут
вмешался Саймон Ифф, пригласив всех к обеду.
— Желаю всем приятного аппетита! — объявил он. — К сожалению, мы
соблюдаем
пост, поэтому у нас в меню сегодня только соленая рыба, хлеб да немного
вина.
Лиза удивилась, откуда взялся пост, ведь сегодня была даже не пятница.
Паша
вежливо скривился. — Ах, да! — добавил Ифф, как будто только что
вспомнив: — У.
нас еще икра есть!
От икры паша тоже отказался.
— Вообще-то я не собирался обедать, — сказал он. — Я зашел только, чтобы
узнать, намерены ли вы по-прежнему устроить совместный сеанс с графиней.
— Конечно! Конечно! — воскликнул Ифф с таким энтузиазмом, что Лиза сразу
же
почувствовала, насколько он осторожен и внимателен, насколько остро он
чувствует
какую-то невидимую, но смертельную опасность, исходящую от этих людей, и
тем не
менее готов сделать все, что они потребуют. У нее уже начала развиваться
та
интуиция, которая означает путь Дао.
Глава III
ТЕЛЕКИНЕЗ, ИЛИ ИСКУССТВО ПЕРЕМЕЩАТЬ ПРЕДМЕТЫ НА РАССТОЯНИИ
Графиня Моттих была даже более известна, чем какой-нибудь
премьер-министр или
рейхсканцлер. Ибо, к вящему удовольствию любителей всяких лженаук, она
действительно умела передвигать небольшие предметы, не прикасаясь к ним.
Свои
первые успешные опыты она проделала под руководством некоего Удовича, по
старости своих лет без памяти в нее влюбленного. Кроме него, мало кто
был в
восторге от ее опытов. Те, кто верил в ее способности, испытывали на ее
сеансах
смертельный ужас. Одна мысль, что эта женщина способна останавливать
часы,
открывать и закрывать двери, не подходя к ним, и делать иные подобные
вещи,
повергала людей в священный трепет. Она же, напротив, была женщиной
вполне
практичной и, заработав на своих сеансах достаточно денег, покинула
старика,
чтобы выйти замуж за человека, которого любила. После этого таинственные
способности внезапно покинули ее, и домыслов, как и отчего это
произошло,
распространилось несметное количество.
Впрочем, с мужем она прожила недолго, бросив его со скандалом — и
способности
вернулись! Однако большинство из ее сенсационных трюков были лишь
повторением
все тех же опытов времен ее дикой, невежественной юности; теперь она
отваживалась лишь поднимать в воздух небольшие предметы наподобие
целлулоидных
шариков, не притрагиваясь к ним руками.
Все это объяснил Лизе Сирил, когда та спросила его, чем занимается
графиня. В
обществе считалось, что графиня не понимает по-английски, хотя та,
конечно,
знала этот язык не хуже остальных присутствующих.
— Она передвигает вещи, — повторил Сирил. — Берет какой-нибудь тонкий
волосок, пропускает между пальцами и дожидается, пока мы устанем следить
за
всеми ее хитростями. И тогда — о чудо! — шарик поднимается в воздух.
После
этого добропорядочные зрители уверяют друг друга, что получили блестящее
доказательство бессмертия души.
— Разве она не даст проверять себя? Ну, чтобы у нее не было в руках
никаких
волосков?
— А как же, конечно, дает! Но у проверяющих — столько же шансов, сколько
у
глухого, которому предложили обнаружить фальшь в игре Казальса. Если у
нее не
будет волоска, она вытянет нитку из своего чулка, из платья или еще
откуда-
нибудь; если же наблюдатели будут слишком дотошны, она объявит, что
«сегодня
силы покинули её», но не раньше, чем измотает всех своими капризами и
надеждами
на то, что представление все-таки состоится, причем, как я полагаю,
именно из
мести за такую излишнюю дотошность.
Грей произнес все это, сохраняя па лице уныло-скучающую мину. Было ясно,
что все
это давно вызывает у него одно отвращение. Однако его беспокойство
объяснялось
не только этим. Лиза чувствовала, что Сирил испытывает страх, хотя и не
решалась
спросить его об этом. Поэтому она вернулась к прежней теме:
— А с покойниками она общается?
— Сейчас этим вообще мало кто занимается. Возможностей подтасовки
слишком
много, а богатые дураки как класс уже перестали этим интересоваться.
Лишь
несколько псевдоученых вроде Ломброзо продолжают тешить свое самолюбие
этими
играми, надеясь стать Ньютонами новой эпохи. Однако учености у них не
хватает,
чтобы исследовать эти вещи по-настоящему.
— А вы сами никогда не пробовали этим заниматься?
— О нет! Я лучше предпочту вашу полновесную приятельницу с ее «большим
домом» и «письмом о предстоящей поездке».
— Вы хотите сказать, что все это — сплошной обман?
-- Не знаю. Тут трудно что-либо доказать, как обман, так и истину.
Однако бремя
доказательства все равно возлагается на спиритов, и мне известны только
два
случая, действительно заслуживающие внимания: это миссис Пайпер, которая
никогда не гналась за сенсациями, и Евзапия Палладино.
— А, это та, которая некоторое время назад выступала в Америке, —
вспомнила
девушка, — но я думала, что это всего лишь очередная утка газет Херста.
— Херст — это американский Нортклифф, — заметил в ответ Сирил, мельком
взглянув на пашу, и добавил, не дрогнув ни единым мускулом: — Разницы
между
ними нет никакой.
— Боюсь, что я не знаю, кто такой Нортклифф, — пожал плечами Акбар.
— О, Нортклифф — это Хармсворт, — ответил Сирил таким тоном, как говорят
с
несмышленым ребенком.
— А кто такой Хармсворт? — спросил турок. Молодой маг ответил
безразлично:
— Никто.
— Никто? — удивился Акбар. — Как это понимать?
Сирил печально покачал головой:
— Его просто не существует.
Акбар-паша широко раскрыл глаза, точно увидев призрак. Это был один из
излюбленных фокусов Грея. Сначала он, неторопливо рассказывая что-то
чрезвычайно
серьезным тоном, завоевывал доверие собеседника, а потом при помощи
нескольких
изощренно-параноических замечаний доводил его до умопомрачения, не без
удовольствия наблюдая за мучительными попытками его разума разобраться
во всем
этом. Невинный диалог оборачивался кошмаром. Не исключено, что именно в
этом
Сирил видел главную цель любой беседы. Он продолжал по-прежнему
серьезным тоном,
со слегка преувеличенной улыбкой:
— Это всего лишь подтверждение известного положения метафизики, столь
блестяще сформулированного Шеллингом в его философии относительного, в
котором я
бы в данном случае особо выделил мысль о том, что восприятие
объективного как
реальности подразумевает представление об индивиде как о некоей tabula
rasa, и в
этом западное учение об Абсолюте целиком сходно с буддийской доктриной
Сакьядитхи. Если не верите, то прочтите Вагасанъи-самхиту в
«Упанишадах».
И он обернулся к Лизе с видом человека, наконец-то сумевшего всем все
объяснить.
— Так что вы были правы, защищая Евзапию Паллади
но. Думаю, мы навестим ее, когда приедем в Неаполь.
— Судя по всему, моя поездка в Неаполь — дело уже решенное?
— Решаю не я, решает учитель. Он вам все объяснит — постепенно. А пока
нам
придется проверить эту даму на предмет скрытых волосков — и трудное же
это будет
де
дело, вы только взгляните на ее черную гриву!
— Вы циник и язва, я вас ненавижу.
— Любишь меня, люби и мою собаку.
Тут Саймон Ифф решительным жестом вмешался в разговор и сам повел его.
Сирил же
неожиданно наклонился к Лизе и сказал негромко:
— «Сойдите же, о Мод, со мною в сад: уходит ночь, пора летучей мыши».
Он взял ее пол руку, и они вышли. После долгого поцелуя, по-прежнему
возбуждавшего каждый нерв в их телах, он обнял ее своими длинными руками
и
произнес:
— Вот что, девочка, я сейчас не могу объяснить тебе всего, но эти наши
гости
опасны в том числе и для тебя. А просто так взять и выгнать их тоже
нельзя.
Поэтому
прошу тебя: доверься нам и жди. Пока они не ушли, не приближайся к ним,
уходи
под любым предлогом. Можешь сделать вид, что у тебя истерический
припадок, и
упасть на пол, если они начнут приставать к тебе; но ни в коем случае не
позволяй им притронуться к тебе! Малейшая царапина может оказаться
смертельной.
Убедили Лизу даже не слова, а та серьезность, с которой они были
произнесены.
Наконец-то все стало на свои места. Он сказал, что любит ее, а его
сегодняшнее
поведение было всего лишь игрой, такой же, как этот смокинг и его бритая
голова.
Освободившись наконец от всех сомнений, ее любовь хлынула наружу, как
лучи
солнца при восходе из-за холодной громады скал в какой-нибудь горной
местности.
Вернувшись в студию, они обнаружили, что к сеансу уже все было готово.
Женщина-
медиум сидела за столом, двое мужчин расположились по обе стороны от
нее. Перед
ней, между рук, лежало несколько целлулоидных шариков, пара огрызков
карандашей
и еще несколько мелких предметов. Все они были тщательнейшим образом
проверены —
как если бы кто-то решил проверить хвост собаки, чтобы узнать, кусается
ли она.
История спиритизма — это история людей, тщательно замазывавших малейшие
щели в
стенах, но всегда забывавших хотя бы прикрыть дверь. Самому изощренному
писателю
вряд ли удалось бы описать ход подобного сеанса. Обычно считается, что
там
происходит нечто чрезвычайно волнующее и таинственное. И действительно,
есть
люди, готовые с таким же энтузиазмом, с каким они могут бодрствовать три
ночи
подряд, начать благодарить Создателя за ниспосланную им смерть часа за
два до
появления первых ее "признаков". А их настойчивые просьбы обратить самое
пристальное внимание на вещи, менее всего имеющие отношение к делу,
могут
довести до умопомрачения любое живое существо, чей интеллект хоть
немного
превышает интеллект улитки.
— Взгляните, как мы удачно расположились, — прошептал Сирил Лизе, когда
они оба
уселись на диван, к которому был пододвинут стол. — Все, что нам
известно, это
то, что-либо оба джентльмена, либо по крайней мере один из них находятся
в
сговоре с графиней Моттих. В том, что Саймон Ифф с нею не сговаривался,
я был
готов поклясться; однако в такой ситуации нельзя доверять даже родному
брату.
Видите, они задергивают шторы. Зачем? Чтобы «облегчить действие силы».
Но если
предполагается, что тут действует некая кинетическая сила, то как ей
может
помешать свет? Иногда говорят, что «свет мешает медиуму в его тонкой
работе» —
вероятно, точно так же, как недремлющее око полицейского мешает вору в
его
тонкой работе. Вот, слышите? Заговорили о «доказательствах», и опять
речь идет
только об условиях, в которых проходит представление; в том-то и фокус,
что они
бесконечно спорят об этих условиях, ни слова не говоря о «силах».
— А ей не мешает то, что мы разговариваем?
— Напротив, медиумы даже просят посетителей разговаривать. Убедившись,
что
мы увлеклись разговором, она не преминет воспользоваться этим, чтобы
проделать
самую опасную, самую сложную часть своего трюка. После этого она сама
привлечет
наше внимание, сказав, что «се сила пришла», и попросит следить за
своими
действиями, «чтобы не было обмана». Тут все насторожатся, как кошка
перед
мышиной норкой; однако даже самый тренированный человек может удерживать
себя в
таком состоянии не дольше трех минут. После этого его внимание ослабнет,
и тогда
она спокойно исполнит свой номер. Вот, послушайте!
Саймон Ифф оживленно обсуждал с пашой порядок расположения шести ног
тех, кто
сидел на той стороне стола. Если им удастся убедиться, что медиум не
подталкивает стол ногами, чтобы заставить шарики подпрыгивать, тогда
действительно можно будет задаться вопросом, какая именно сила поднимает
их в
воздух.
— Боже, какая скука! — простонал Сирил. Однако даже если бы он ничего не
сказал Лизе там, в саду, она бы почувствовала, что он лжет. Несмотря на
деланное
безразличие, он наблюдал за всем очень внимательно, и за его скучающим
тоном
слышались нотки скрытого беспокойства. Вряд ли предстоящий сеанс мог так
волновать его; в чем же было дело? Женщина-медиум издала стон.
Пожаловавшись,
что ей холодно, она начала извиваться всем телом; вдруг ее голова упала
на
стол. Это очевидно никого не удивило, потому что было частью
представления.
— Дайте мне вашу руку! — обратилась она к Лизе. — Я чувствую, что от вас
исходят флюиды симпатии.— И она не лгала, потому что не ощутить
природную
теплоту сердца девушки было невозможно. Та протянула было ей свою руку;
но ей
помешал Саймон Ифф.
— У вас может быть спрятанный волосок или нитка! — сказал он резко. —
Сирил,
зажгите свет!
Старый мистик принялся внимательно изучать ладони Лизы. Однако Сирил,
наблюдавший за ним, понимал, что тот преследовал совершенно иную цель.
— Я был в саду, когда вы проверяли графиню, — не громко произнес он. —
Чтобы
доказательство было полным, дайте я проверю ее руки.
Улыбка Саймона Иффа показала ему, что он на верном пути. Сирил в свою
очередь
взял ладони графини и проверил их очень тщательно. Никаких волосков на
них,
конечно, не было, да он и не искал их.
— Ногти слишком длинные, — заметил он наконец. — Под ними можно спрятать
все, что угодно. Нельзя ли их обрезать?
Паша бурно запротестовал.
— У нас нет права решать за благородную леди, какой маникюр ей делать! —
возмущенно заявил он. — Разве мы не можем доверять своим глазам?
Сирилу Грею без труда удавалось подстрелить на бегу рысь; однако он
ответил
печально:
— Я — нет, мой дорогой паша, у меня амблиопия. От табака. Эта
беспардонная
чушь вызвала у паши новый взрыв негодования.
— К тому же я согласен с Беркли, — продолжал Сирил развивать ту же тему,
хотя и на совершенно ином уровне, — который говорит, что при помощи глаз
мы все
равно не можем получить верного впечатления ни о чем, находящемся вне
нас.
Боюсь, что заставлю вас понапрасну потратить время, однако я никогда не
доверяю
тому, что вижу.
Та самоуверенная беззастенчивость, с которой Сирил произносил все это,
лишила
турка дара речи. Среди чужих или в моменты опасности он всегда надевал
на себя
непроницаемую броню британского аристократа. Грей был одним из
пассажиров
«Титаника», и за полторы секунды до исчезновения лайнера под водой он
обернулся
к соседу и спросил небрежным тоном: «Нам угрожает какая-то опасность?»
Полчаса спустя, когда их подобрала шлюпка и к нему вернулось сознание,
первыми
его
словами были:
— Последний раз я упал за борт на канале Байронз-Пул; это немного выше
Кембриджа, знаете ли — Кембридж, Англия.
И, не останавливаясь на этом, он пустился в описание своих тогдашних
приключений.
Закончив одну историю, он начинал другую, не обращая внимания на
царившую вокруг
суету, так что в конце концов все, бывшие в шлюпке, постепенно забыли об
Атлантике и перенеслись в солнечный майский Кембридж. Всех увлек этот
странный
репортаж с давно прошедшей студенческой регаты:
— На первой дистанции, до Диттона, мы шли первыми, до флажков оставалось
уже
всего ничего, но тут Хесус отжал нас в сторону, и они ка-ак припустят! А
за ними
впритык уже шла третья, Холл на руле, и наш старый Ти-Джей принялся
ругаться на
чем свет стоит, но все без толку. Тут мы вышли к Лонг-Ричу, Хэлу удалось
поддать
жару, и мы хотя бы догнали третью, как раз под железно дорожным мостом;
Кокс
заорал, как резаный, и тогда Хесус... — однако никому так и не довелось
узнать,
что произошло дальше с лидером этих славных гонок, так как Денбри вдруг
потерял
сознание и обнаружилось, что он истекает кровью из-за глубокой раны в
области
сердца. И этот-то человек теперь смертельно боялся царапины, которую
могли бы
нанести абсолютно чистые, полированные дамские ногти.
Турку ничего не оставалось, как сдаться:
— Хорошо, мистер Грей, если вы настаиваете, мы спросим благородную леди.
Он спросил, и та согласилась. Операция длилась недолго, и сеанс
продолжался.
Однако не прошло и нескольких минут, как леди пожаловалась на усталость:
— У меня ничего не получается, это бесполезно; пусть явится Бэби. Она
сделает все, что вы просите. Пожалуйста, подождите несколько минут.
Паша удовлетворенно кивнул.
— Это всегда так начинается, — объяснил он простодушно взиравшему на
него
Саймону. — Сейчас я загипнотизирую ее, и в ней пробудится ее вторая
личность.
— Это очень, очень любопытно, — согласился Саймон.
— И очень кстати: незадолго до вашего прихода мы как раз говорили с
мадам Ла
Джуффриа о раздвоении личности. Она еще никогда не видела ничего
подобного.
— О, ваше любопытство будет вполне удовлетворено, маркиза, — заверил ее
старый турок, — вы будете рады, что увидели это редкостное явление. Он
начал
водить руками надо лбом женщины-медиума; та, проделав несколько
судорожных
движений, постепенно замерла и впала в глубокий сон. Сирил притянул Лизу
к себе:
— Вот она, величайшая тайна магов! Старый трюк фокусников: прикинься
спящим,
чтобы усыпить бдительность зрителей. Об этом есть у Фрейзера в его книге
о
симпатической магии. Однако сей высокоученый доктор, vir praeclarus et
optimus,
как всегда, упускает самое важное. Недостаточно убедить себя в том, что
сидящая
перед тобой восковая фигура и есть та личность, которую нужно
заколдовать;
необходимо действительно создать невидимую связь между собой и нею. Вот
это —
действительно искусство, и немногие маги умеют это делать; именно об
этом
Фрейзер как раз ничего не пишет.
Внезапно графиня издала крик, за которым последовало несколько то ли
всхлипываний, то ли вздохов. Паша пояснил, что «все идет как надо» и что
«другая
личность» просыпается. Не успел он договорить, как леди соскользнула со
стула на
пол и разразилась долгими душераздирающими рыданиями. Мужчины отодвинули
стол,
чтобы облегчить путь этой новой личности. Личность проявила себя
подвижностью
рук, и ног, характерной для младенца, смехом и плачем, и судорожными
хватательными движениями. Когда она, открыв глаза, осознала, что ее
окружают
чужие люди, она принялась плакать: — Ма-ма! Ма-ма! Мама! Мама-а!
— Она зовет маму, — констатировал Акбар-паша. — Я не ожидал, что среди
нас
сегодня будет дама, но раз уж так получилось, может быть, мы попросим ее
сыграть
роль матери? Это могло бы значительно ускорить работу.
Лиза, к тому времени уже почти забывшая предостережения Сирила, готова
была
согласиться. Ее разбирало любопытство, и ей хотелось принять участие в
этом
спектакле, независимо от того, был ли он высоким таинством или дешевым
фарсом.
Однако тут опять вмешался Саймон Ифф.
— Мадам до сих пор никогда не участвовала в таких сеансах, — сообщил он;
при
этом Сирил бросил на нее строгий взгляд, которому она готова была
повиноваться,
хотя пока и не понимала, следует ли ей делать что-либо или нет. Ей
казалось, что
она попала в какую-то совершенно чужую страну, где случайному гостю не
оставалось ничего, кроме как стараться соблюдать местные обычаи и во
всем
доверять проводнику.
Между тем «Бэби» снова принялась плакать. Паша, очевидно ожидавший
этого, извлек
из кармана бутылочку с молоком и дал графине, которая удовлетворенно
прильнула к
ней.
— Что за глупцы были древние алхимики! — воскликнул Сирил, обращаясь к
своей
возлюбленной. — Ну что такое, в самом деле, все эти их Атханоры и
Кукурбиты,
Алембики, Красные Драконы, Мертвые Головы и Лунные Воды? Они и понятия
не имели,
что такое настоящий научный эксперимент.
Ни к чему было объяснять, какова была истинная причина этого резкого
выпада;
Лиза уже понимала, что серьезно вступать в подобные споры унизительно.
Внезапно «Бэби» отбросила бутылочку и подползла к целлулоидному шарику,
упавшему
со стола в то время, когда его двигали. Схватив шарик, она приняла
сидячее
положение и начала играть с ним.
Все происходило как бы скачками, без плавных переходов, и очередной
«скачок»
заставил Лизу вскрикнуть от неожиданности.
— Все это — лишь закономерный результат превращения взрослого человека в
ребенка, — холодно заметил Сирил, — хотя я не понимаю, почему
пробуждение
детской души во взрослом теле должно вступать в противоречие с
рефлексами
последнего. Хотя в данном случае объяснением может служить тот факт, что
благородная леди воспитывалась в трущобах австро-венгерского Будапешта;
в девять
лет она сделалась проституткой и очень скоро поняла все выгоды своего
положения.
Она скоро научилась использовать тот снисходительный интерес, которые
посторонние испытывали к ее способностям; единственное, что ей мешает —
это
черная зависть к людям более благополучным, из-за которой она не видит,
что все
ее потуги — не более чем грязь на наших каблуках. Несмотря на годы
упражнения в
искусстве не понимать по-английски, «Бэби» не смогла сдержать резкого
движения.
Ибо важнее всего для нее был престиж, которым она пользовалась в
обществе. Ей
было даже страшно подумать, что когда-нибудь он рухнет. Да пусть
разоблачат хоть
тысячу ее «представлений» — это не беспокоило ее вовсе; но за свое
реноме
графини она боялась. Ей было уже за тридцать пять — с поисками богатого
и
глупого жениха следовало торопиться. В настоящее время она очень
рассчитывала на
пашу; поэтому она и согласилась на некоторые его предложения, связанные
с этим
сеансом, в надежде как следует прибрать его к рукам.
Паша извинился за нее перед Саймоном Иффом: _ В таком состоянии она не
сознает,
что делает. А потом ничего не помнит. Прошу вас подождать еще немного,
она скоро
придет в себя.
Вскоре именно так и произошло. Сначала она подползла к паше, и тот с
глубокомысленным видом извлек из кармана куколку и дал ей. Потом она на
коленях
двинулась к Лизе, то плача, то причитая о чем-то и изображая существо
смертельно
испуганное. Однако на этот раз Лиза не стала вслушиваться в ее
причитания; ей
было душно, и у нее не было сил скрывать свои истинные чувства. Грубо
отдернув
подол юбки, она перешла на другую сторону комнаты. Паша с чисто
восточным
апломбом стал было возражать, но тут женщина-медиум достигла своей
следующей и
последней стадии. Она подошла к паше, уселась к нему на колени и
принялась
целовать и поглаживать, всячески выражая свою любовь к нему.
— Вот лучший номер всего представления! — не удержался Сирил. —
Безошибочно
действует на всех мужчин, по крайней мере на многих; уследить за
чем-либо те уже
не в состоянии, и вот тут-то она и проделывает свои главные трюки.
Мужчины же
потом искренне уверяют, что их внимание не ослабевало ни на секунду.
Точно так
же она дурачила Удовича: он был человек весьма пожилой, и она убедила
его, что
он вовсе не так стар, как ему кажется — о великий Гарри Лодер! Да тут и
игры
никакой не надо: в такой ситуации любой мужчина поклянется чем угодно,
хоть
собственной репутацией, что она — великий медиум!
— Конечно, в этом есть некоторая неловкость, — произнес паша с некоторым
смущением, — особенно для меня как для магометанина; однако ради науки
нам нужно
довести опыт до конца. Через пару минут она снова сможет общаться с
нами.
И действительно, вскоре она превратилась в личность номер три, изящную
молодую
француженку по имени Аннет, горничную жены какого-то еврея-банкира.
Церемонно-
манерно она подошла к столу — очевидно, чтобы подать госпоже завтрак, —
но вдруг затряслась всем телом, упала на стул и, претерпев краткую
душевную
борьбу, вновь превратилась в «Бэби».
— Уходи, Аннет, ты плохая, плохая! — таков был смысл ее раздраженного
монолога, продолжавшегося несколько минут. Потом ее внимание привлекли
мелкие
предметы, вновь разложенные пашой на столе, и она целиком отдалась игре
с ними,
как это делают маленькие дети.
— Теперь желательно потушить свет! — объявил паша. Сирил не возражал, и
паша
продолжил: — В таком состоянии свет причиняет ей боль и может быть
опасным.
Однажды она целый месяц пролежала без сознания — из-за того, что кто-то
неожиданно зажег свет. "Не беспокойтесь, наш контроль от этого слабее не
станет.
Он взял плотный шелковый платок и завязал даме глаза. Затем, осветив
стол
карманным фонариком, закатал ей рукава выше локтя и закрепил их. Потом
буквально
сантиметр за сантиметром ощупал ее руки, раскрывая и разгибая пальцы,
проверил
ногти, короче — сделал все, чтобы показать: никакого обмана нет.
— Нет, — прошептал Сирил, — это не приготовления к научному опыту, это —
приготовления к самому заурядному фокусу. Такова психология всех
балаганных
трюков. Идея не моя, это слова учителя.
Тем не менее внимание Лизы Ла Джуффриа почти против воли оказалось
приковано к
беспокойным пальцам женщины-медиума. Пальцы двигались, вращались, выводя
в
воздухе хитроумные узоры; в их непонятном танце над хрупким шариком и в
самом
деле было нечто завораживающее.
Вдруг медиум резким движением убрала пальцы; в тот же миг шарик
подскочил в
воздух
сантиметров на десять-пятнадцать. Турок просиял.
— Весьма убедительно, не правда ли, сэр? — обратился он к Саймону.
— О, вполне, — согласился старый джентльмен; однако это было сказано
так,
что всякий, кто знал его, услышал бы невысказанное: «Смотря в ЧЕМ мы
хотели
убедиться». Однако Акбар остался доволен. Проформы ради он снова зажег
фонарик и
проверил пальцы дамы; никаких волосков на них, конечно, не обнаружилось.
С этого момента чудеса пошли чередой. Предметы на столе двигались,
прыгали и
плясали, как осенняя листва на ветру. Это продолжалось минут десять во
все более
возрастающем темпе
.— Какие быстрые, резкие движения! — воскликнула Лиза.
Сирил задумчиво поправил монокль:
— Тогда уж скорее «хронические, если подбирать к ним подходящий эпитет.
Лиза
взглянула на него с недоумением; карандаши и шарики в это время
продолжали
сыпаться на стол, точно град.
— Доктор Джонсон как-то заметил, что при виде говорящей лошадиной головы
или
чего-нибудь в этом роде не стоит относиться к этому слишком критически,
—
пояснил он с усталым видом. — То, что фокус получился — уже чудо. Я бы
даже
добавил, что чудо как вид искусства вообще предполагает однократность
исполнения; чудеса, вошедшие в привычку, на мой взгляд, противоречат
представлениям позднего Джона-Стюарта Милля о свободе.
Лиза снова почувствовала себя дервишем, закруженным теми странными
поворотами,
которые приобретала речь ее возлюбленного.
Моне-Кнотт рассказывал ей в Лондоне о комичном случае, произошедшем с
Сирилом в
поезде, на станции Кэннор-Стрит: когда начальник поезда шел по вагонам,
крича:
«Вторая смена!», тот выскочил ему навстречу с распростертыми объятиями и
приветствовал его как буддийского миссионера — на том лишь основании,
что одним
из постулатов буддийского учения считается вечная смена и перемена всего
сущего.
Не зная изначально, о чем Сирил собирается говорить, понять это из его
слов было
практически невозможно. Никогда нельзя было сказать с уверенностью,
шутит ли он
или говорит серьезно.
Он облекал свою иронию в кристально-твердое, холодное, жесткое излучение
того
благородного черного льда, который можно найти лишь в глубочайших горных
расщелинах; в клубах о нем говорили, что он знает семьдесят семь
способов
высказать человеку в лицо то, что лишь меднолобые торговки рыбой с
Биллингсгейта
осмеливаются называть прямо, причем именно тогда, когда бедная жертва не
ожидает
ничего кроме салонного комплимента.
К счастью, его общедоступная сторона личности была не менее блестящей. В
конце
концов, это не кто иной, как он однажды явился к Линкольну Беннету,
шляпных дел
мастеру Ее Величества, унаследовавшему этот титул от мастера по
изготовлению
вышедших из моды рыцарских шлемов, и потребовал немедленной встречи для
переговоров по личному, но чрезвычайно важному делу; когда же тот,
отложив всю
работу, чрезвычайно вежливо принял нахального гостя, он с величайшей
серьезностью осведомился:
— Сэр, могу я заказать у вас шляпу?
Загадочный характер этого человека не переставал волновать Лизу. Ей
хотелось бы
перестать любить его, бежать как можно скорее прочь, однако при этом она
отдавала себе отчет в том, что это ее желание продиктовано лишь
неуверенностью в
своей способности действительно обладать Сирилом. Поэтому она снова
решила
сделать все возможное и невозможное, чтобы заставить его принадлежать ей
и
только ей. От Моне-Кнотта она слышала о нем и другую историю,
обескуражившую ее
гораздо сильнее. Как-то раз Сирил отправился покупать себе трость,
такую,
которая подходила бы к его вкусам. Он долго искал ее и, найдя, на
радостях
пригласил друзей И соседей на обед в «Карлтоне». Пообедав, он с двумя
друзьями
отправился на прогулку по Пэлл-Мэлл — и обнаружил, что забыл трость в
ресторане.
«Какая незадача», — высказался он по этому поводу, и на этом все
закончилось. До
ресторана было рукой подать, и тем не менее он не сделал ни шагу. Лиза
предпочла
перейти к размышлениям о других сторонах его характера — тем, которые
проявились
при гибели «Титаника», и другим, когда он с отрядом альпинистов был в
Гималаях,
и они побоялись последовать за ним по крутому склону, потому что слишком
велика
была возможность сорваться; и он-таки сорвался и заскользил вниз, и лишь
случай
остановил его лишь в каком-то ярде от пропасти. Однако после этого
остальные
пошли за ним, и Лиза чувствовала, что тоже пошла бы — о да, она пошла бы
за ним
хоть на край света.
Погруженная в свои размышления, Лиза даже не заметила, что сеанс
окончился.
Женщина-медиум впала, судя по всему, в глубокий сон, чтобы вернуться к
своей
личности номер один. И, когда остальные участники начали подниматься
из-за
стола, Лиза машинально поднялась вместе с ними.
Нога Акбар-паши запуталась в медвежьей шкуре, и он пошатнулся. Лиза
хотела было
протянуть ему руку, но молодой маг реагировал быстрее. Подхватив турка
под руку,
он поставил его на ноги; в тот же миг она почувствовала, что другой
рукой он
толкает ее в бедро, и с такой поспешностью убрала прочь свою руку, что
не чаяла
удержаться на ногах. Сирил в это время, продолжая поддерживать пашу, со
всей
возможной любезностью осведомился, нельзя ли ему поближе рассмотреть его
прекрасное кольцо с печаткой.
— Феноменально! — сказал он, — однако не находите ли вы, что края у него
слишком
остры? Ведь эдак можно и порезаться, если сделать рукой хотя бы вот так.
— И он
сделал быстрое движение ладонью. - Видите? — спросил он, показывая паше
свою
ладонь, на которой выступили крупные капли крови.
Турок взглянул на него, помрачнев внезапно без всякой видимой причины —
во
всяком случае, Лиза не могла отгадать, почему. Сирил ведь объяснял ей,
что любая
царапина, нанесенная этими людьми, может оказаться смертельной; почему
же он сам
дал им нанести себе ее? Между тем он продолжал обмениваться с пашой
какими-то
ничего не значащими репликами, а кровь капала с его руки на ковер;
повинуясь
какому-то шестому чувству, Лиза достала платок и перевязала ладонь
Сирила.
Очнулась графиня, принявшись укутываться в свою меховую накидку; почти
сразу же
она почувствовала себя больной.
— Я не могу выносить вида крови, — простонала она и прилегла на диван.
Саймон Ифф поднес ей рюмку коньяку.
— Спасибо, теперь я чувствую себя значительно лучше, — произнесла
графиня
уже бодрым голосом, — Лиза, дорогая, подайте мне мою шляпку!
— Ни в коем случае, мадам! — воскликнул Сирил, изображая пылкого
любовника,
и подал шляпку сам.
Гости собрались уходить. Турок продолжал разглагольствовать о том, как
успешно
прошел сегодняшний сеанс.
— Все было просто великолепно! — восклицал он. — Это был один из лучших
сеансов, в которых я имел счастье участвовать!
— Я рад за вас, паша, — произнес Сирил Грей, открывая дверь. — В самом
деле,
ведь это такая игра, в которой чрезвычайно трудно определить победителя
— или я
не прав?
Лиза с удивлением заметила, что это последнее замечание подействовало на
уходящих гостей как удар бича.
Когда дверь наконец закрылась, она оглянулась и с еще большим удивлением
увидела, что Саймон Ифф рухнул на диван, по-видимому, совершенно
обессиленный,
судорожно стирая пот со лба. За спиной она услышала вздох своего
возлюбленного,
такой тяжелый, как если бы он только что вынырнул со многофутовой
глубины.
Только теперь она поняла, что была не свидетельницей простого
оккультного
сеанса, а участницей магической битвы не на жизнь, а на смерть. Только
теперь
она ощутила силу флюидов, которые были направлены на нее все это время —
и, не
выдержав напряжения, разрыдалась.
Сирил Грей склонился к ней с бледной улыбкой и начал гладить ее лицо,
волосы,
руки, слизывая набегающие слезы; его сильные руки легко подняли се тело
и унесли
прочь от всех этих треволнений.
Глава IV
НАКОНЕЦ-ТО ОБЕД -ПЛЮС ДОЛГОЖДАННЫЕ
ОБЪЯСНЕНИЯ, ЧТО ТАКОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Честно говоря, я очень проголодался! — признался Саймон Ифф. Сирил
поцеловал
Лизу в губы и, взяв ее под руку, подошел с нею к буфету. — Теперь ты
хозяйка, —
сказал он просто. Он отбросил всякую игру, и Лиза увидела простого,
мужественного и честного человека, научившегося быть воином, готовым как
к
наступлению, так и к обороне. Она вдруг ощутила странную душевную боль,
и в то
же время это было удивительное чувство высоты. Она почувствовала, что
была для
него не только возлюбленной; он признал в ней друга. Их объединял не
только
секс, могущий послужить лишь поводом для дуэли; он мог бы прекратить
общаться с
ней таким образом, однако дружба между ними сохранилась бы, как если бы
она тоже
была мужчиной. И тут ее пронзила мысль: неужели он никогда не вернется в
то
состояние, о котором так мечтало все ее тело, не говоря уже о душе?
Она вспомнила историю о «суде Париса», которую ей рассказывали.
Несколько лет
назад в него были одновременно влюблены три женщины. Каждая из них
полагала, что
он принадлежит только ей. Обнаружив существование соперниц — он не давал
себе
труда сохранять строгую конспирацию, — они нашли в себе силы сговориться
друг с
другом и вызвать его на откровенный разговор. Сойдясь вместе в его
студии, они
потребовали от него решиться в пользу одной из них. Прежде, чем дать
ответ, он
выкурил целую трубку. Затем он зашел к себе в спальню и вынес оттуда
пару
дырявых носков: — «Симон, сын Иуды, любишь ли ты Меня? — О да, Господи,
Ты
знаешь, что я люблю Тебя»; тогда заштопай мне
носки! — произнес он высокомерно, ничтоже сумняся искажая евангельский
текст, и
бросил свои носки той, которую любил больше всех.
Предложение накрыть стол Лиза поначалу поняла буквально, то есть, что
нужно
достать скатерть. Она вспомнила, что первыми словами Кундри после
освобождения
были: «Служить! Служить!»
• Однако, открыв буфет, она не удержалась от радостного возгласа: — Так
вот
как вы соблюдаете пост!
Она увидела блюдо с великолепным салатом из омаров, вполне приличных
размеров
вазу с черной икрой на льду, и другую, с паштетом «фоле-гра», который
разрезают
нагретой в кипятке ложкой — единственным способом, позволяющим
действительно
ощутить его вкус. На одной из верхних полок громоздилась целая пирамида
бекасов,
рядом с которыми находилась приготовленная для них большая сковородка, а
за ней
виднелась корзина с чудесными сливами и виноградом, блиставшими красотой
подобно
добродетельной жене, ценимой, как известно, выше рубинов, и стояли
батареи
бутылок — отличное рейнское из погребов самого князя Меттерниха,
бургундское, да
не какое-нибудь, а «Шамбертен», способный поднять на ноги и мертвого,
нисколько
не утратив от этого своей крепости; токайское самого лучшего сорта и
даже
коньяк, на этикетке которого значилось «1865» и, что удивительнее всего,
это
была правда, то есть такая редкость, как грамм радия в урановой смолке.
Саймон Ифф решил оправдаться за то, что сначала был так негостеприимен:
— Акбар-паше нужна была кровь, хоть одна капелька вашей крови, моя
дорогая;
Сирил и я не подвержены его влиянию — вы сами видели, что с нами он не
особенно
Церемонился. Поэтому я и потчевал его одним соленым.
— Но зачем ему моя кровь? И почему соленым?
— Приняв в чужом доме соль или соленое, он до некоторой степени
утрачивает
способность вредить ему или его обитателям; это делает его уязвимым для
ответного удара. О крови же вопрос особый и очень серьезный. К
несчастью, паша
теперь знает, где вы находитесь и наверняка догадывается, чего хотим от
вас мы.
Поэтому он хочет подчинить вас своей воле, чтобы вы выполняли его
приказания;
мы же хотим лишь, чтобы вы оставались свободны и действовали по своей
собственной воле. Вы в любой момент можете просто уехать и вернуться к
прежней
жизни. Не обижайтесь за меня на эти слова; я достаточно узнал вас, чтобы
понять,
с каким презрением вы отнеслись бы к подобному предложению. И, хотя вы
до сих
пор еще не знаете, какая роль вам предназначена, вы заранее готовы
принять ее,
причем с удовольствием, и охотно дадите вовлечь себя в любые
приключения.
— Такому психологу, как вы, мне просто нечего возразить, — улыбнулась
Лиза.
— Конечно, я отказалась бы уехать. И мне ужасно хочется очертя голову
броситься
в эту тайну, покрытую мраком, хотя, когда в сердце горит свет любви,
никакой
мрак не страшен.
— Будьте поосторожнее с этой вашей любовью! — проворчал старый маг. —
«Свет
любви» — это всего лишь блуждающий огонек на болоте или, хуже того, на
кладбище,
жалкий пузырек ядовитого газа. У нас в Ордене говорят: «Любовь — вот
Закон, та
любовь, которой ты хочешь». Первое и главное — знать, чего хочешь.
Укрепите вашу
любовь на этой мачте, и тогда у вас будет настоящий маяк, который не
даст
кораблю сбиться с пути в гавань.
— А меня, — произнес Сирил, когда они уселись за стол, — прости за то,
что я
тогда бросил тебя из-за ужина с этой мисс Бэджер. Просто я дал ей слово,
поэтому помешать мне могла бы только физическая немочь. Идти к ней мне
хотелось
не более, чем идти топиться. Можешь считать это комплиментом в свой
адрес,
потому что мисс Бэджер — одна из двух самых очаровательных девушек
Лондона;
однако я не побоялся бы тысяч)' раз взглянуть в лицо смерти, чтобы
сдержать свое
слово.
— Стоит ли проявлять такую строгость в мелочах?
— Держать свое слово — не мелочь. Тот, кто оказался ненадежен в чем-то
одном, будет ненадежен во всем. Пойми, что это сильно облегчает мне
жизнь: я
никогда не раздумываю, стоит ли мне выполнять свое решение.
Раз оно принято, я просто выполняю его, сводя все свои действия к
единому
знаменателю — своей собственной воле. Да и тебе это облегчит жизнь, если
ты
будешь знать, что, пообещав что-то, я непременно это сделаю.
— Это-то я понимаю. Но если бы ты знал, Сирил, как я мучилась тогда, в
тот
вечер!
— Это от незнания, — сообщил Саймон Ифф. — Незнание — причина всех
страданий. Вы не знали, что ему можно верить, и что точно так же, как он
сдержал
свое слово, данное этой мисс Бэджер по поводу ужина с нею, он сдержит и
данное
вам — насчет звонка.
— Лучше расскажите мне об этой вашей битве. Я чувствую себя как на поле
сражения, но до сих пор не понимаю, что происходит.
— Извините меня, дитя мое, но есть тайны, открыть которые мы можем лишь
лицам, достигшим определенной ступени посвящения, — произнес Ифф с
напускной
важностью. — Нет, конечно, вы все узнаете, но для этого нам сначала
придется
объяснить вам, что мы собираемся делать и зачем. Тогда вы поймете и то,
почему
некоторые люди пытаются угрожать нам. А задача у нас, прямо скажем,
непростая.
Поэтому начнем с четвертого измерения...
— О Боже!
— ...Но, наверное, все-таки после обеда. А пока выберем для беседы тему
полегче. И они заговорили о вещах житейских. Б самом деле, почему бы
Лизе теперь
не поселиться у Сирила? Достаточно лишь позвонить горничной и велеть ей
собрать
и привезти сюда вещи. Лиза предложила это, узнав, что Сирил намерен
завтра же
уехать вместе с ней из Парижа. Однако Саймон Ифф возразил:
— Втягивать в это дело еще и горничную было бы просто непорядочно с
нашей
стороны. Кстати, — обернулся он к Сирилу, — мы забыли о ней, а битва-то
ведется
всерьез! Вдруг она уже пострадала?
— Да, — согласился Сирил. — Чтобы ее найти, им не понадобится и суток.
Давайте проверим: позвони ей, Лиза, и просто сообщи, что не придешь
ночевать. И
попроси ее ничего не предпринимать без твоих указаний.
Лиза подошла к телефону. Однако вместо ее номера ее соединили с
управляющим
отеля.
— Я очень сожалею, мадам, но с вашей горничной случился эпилептический
припадок. Да-да, вскоре после вашего ухода. Лиза была так поражена, что
не
смогла ничего ответить. Трубка выпала из ее руки. Сирил немедленно
подхватил ее
и сказал управляющему, что мадам от волнения не может говорить; она
перезвонит
ему позже.
Лиза повторила вслух слова управляющего.
— Я ожидал чего-то в этом роде, — признался Сирил.
— А я нет, — огорчился старый маг, — и это вселяет в меня опасения. В
отличие от вас, мой юный друг, я не люблю угадывать, ибо считаю, что
шансов тут
столько же, сколько при игре в рулетку. Я лишь делаю выводы из того, что
знаю.
То, что я ошибся, говорит о том, что я чего-то недоучел — это-то меня и
беспокоит. Хотя в том, что нам следует как можно скорее уехать отсюда в
безопасное место, сомнений быть не может. Точнее, это вам следует
уехать: я
остаюсь, чтобы выяснить, что — или кто? — кроется за всем этим.
Акбар-паша
слишком глуп и невежествен, чтобы самостоятельно затеять такое.
— Вы правы, я угадал, — смущенно сознался Сирил. — Нет, на самом деле
все
еще хуже: обдумывая наш проект, я позволил себе слишком много эмоций, и
мое
разросшееся Эго вышло за пределы этого дома.
— Ну расскажи же мне об этом проекте! — вскричала Лиза. — Разве ты не
видишь, что я сгораю от нетерпения?
— Да, в этих стенах вы можете чувствовать себя в безопасности, —
задумчиво
начал Саймон Ифф, — по крайней мере, пока враг не переступил порога.
Сегодня же
ночью мы отвезем вас в безопасное место. Все начнется завтра. Сегодня же
я кое-
что расскажу вам о нашем проекте. Но, прежде чем мы начнем, я попрошу
вас дать
одну клятву. А вы. естественно, должны будете узнать, зачем она и что
она
означает.
— Я согласна.
— Попробую объяснить все как можно проще. Ум у вас гибкий, так что,
думаю,
вы вполне сумеете понять меня. Вот, взгляните: я беру карандаш и бумагу
и рисую
точку. Она неподвижна, и у нее нет никакой длины. Математик сказал бы,
что она
не имеет протяженности ни в каком измерений. Теперь я нарисую прямую
линию. У
нее есть длина: линия имеет протяженность в одном измерении. Теперь
проведем еще
одну линию, пересекающую первую под прямым углом. Получившаяся фигура
имеет
протяженность в двух измерениях.
— А, понимаю. Если нарисовать еще одну линию, то получатся три
измерения.
— Не спешите. Третья линия как раз ничего не даст: чтобы определить
положение точки на листе бумаги, вполне достаточно двух линий. Вот,
нарисуйте-ка
мне еще одну точку.
Лиза повиновалась.
— Смотрите: от вашей точки я провожу одну линию под прямым углом к моей
первой... и другую — под прямым углом ко второй. Теперь я могу сказать,
что ваша
точка отстоит от моей на столько-то шагов к востоку и настолько-то — к
северу.
— А если поставить точку не на бумаге, а в воздухе?
— Правильно! Тогда-то нам и понадобится третья линия, вертикальная, под
прямым углом к двум первым. У такой точки будет уже три измерения:
столько-то
шагов к востоку, столько-то к югу и еще сколько-то в высоту.
— Я понимаю.
— Хорошо. Теперь подойдем к этому с другой стороны. Вот у нас есть
точка, у
которой нет ни длины, ни ширины, ни высоты: ноль измерений.
Вот линия, у которой есть длина, но нет ширины и высоты: одно измерение.
Вот
плоскость, /нее есть длина и ширина, но нет высоты или толщины: два
измерения.
Вот тело — длина, ширина, толщина, три измерения. •
— Да, но вы говорили о четвертом.
— Скоро я к нему перейду. Но давайте сначала поработаем с двумя. Видите,
я
нарисовал треугольник. Все три его стороны равны. Теперь я проведу еще
одну
линию — из одного угла к середине противоположной стороны..!
Получилось два треугольника. Как видите, они равны между собой —
величина у них
одинаковая, форма тоже, Но они зеркальны. А теперь я их разрежу. Маг
взял
ножницы и проделал эту несложную операцию.
— Попробуйте совместить оба треугольника!
Лиза попробовала, у нее не получилось; тогда она, рассмеявшись,
перевернула один
из
треугольников.
— Э-э, вы жульничаете! Я сказал «совместить», а не «перевернуть». Хотя
решение, которое вы нашли, воистину божественно! Вы перенесли предмет,
несовместимый со своим отражением, из его двух измерений в третье, а
потом
вернули обратно, и все получилось как нельзя лучше!
Теперь — следующее. Все, что есть в нашем мире, я имею в виду все
материальное,
существует в трех измерениях. На самом деле и у точек, и у линий, и у
поверхностей есть хотя бы маленькая протяженность во всех этих
измерениях, иначе
они были бы просто плодом нашего воображения. Например, поверхность воды
— это
всего лишь граница между водой и воздухом.
А теперь я объясню, откуда взялось представление О еще одном измерении.
У этих
треугольников, таких похожих и непохожих один на другой, есть аналоги в
нашем
материальном мире. Так, существует два вида сахара, одинаковые во всем,
кроме
одной детали. Вы знаете, как призма преломляет свет? Так вот, если взять
полую;
призму, наполнить ее раствором одного из этих двух видов сахара и
пропустить
через неё луч света, то она отклонит его вправо; наполненная же
раствором
другого вида, она отклонит его влево. Химия знает немало подобных
примеров.
Возьмите, наконец, наши руки и ноги: как бы мы их ни перемещали, мы не
сможем
заставить их занять одинаковое место в пространстве. Правая рука
останется
правой, как бы мы ее ни крутили. Она может стать левой лишь в зеркале —
кстати,
вот почему зеркало служит символом отражения в самом высшем смысле
слова,
заметьте это себе на будущее! Всегда помните, что существует мир, где
левое и
правое поменялись бы местами — если бы нам удалось туда проникнуть.
— Вряд ли нам это удастся.
— Да, но не будем отклоняться от темы. Достаточно того, что такой мир
может
существовать. Мало того: мы должны попытаться найти причину, по которой
он
должен существовать. Правда, эта причина глубоко скрыта; по все же
попробуйте
понять, в чем она заключается. Лиза кивнула.
— Мы знаем, что планеты движутся по определенным орбитам... э-э... в
определенной мере определенным, и знаем также, что они подчиняются тем
же
законам, которые заставили упасть на землю Ньютоново яблоко. Однако
Ньютон сам
не мог объяснить этого закона, сказав лишь, что не способен представить
себе
силу, действующую на таких огромных расстояниях, как это очевидно
удается так
называемой гравитации. Наука долго не могла разрешить эту загадку; в
конце
концов была изобретена некая субстанция, которую назвали эфиром.
Доказательств
его существования не было никаких, за исключением одного: он должен
существовать! Однако у эфира оказалось столько взаимоисключающих и
вообще
невероятных свойств, что людям пришлось искать другую разгадку. И они
нашли ее,
предположив, что Вселенная расширяется, незаметно, но повсеместно
переходя в
четвертое измерение, чем и объясняется действие указанного закона.
Я понимаю, что это трудно себе представить; попробуем объяснить иначе.
Возьмите
этот кубик. Видите, в этой точке сходятся три линии, обозначающие три
его
измерения. Сама точка — ничто, но она часть этих линий. Чтобы
представить ее
себе как некую реальность, нам придется признать, что она все-таки
немножко
«расширяется» в каждом из этих трех направлений. Теперь возьмем линию —
она тоже
некоторым образом «расширяется» в сторону обеих образующих ее
плоскостей.
Возьмем поверхность; то, что она часть куба, очевидно.
А теперь давайте сделаем еще один шаг. Представьте себе, что этот кубик
находится в таком же отношении к некоему предмету, в каком плоскость
находится к
кубу. Трудно? согласен; представить себе подобную картину невозможно. Но
можно
принять это как идею и, привыкнув к ней, обдумав ее со всех сторон,
человек
может приблизиться к пониманию ее сути. Я больше не буду мучить вас
этими сухими
теоретическими рассуждениями; скажу лишь, что идея четвертого измерения
объясняет не только закон гравитации и некоторые другие законы, но и то,
почему
существует лишь очень ограниченное и вполне определенное число объектов,
из
которых формируются все другие. Перейдем от слов к делу. Пусть брат
Сирил,
который был настолько любезен, что дал нам поиграть своим кубиком, не
поленится
принести нам также конус... и миску воды.
Брат Сирил немедленно исполнил его просьбу.
— Я хочу, чтобы вы поняли, — продолжал старый джентльмен, — что все
разговоры о
«прогрессе науки» — лишь пустая болтовня журналистов. Этот «прогресс»
состоит
главным образом в том, что люди используют науку — все равно как если бы
человек, едущий электропоездом, стал утверждать, что ставит эксперименты
с
электричеством. Возьмите Эдисона или Маркони: их называют «людьми
науки», однако
разве они что-то изобрели?
открыли? И тот, и другой всего лишь научились использовать давно
известные вещи.
Истинные люди науки согласны в том, что прогресс нашего сознания, как бы
велик
он ни был, по-прежнему оставляет нас в безвестности относительно
важнейших
законов бытия и реальности, как и десять тысяч лет назад. Вселенная
хранит свои
тайны, и Изида и сейчас еще может сказать, что ни один смертный не
поднимал ее
покрывала!
Почему, спросите вы? Возможно, потому, что мы умеем рассматривать лишь
отдельные
кусочки этой реальности, не складывая их в целое, и самые простые вещи
кажутся
нам безнадежно запутанными. Сирил, вы готовы?
— В общем, да.
— Начинаем! И, А, А, У, И, А.
— -Р, Ф,Ж,Д, Л, 3,Л.
— Итак, что же мы сказали?
Лиза рассмеялась, не стараясь даже скрыть своего смущения. Она
чувствовала, что
этот странный урок скоро расставит все по своим местам.
— Мы всего лишь произнесли ваше имя, моя дорогая! Сирил, давайте конус.
Взяв
конус в руки, Саймон Ифф поднес его близко к поверхности воды в миске.
— Предположим, что этот очень простой предмет искренне намерен объяснить
свою сущность воде в миске, поверхность которой мы наделим такими же
способностями восприятия, какими обладаем сами. Все, что конус может
сделать,
это дать воде ощутить себя, а для этого он должен коснуться ее
поверхности.
Сначала он погружает в нее свой кончик. Вода воспринимает его как точку.
Конус
продолжает опускаться. Вода «видит» круг на том месте, где только что
была
точка. Конус погружается дальше. Круг становится все шире и шире... Вот
конус
погружается весь — и «исчезает»!
Итак, что же узнала вода?
Практически ничего — о том, что такое конус. Если бы что-то побудило ее
предположить, что один и тот же предмет может являться ей в разных
формах, если
бы она сопоставила порядок и размеры появления кругов на ее поверхности
и т.п.,
иными словами, если бы вода попробовала применить «научный метод», то и
тогда ей
не удалось бы создать теорию конуса, потому что любое твердое тело для
нее —
вещь такая же немыслимая, как для нас — четырехмерное тело.
Дадим конусу сделать еще одну попытку.
Теперь будем погружать его косо. Вода при этом столкнется с целым рядом
совершенно новых феноменов, ведь на этот раз она «видит» не круги, а
овалы.
Погружая конус под разными углами, мы будем показывать воде разные
странные
кривые, называемые параболами или гиперболами. Если вода и дальше будет
пытаться
свести все эти феномены к одной-единственной причине, у нее наверняка
зайдет ум
за разум!
Возможно, она попробует создать новую геометрию — подобно тем, которые
уже
существуют у нас, — и уж наверняка сложит немало поэтичных легенд о
Творце,
создающем в своей Вселенной столь красивые и совершенные вещи. Напрягши
свою
фантазию, она придумала бы несколько теорий о всемогуществе этого
Творца;
единственное, чего она никогда не сможет породить (пока не создаст
своего
собственного Джеймса Хинтона13), так это идеи, что все эти разнообразные
и никак
не связанные друг с другом феномены суть лишь аспекты одной и той же
очень
простой вещи. Я нарочно выбрал самый легкий случай. Предположим, что
вместо
конуса мы взяли какое-нибудь неправильное тело — для воды это наверняка
означало
бы полное сумасшествие!
А теперь вообразите себе, что нечто подобное происходит при переходе не
от
третьего измерения ко второму, а от четвертого к третьему. Разве не
ясно, что мы
окажемся в том же положении, что и вода?
Первые впечатления человека от окружающей его Вселенной были кошмарным
набором
таинственных вещей, сваливавшихся на него без всякой связи и смысла, И
часто с
трагическими последствиями. Лишь много позже человек развил в себе
способность
связывать отдельные феномены друг с другом — хотя бы попарно.
Прошли столетия; он начал узнавать законы, хотя поначалу лишь в очень
немногих
вещах. Еще столетия, и вот какой-то отважный мыслитель нашел
единственную
причину всех вещей и назвал ее Богом. Эта гипотеза вызвала бесконечные
споры о
природе Бога; если быть точным, то эти споры так до сих пор и не
разрешились.
Чего стоит один только вопрос о происхождении Зла, вконец запутавший всю
теологию. О да, наука прогрессирует; теперь мы считаем, что все вещи
подчиняются
своим законам.
Нам больше не нужна гипотеза о Творце как первопричине всего сущего, по
крайней
мере в ее древнем, примитивном смысле; мы ищем причины происходящих в
природе
вещей в той же очередности, в какой наблюдаем их следствия. Мы больше не
ублажаем духов, чтобы не угас огонь в нашей печке.
И лишь очень немногие, в том числе и я, спрашивают себя: не иллюзия ли
вся эта
наша реальность — такая же, как любая поверхность?
Возможно, Вселенная и есть некое четырехмерное тело, представляющееся
нам в виде
набора разнообразных вещей, в общем-то простых и понятных, но
принимающих разные
формы, правильные и неправильные, точно так же, как это происходит с
конусом,
погружаемым в воду?
— Нет, мне, конечно, трудно сразу осмыслить это; я попрошу Сирила потом
рассказать мне все заново, что бы я поняла. А на что похожа эта
четырехмерная
Вселенная? Или этого нельзя объяснить?
— Отчего же; именно это я как раз и собирался сделать. Вот тут-то моя
длинная лекция и подходит к столь заинтересовавшему вас разговору о
душе...
— Не может быть!
— ...А также к раздвоению личности и всему, с этим связанному. Теперь
уже
все довольно просто. Я, как некая четырехмерная реальность, искренне
стремлюсь
выполнить свое предназначение. Сначала я чувствую, что подобно конусу
прохожу
сквозь поверхность — или, точнее, осознаю эту свою поверхность, весьма
схожую с
нашим материальным миром, и с первым криком появляюсь на свет. Потом я
расту
(круги становятся все больше и больше). Потом умираю. Таков принцип
вечной смены
и перемены всего сущего, что мы с вами и наблюдаем. Мой трехмерный ум
считает
все это «реальностью», историей, хотя это скорее география, чередование
лишь
очень немногих из бесконечного количества моих аспектов. Конус ведь тоже
содержит бесконечное количество кругов. Однако эта трехмерная сущность —
действительно часть меня, хотя и маленькая; поэтому меня, сумевшего
открыть в
себе нечто большее, забавляет, когда эта маленькая часть, то есть наш
ум, а
проще сказать физический организм считает себя единственно истинным и
совершенным.
— Я понимаю вас... той своей частью, о которой не знала, что она у меня
есть.
— Вы правильно понимаете меня, деточка. Но я продолжу. Обратите
внимание,
как хорошо объясняет это массовая психология. Давайте предположим, что
любая
идея есть реальное четырехмерное тело. Поскольку я себя хорошо знаю, то
предположу также, что я — очень простая идея, для воплощения которой
достаточно
одного-единственного тела. Но мы легко можем представить себе идеи,
воплощающиеся в сотнях и тысячах людей одновременно — возьмите,
например, идею
свободы.
Сначала она зарождается, ее воспринимают один или два человека: это —
«точка»
конуса. Затем она постепенно расходится кругами или прорывается
наподобие
взрыва, как если бы вместо конуса в воду бросили какую- нибудь доску.
Вот и все
на сегодня, деточка. Подумайте над этой лекцией, убедитесь, все ли вам
понятно... А может быть, и кое-какие проблемы она вам решить поможет.
Следующая
лекция будет потруднее, потому что после нее уже будет пора действовать.
Тут Сирил неожиданно прервал его.
— У нас очень много дел, — сказал он, — которые надо закончить до
отъезда. А
тут еще эта тварь в саду.
Глава V
О ТВАРИ В САДУ И О ПУТИ ДАО
Ах, братец! — печально отозвался старый маг. — Только этого еще не
хватало.
Сколько нам понадобится времени, чтобы справиться с этой тварью? — Мне
принадлежит всемогущество, и в моем распоряжении - вечность, —
процитировал
Сирил Элифаса Леви, улыбаясь.
— Дайте я объясню вам, — обернулся Простак Саймон к Лизе. — Этот юноша —
сильный маг... в пределах своей священной рощи. Он не раздумывает, он
сразу
действует, и только и живет своей магикой; когда у него есть магический
жезл и
батальон духов для выполнения его заданий, он счастлив. Я же
придерживаюсь пути
Дао и делаю все для того, чтобы не делать ничего. Понять это трудно;
когда-
нибудь я объясню вам подробнее. На практике это означает, что я веду
спокойную,
размеренную жизнь, не нарушаемую ничем; он же постоянно создает себе
трудности,
раздражает всяких... турок, — и, что еще хуже, создает ситуации, из-за
которых
ни в чем не повинная горничная вдруг переживает эпилептический припадок.
Сначала к нам являются лица, жаждущие крови невинной жертвы, а потом
появляется
еще и эта тварь в саду.
При этом его голос приобрел оттенок обеспокоенного, но в то же время
насмешливого отвращения.
— Во всяком случае, это Сирил сунул голову в петлю, а не я. Он вызвал
меня
сюда. Должен сказать, что в целом я согласен с его стратегическим планом
и был
готов к тому, что враги постараются помешать нам. Но маг в данном случае
он, у
него главная роль в этой пантомиме. Я лишь подыгрываю, и нам следует
действовать
по его указаниям, а не по моим. Если дело кончится плохо, — прибавил
старый маг,
чем чрезвычайно ободрил присутствующих, — может быть, это послужит ему
уроком.
Ишь, записался в китайские божки! Лучше бы он был китайским кули
где-нибудь у
подножия Куанцзы, курильщиком опиума!
— Но мне он сказал, — возразила Лиза, — что я сама мешаю себе вступить
на
этот ваш Путь, потому что слишком люблю приключения, а это, по его
словам,
недостаток, а не достоинство.
— Сирил, ваша любимая девушка в опасности, а это ей совершенно ни к
чему.
— Так и быть, — отозвался Сирил, — я спрошу учителя, позволит ли он
продемонстрировать тебе его метод. В ближайшие две недели тебе предстоит
узнать
меня со
всех сторон, как плохих, так и хороших, так что тебе будет что
сравнивать. И,
возможно, в один прекрасный день ты сделаешь выбор.
— Увы, я и в самом деле люблю опасности и приключения!
— Этого-то я и боялся! — заметил Саймон Ифф. — Но все-таки: раз Сирил
считает, что нам и в этом случае следует идти путем Дао, то я хотел бы
знать,
как он намеревается поступить.
— О, очень просто: я возьму магическую шпагу, начерчу положенные символы
и
произнесу соответствующие Имена Божий, чтобы эта непомерно раздувшаяся
тварь
съежилась и вернулась к тем, кто послал ее, стеная от боли, проклиная
всех богов
и желая покарать своих хозяев за то, что они обрекли ее на такие муки.
— Ну да, это его коронный номер, — изрек Саймон Ифф. — А теперь давайте
посмотрим на это дело с другой стороны.
— Да, действительно! — подхватила Лиза. — А вдруг они идут более
правильным
путем, чем мы?
— О нет, их путь — не мой путь, — неожиданно-торжественно произнес
старый
мистик. После этого он принялся цитировать «Книгу Сердца, Опоясанного
Змеей», и
его голос перешел в монотонное песнопение:
Я, Меня и Мне сидели с флейтами у губ на базаре Великого Города,
города фиалок и роз.
И пала Ночь, и музыка флейт умолкла.
И поднялась Буря, и музыка, флейт умолкла.
И подошло Время, и музыка флейт умолкла.
Будь же Ты Вечностью и Пространством; ибо Ты ecu Материя и Движение,
И Ты же - Отрицание всего этого. Ибо у Тебя нет символа, нет и быть не
может.
Слушатели были потрясены до глубины души. Старик же, не говоря больше ни
слова,
вынул из старинной золотой шкатулки с рельефами несколько листьев
бадьяна и
направился в сад, велев остальным идти следом. В саду было очень темно;
не было
видно ничего, кроме неясных контуров деревьев и забора за ними.
— Вы видите эту тварь? — шепотом спросил Саймон Ифф.
Лиза попыталась вглядеться в темноту.
— Не ищите чего-то определенного, — подсказал маг
— Кажется, что вон там, Лиза показала рукой, тьма выглядит не совсем
обычно. Она какая-то красноватая.
— Ах, прошу вас! — шепотом возмутился старый маг. — Ради Бога, не
употребляйте таких слов, как «тьма»! Вы прямо как Сирил. Вот, смотрите!
— он
положил руку Лизе на затылок. Другой рукой он подал ей лист бадьяна: —
Пожуйте!
Лиза взяла один серебристо-зеленый лист с вялыми бледными цветками и
положила в
рот.
— Я вижу какую-то бесформенную массу, темно-красного цвета, — сказала
она
после минутного размышления.
— Хорошо. Теперь смотрите! — громко произнес Ифф.
Он сделал несколько шагов вперед, поднял правую руку и произнес громовым
голосом, какой, вероятно, тридцать пять веков назад сотрясал пределы
Синая:
— Что Хочешь, То Делай, вот весь Закон
И бросил остатки бадьяна в направлении твари.
Тут раздался приглушенный голос Сирила Грея:
— Что же он делает?! Клянусь всем могуществом Пентаграммы, он создает
связь
между этой тварью и Лизой!
И, закусив губу, он явно дал волю своему молчаливому раздражению. Он
понимал,
что утратил контроль над собой в этой ситуации, но был не в силах
что-либо
изменить.
Саймон Ифф же, казалось, никак не отреагировал на этот всплеск эмоций.
Он
цитировал «Книгу Закона»:
— Будь сильным, о человек! Радуйся и наслаждайся всем, что есть чувство
и
удовольствие, не опасаясь, что кто-либо из богов отвергнет тебя.
Тварь начала плотнеть и несколько уменьшилась в размерах. Теперь Лиза
увидела,
что это зверь, видом похожий на волка, лежавший в углу сада с горделиво
поднятой головой. Тело у него было огромное, как у небольшого слона.
Разглядеть
его было трудно, цвет шкуры был какой-то мерцающий темно-красный. Голова
твари
была обращена прямо к Лизе, и ее ужаснуло, что у этой головы не было
глаз.
Старый маг подошел к чудовищу еще ближе. Отбросив все замашки «Великого
Мага»,
он просто и на первый взгляд бесстрастно приблизился к твари, более
всего походя
на пожилого джентльмена, отправившегося на обычную вечернюю прогулку.
Двигаясь
так, он вошел в самую плоть этой твари. Когда его уже почти не стало
видно за
темно-красным мерцанием, Лиза вдруг увидела "черный свет», исходящий от
его
фигуры, а точнее, слабую теплую фосфоресценцию, оставляющую след за
идущей
фигурой. Потом она увидела, как контуры твари сжались, как будто
давление в ее
оболочке уменьшали изнутри. Этот процесс шел все быстрее и быстрее,
фосфоресценция становилась все ярче, и наконец Лиза увидела, как
вибрирующие
радужные оболочки вращаются вокруг крохотного ядра — яйца. Тварь
исчезла; темно-
красный свет погас. Саймон Ифф снова превратился в безобидного старичка,
вышедшего на вечернюю прогулку.
Однако она услышала его тихий голос, произносивший:
— Любовь - вот Закон, та Любовь, которой ты Хочешь
Вернувшись к ним, он сказал просто:
— Пошли домой. Простужаться нам ни к чему.
Лиза села на диван, не говоря ни слова. Все увиденное совершенно
поразило ее.
Возможно, что она даже потеряла сознание на какое-то время, так как
следующим,
что она заметила, был спор, завязавшийся между обоими джентльменами.
— Великий маг выказывает свое благородство! — возмущался Сирил. — Все
это
прекрасно, не спорю, но меня беспокоит человек, который держал это
ружье. Я бы
предпочел напугать его хорошенько.
— Но ведь кто испугался, тот проиграл, — мягко возражал Ифф, как будто
удивленный словами Сирила.
— Так мы же и хотим, чтобы они проиграли!
— О нет, я хочу, чтобы они преуспели.
Сирил почти с обидой обернулся к Лизе:
— Невероятно! Я считал себя парадоксальной личностью, ты помнишь; но он
превосходит всякое мое понимание! Да я просто дилетант, жалкий дилетант
в этом
деле.
— Дайте, я объясню вам, — терпеливо продолжал Простак Саймон. — Если бы
каждый действительно делал то, что хочет, подобных столкновений не было
бы.
Каждый мужчина и каждая женщина ~ это звезда. Столкновения происходят,
когда они
сходят со своих орбит. Я же, когда кто-то или что-то, сойдя со своей
орбиты,
попадает на мою или хотя бы в круг моего внимания, вбираю его в себя как
можно
более мягко, и хор звезд вновь звучит в унисон.
— Нет, это... это черт знает что такое! — выдохнул Сирил, делая вид, что
стирает пот со лба.
— Но разве вам не угрожала опасность от этой твари?
— спросила Лиза, вспомнив об охватившем ее страхе: во время сцены в саду
она
дрожала, как осиновый лист.
— Носорог, — процитировал Саймон Ифф, — не найдет у него, куда вонзить
рог,
тигр не найдет, куда вонзить когти, и оружие не найдет, куда вонзиться.
А
почему? Потому что в нем нет свободного места для Смерти.
— Но вы же ничего не делали. Вы вели себя, как обыкновенный человек. И
все
же я думаю, что любого на вашем месте ожидала бы смерть.
— Обыкновенный человек не соприкоснулся бы с этой тварью. Она находится
на
совершенно ином плане, и они двигались бы, не соприкасаясь друг с
другом, как
звук и свет. Она могла бы повредить молодому магу, нашедшему путь к
этому плану,
но еще не научившемуся владеть им. Возможно, она сумела бы даже изгнать
его Эго,
чтобы занять его место и управлять его телом, как своим собственным.
Такая
опасность действительно грозит начинающим.
— А в чем же ваш секрет?
— Вбирать, впитывать в себя все так, чтобы никакая битва не могла даже
завязаться. Уничтожить саму мысль о противопоставлении «Я» и «не-Я».
Выработать
в себе такую Любовь и такое Умение Хотеть, чтобы уже некого было любить
и нечего
хотеть. Убить в зародыше всякое Желание; стать единым с любой вещью и с
тем, что
называют Ничто. Знаете ли вы, — добавил он, внезапно переменив тон, —
отчего
умирает человек, пораженный молнией? Он умирает оттого, что открыл ей
двери. Он
знает — его так учили! — что его тело проводит электрический ток, потому
что
обладает свойством сопротивляться этому току. Однако если свести это
сопротивление к нулю, то молния его бы даже не заметила. Есть два
способа
избежать перегрева на солнцепеке. Можно сделать щит из какого-нибудь
материала,
не пропускающего солнечных лучей; таков путь Сирила и, хотя он вовсе не
плох,
какая-то часть жары все-таки проникнет внутрь. Но есть и другой путь —
убрать
все материальные тела, которые мы хотим уберечь от перегрева; тогда жара
их не
коснется. Таков путь Дао.
Лиза слушала, обняв Сирила и склонив голову ему на плечо.
— Я не стану спрашивать, как этому научиться, — сказала она, — потому
что
для этого я наверняка должна буду отказаться от Сирила.
— Для этого вам нужно будет лишь отказаться от самой себя, — возразил
мистик, — а это все равно придется сделать рано или поздно. Но
волноваться не
стоит: каждый поднимается по своим ступенькам, а вы, если я не ошибаюсь,
прямо-
таки скачете по ним.
— Я пробовал заниматься Дао, — признался Сирил, — но у меня не
получилось.
Старый маг рассмеялся:
— Ты напоминаешь мне историю о старике, застигнутом снежной бурей.
Замерзнув, он решил уменьшить свой объем, думая тем самым уменьшить и
холод, и
снял с себя всю одежду. Но стало еще хуже. Вот и тебе будет становиться
все хуже
— до тех пор, пока ты не «уберешь» свое материальное тело целиком и
полностью. А
ты надеялся добиться всего полумерами. Вот и вышло, что твое Я» и твоя
Воля
разделились — или, если хочешь, разделились твое стремление жить и
стремление к
Нирване, а на этом хорошей магики не построишь.
Слушать это Сирилу было мучительно. Он знал достаточно, чтобы понять,
как высоки
те горы, на которые ему еще предстояло взобраться. Осознав же, вернее,
интуитивно почувствовав, что ему и не избежать этого, он едва сумел
подавить в
себе приступ малодушия.
— Что это?! — воскликнул вдруг Саймон Ифф.
В тот же миг где-то по соседству раздался ужасный крик.
— Это я виноват, — сокрушенно пробормотал старый маг. — Заболтался как
старый дурак! Видимо, в какой-то момент я отождествил себя с обычным
Саймоном
Иффом, и тут уже мое «Я» и моя Воля разделились. О, гордыня, гордыня!
Сирил, очевидно, тоже понял, что произошло. Выпрямившись во весь рост,
он сделал
какое-то странное движение руками. После этого, нахмурившись, он быстро
вышел на
улицу. Через минуту он уже стучал в дверь к соседям. Не добившись
ответа, он
высадил дверь плечом.
На полу лежала женщина. Над ней стоял сосед-скульптор, держа в руках
окровавленный молоток и смотря прямо перед собой пустым, ничего не
выражающим
взглядом. Грей встряхнул его. Тот пришел в себя и спросил, недоумевающе
озираясь:
— Что случилось? Кто это сделал?
— Ничего не случилось! Это сделал я, слышите вы, я!
Скорее же, помогите ей!
Но скульптор неожиданно разрыдался и был не в состоянии предпринять
что-либо.
Упав на тело женщины, очевидно служившей ему натурщицей, он заливался
горькими
слезами. Сирил скрипнул зубами; девушка могла умереть.
— Учитель, идите сюда! — крикнул он наконец.
Но Простак Саймон уже был тут, незаметно подойдя к Сирилу.
— В таких случаях, — сказал он, — когда совершается насилие над самой
Природой, когда кто-то пытается ломать ее законы, нам позволено
действовать.
Точнее, мы даже обязаны восстановить нарушенное равновесие, и если для
этого
понадобится удар, мы нанесем его, тщательно отмерив его силу. Семена
ссоры уже
зрели в сердцах этих людей; удар был направлен на тебя, но твое «Я» было
разделено, и он угодил мимо. Их собственная злая воля довершила
остальное,
открыв этому удару двери. Что ж, поможем барышне. Он достал из кармана
небольшой
пузырек и капнул лекарством ей на губы и в ноздри. Затем смочил свою
ладонь и
приложил к ране на голове натурщицы. Вдруг скульптор с громким криком
вскочил на
ноги: его руки были в крови, и кровь эта текла с его головы.
— А теперь назад, в студию, и как можно быстрее! —
приказал Саймон. — Я не хочу входить с ними в объяснения. Через пять
минут оба
совершенно придут в себя и будут думать, что все это привиделось им во
сне. Да
так оно, в сущности, и было.
При этом Сирилу пришлось нести Лизу. Стремительная череда этих
загадочных
событий закончилась для нее тем, что ее сознание отказалось выдерживать
перегрузки: она погрузилась в глубокий обморок.
— Это весьма кстати, — заключил старый мистик при виде Лизина обморока.
—
Давайте прямо так и отвезем ее в Мастерскую.
Сирил завернул Лизу в ее шубу, и они вдвоем понесли ее к автомобилю
Иффа,
стоявшему на бульваре Араго.
Лиза очнулась, когда автомобиль, по мосту миновав Сену, взбирался па
Монмартру к
тому моменту, когда они подъехали к особняку, выстроенному в стиле
«модерн», она
уже полностью пришла в себя. Особняк стоял на самом кругом склоне
монмартрского
холма. Дверь была открыта, и их с поклоном встретил самый обыкновенный
дворецкий. Саймон Ифф слегка поклонился в ответ и двинулся дальше, по
направлению ко второй двери, также предупредительно открытой. Лиза
увидела
небольшой холл. Человек, открывший перед ними вторую дверь, был одет в
плотную,
доходившую до колен черную мантию без рукавов. На поясе висела тяжелая
шпага с
крестообразной рукоятью. Человек поднял три пальца. Саймон Ифф снова
кивнул и
повел своих гостей дальше, в дверь налево. И здесь страж жестом
приветствовал
гостей. Этим стражем был лорд Энтони Боулинг, старый друг Иффа —
плотный,
сильный человек лет пятидесяти, со взглядом проницательным и острым.
Форма носа
сразу выдавала аристократа, рот свидетельствовал о чувственности и силе.
Сирил Грей прозывал его «русалочьим водяным» и утверждал, что замысел
«Кентавра»
родился у Родена именно в тот день, когда его познакомили с лордом
Боулингом.
Сам лорд был младшим братом герцога Флинтского, и его предки были почти
все без
исключения норманны, однако он производил впечатление римского патриция.
Да, он
был высокомерен, но в то же время и великодушен; ум его был развит,
пожалуй, до
максимально возможных пределов, которых только способен достичь
смертный; его
брови выдавали в нем прирожденного командира. В глазах же светилась сила
души,
не устающей искать знаний, постоянно требующей пищи столь неординарному
мозгу.
Нетрудно было догадаться, что этот человек был готов к любому, самому
решительному шагу, потому что не мог бы допустить, чтобы чьи-то
предрассудки
вдруг стали на его пути. И наверное он играл бы на скрипке во время
пожара Рима,
если бы скрипка в то время была его увлечением.
Этот человек был опорой и надежей Общества психических исследований.
Возможно,
он был там вообще единственным человеком, разбиравшимся в предмете; во
всяком
случае, он заметно выделялся среди прочих. Его отличала удивительная
способность
замечать и точно определять любую погрешность эксперимента. Как опытный
скалолаз
поднимается по рассыпающемуся меловому склону, распределяя свой вес
между
шаткими обломками точно в той мере, в какой они могут его выдержать, так
и лорд
Энтони умел безошибочно выделить ценное даже в самом бездарном
эксперименте. Он
знал меру обмана. Так, он мог десять раз за время одного сеанса уличить
медиума
в мошенничестве и тем не менее признать остальную часть эксперимента
удавшейся.
«Сколько бы медиум ни жульничал, этим не объяснишь Мессинское
землетрясение»-, —
говорил он.
Если у кого-то и возникали возражения по поводу выносимых лордом
суждений
(отважиться на что, впрочем, мог разве что сумасшедший), то только из-за
его
манеры втираться к медиумам в доверие, что он и проделывал каждый Божий
раз.
Внимательно следя за переживаниями медиума на каждой стадии
эксперимента, он
давал понять, что полностью сочувствует ему; однако стоило ему выйти за
дверь,
как он превращался в трезвого аналитика и буквально по косточкам
разбирал
малейшие детали. Люди же, присутствовавшие только на первом отделении,
то есть
на самом эксперименте, были уверены, что лорд сопереживал медиуму
настолько, что
ничего не видел и не слышал.
Вторым гостем Саймона Иффа или, лучше сказать, Ордена, к которому он
принадлежал, был человек росту довольно высокого, но согбенный болезнью.
Копна
черных волос обрамляла лицо, бледное, как сама Смерть; лишь глаза
лучились ясным
светом из-под густых бровей. Он недавно вернулся из Бирмы, где много лет
прожил
буддийским монахом. При взгляде на него возникало ощущение мощной
нравственной
силы; в каждом движении чувствовалась жестокая борьба с целым десятком
смертельных недугов. Располагая от силы неделей сносного самочувствия в
месяц,
этот человек успевал сделать за год столько, сколько удавалось не
каждому
университету. Он почти в одиночку исследовал самые древние версии
буддийского
учения и обнаружил в них много вещей, не известных или не замеченных
прежде. Он
практически заново организовал миссионерское движение, открыв центры по
изучению
и распространению буддизма во многих странах мира. Несмотря на болезнь,
у него
хватало времени и сил заниматься еще своим увлечением — опытами с
электричеством. Никем не понятый, всеми осмеянный, больной, он все-таки
вышел
победителем; и, верный словам своего Учителя, он никогда не медлил
открыть
обман. Даже враги вынуждены были признавать его правоту. С Саймоном
Иффом он
прежде никогда не встречался, а к Сирилу подошел сразу же, чтобы
по-братски
приветствовать его: тот был в свое время одним из лучших его учеников.
Однако
сам Махатхера Пханг, как его звали в монастыре, давно оставил Магику
ради того
пути, который мало чем отличался от Пути Саймона Иффа.
Третий гость был персоной по всем статьям меньшего калибра, чем двое
первых.
Росту он был среднего, сложения правильного, хотя и несколько щуплого. В
нем не
чувствовалось высоты духа: при явном уме, живом и пытливом, он оставался
на
чисто ментальном уровне, не достаточном, чтобы сделать шаг от таланта к
гению.
Он считался знатоком заклинаний, имел представление обо всех новейших
психических исследованиях, разбирался в теориях современной психологии,
и все же
был не более чем машиной. Он не мог опровергнуть собственную логику,
обратившись
к простому здравому смыслу. Так, когда кто-то заметил, что люди роют
себе могилу
зубами, Уэйк Морнипгсайд (так его звали) решил доказать научно, что еда
—
главная причина смерти, и что последовательный и полный пост ведет к
бессмертию.
И его доказательства имели шумный успех — в Америке.
Он собственноручно проделывал все опыты, о которых где-либо слышал, от
взвешивания душ до фотографирования мыслей, и не преминул бы пуститься
на поиски
Абсолюта, если бы ему это пришло в голову. Он был опорой и надежей...
издателей
всех бульварных газет Нью-Йорка, а в последнее время был занят
сочинением
сценария для кинематографа о подробностях психических опытов. Кажется,
ему ли
было не знать, что все сколько-нибудь дельное из этих «подробностей»
легко
уместилось бы на одной бобине, однако он ничтоже сумняся подписал
договор на
целый сериал из пятидесяти пяти фильмов! Он жевал свой шоколад
(очередное
«открытие» в борьбе с едой), нисколько не задумываясь над тем, что
настоящему
исследователю не к лицу размениваться на подобные вещи. И все же это был
умный,
мыслящий, наблюдательный человек. Если бы ему достало к. тому еще
нравственных
сил, он легко мог бы удержаться от столь опрометчивых поступков. Однако
увлечение собственными «открытиями» не только пагубно отражалось на
здоровье
Уэйка Морнингсайда (в последнее время у него появились даже истерические
припадки); именно оно плюс стремление заработать и на том, и на этом
привело к
тому, что люди начали сомневаться даже в самых бесспорных из его
суждений.
Например, несколько лет назад он был одним из экспертов, подписавших
широко
известное заключение о способностях медиума Янсена; год спустя он
устроил этому
Янсеиу турне по Америке, на котором оба заработали кучу денег. Однако
после
этого люди перестали верить как Янсену, так и тогдашнему заключению о
нем
экспертов. Кончилось тем, что из Нью-Йорка скандинавского медиума просто
выставили. Позже, пытаясь оправдать Янсена, Морнингсайд заявил, что этот
факт
никоим образом не опровергает прежнего о нем заключения, и получил в
ответ:
— Это-то не опровергает. Опровергает ваша с ним дружба.
Правда, лорд Боулинг, вместе с Морнингсайдом приехавший из Англии в
Париж,
достаточно хорошо знал его, чтобы не поверить в его предвзятость как
эксперта;
он ценил Морнингсайда как внимательного наблюдателя, как специалиста по
заклинаниям и глубокого знатока всех трюков, которые когда-либо
использовались
или могли использоваться на сеансах. Морнингсайд был советником Боулинга
в
отношении меры обмана. До прихода Саймона Иффа и его друзей эти трое
развлекались беседой с дамой. Дама была одета в простой бархатный хитон,
сшитый
из цельного куска ткани. Он доходил ей до ступней. Рукава были длинные,
расширяющиеся книзу, но стянутые у запястий. На груди — брошь в виде
золотого
креста с красной розой в середине. Волосы мягкими каштановыми локонами
огибали
уши.
Лицо дамы сияло какой-то необычной красотой, которую точнее всего было
бы
назвать «эзотерической». То же можно было бы отнести к ее фигуре, скорее
приземистой и коренастой, однако поразительно легкой в движениях.
Открытый
взгляд ясных глаз выдавал искреннюю натуру; однако видно было, что эти
глаза не
всегда верно служат хозяйке, не умея распознавать обман или злой умысел.
Прямой
широковатый нос говорил об энергичности; полные губы — о натуре
страстной и
твердой. В целом лицо выражало простоту натуры, не стремящейся скрыть
свои
недостатки, каковы бы они ни были. Хотя по физическому типу ее скорее
можно было
отнести к варварам (легко можно было представить ее в роли татарской
княжны,
невесты какого-нибудь Чингисхана, или королевы одного из южных островов,
сбрасывающей своих любовников в жерло вулкана Мауна-Лоа), — во взгляде
светилась
высокая душа, превращавшая все кровавые мечи в мирные орала. Да, взгляд
был
горд, но лишь в том смысле, в котором «горд» герб дворянина: эта женщина
была
неспособна ни на подлость, ни на предательство, ни даже на нелюбезность.
В глубинах этого вулкана бушевало пламя; однако, укрощенное, оно лишь
верно
служило своей хозяйке, питая плавильный горн искусства. Ибо хозяйка была
певицей, причем известной. За пределами Ордена никто не знал о ее тайных
занятиях и уж тем более не мог себе представить, что время от времени
она
удалялась на ту или иную виллу Ордена, чтобы пройти очередную, еще более
глубокую трансформацию. Сирила она приветствовала с особой теплотой:
дело в том,
что именно ей он когда-то бросил свои носки с предложением заштопать. С
другой
стороны, можно сказать, что она сама в большой мере была обязана Сирилу
своим
успехом певицы: до знакомства с ним она была скованна, и лишь напор его
могучей
личности помог ей сломать эту преграду. Дальше ему оставалось лишь
научить ее
нескольким магическим приемам, чтобы она могла сделать свое искусство
инструментом совершенствования души. Потом он привел ее в Орден, где ее
мощная
добрая сила сразу была отмечена всеми; и, если пока она не была одним из
высших
его членов, то одним из любимейших — наверняка. Звали ее сестра Кибела.
Глава VI
УЖИН И ОДНА УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Саймон Ифф и Сирил Грей покинули гостиную, чтобы переодеться
соответственно
своему орденскому рангу. Вскоре они вернулись: старый маг был одет в
хитон,
скроенный как у сестры Кибелы (все орденские одеяния были одного
покроя), только
из черного шелка, а нагрудный значок изображал Око Божие в сияющем
золотом
треугольнике. У Сирила Грея хитон был такой же, а значок другой: Око в
шестиконечной звезде, из внутренних углов которой исходили шесть
маленьких мечей
с волнистыми лезвиями. С их возвращением беседа прервалась, и сестра
Кибела,
взяв Лизу под руку, направилась с нею в приемную. Там-то и начались
чудеса.
Стену против выходной двери затеняли статуи величиной больше
человеческого
роста.
Они были из бронзы. Одна представляла Гермеса, сопровождающего Геракла в
Аид.
Вторая Харона с рукой, протянутой за оболом; другая рука сжимала руль
лодки.
Лодка была пуста.
Подождав, пока все гости рассядутся в лодке, сестра Кибела сделала вид,
будто
кладет монету в раскрытую ладош, перевозчика. На самом деле она всего
лишь
нажала скрытый рычаг. Стена разошлась в стороны; лодка двинулась и
вскоре
достигла причала. Она очутилась в огромном зале; Лиза поняла, что
размещаться он
может только в недрах холма за домом. Зал был длинный, но узкий, потолок
очень
высокий. В центре зала находился круглый стол. Гостей ждали; за каждым
стулом
стояло по кандидату Ордена, в белых хитонах, с ярко-красными
пентаграммами на
груди. Воротник, рукава и подол были обшиты золотом. Чуть подале стола,
за
которым уже сидело несколько членов Ордена в хитонах разного цвета,
виднелась
плоская треугольная плита из черного мрамора, углы которой ради удобства
были
закруглены. Вокруг нее располагались шесть кресел из эбенового дерева со
вделанными серебряными дисками. Сестра Кибела оставила вновь прибывших,
чтобы
занять свое место во главе круглого стола. Саймон Ифф сел во главе
мраморной
плиты, Сирил Грей и Махатхера Пханг — по обеим оставшимся углам ее. Лорд
Энтони
Боулинг сел по левую, Лиза — по правую руку от. Иффа, Морнингсайд —
напротив него, у основания треугольника. Когда все уселись, сестра
Кибела взяла
колокольчик, лежавший у нее под рукой и, встав, позвонила в него,
говоря:
— Что Хочешь, То Делай, вот весь Закон! О Магистр Храма, чего хочешь ты?
Саймон Ифф поднялся с места.
— Я хочу есть, и я хочу пить, — сказал он.
— Зачем тебе есть и зачем тебе пить?
— Чтобы поддерживать мое тело.
— Зачем тебе поддерживать свое тело?
— Чтобы оно помогло мне завершить Великое Делание.
После этих слов все поднялись со своих мест и торжественно
провозгласили:
— Да будет так!
— Любовь - вот Закон, та Любовь, которой ты хочешь, — произнесла сестра
Кибела глубоким, мягким голосом и села.
— Это, конечно, суеверие, и абсурдное, — заметил Морнингсайд Саймону
Иффу, —
считать, что еда поддерживает тело. Лучшая поддержка для тела — сон. Еда
лишь
обновляет ткани.
— Совершенно с вами согласен, — подхватил Сирил,
прежде чем Ифф успел раскрыть рот, — и я как раз намереваюсь обновить
свои ткани
не менее чем дюжиной этих замечательных шсрбургских креветок — по
крайней мере
для начала!
— Мой дорогой друг, — наставительно произнес лорд Энтони, — креветками
лучше
всего заканчивать. Вы бы и сами согласились с этим, если бы побывали
вместе со
мной в Армении.
Когда Морнингсайд произносил какую-нибудь нелепость, это означало лишь,
что ему
не терпится дать выход своим очередным душевным {если не сказать
телесным)
позывам. Когда же нелепость исходила из уст лорда Энтони, она всегда
предвещала
какую-нибудь историю, а истории у него были одна другой удивительнее.
Зная это,
Саймон Ифф немедленно попросил рассказать ее.— Она вообще-то довольно
длинная,
— промолвил лорд как бы в раздумье, — по зато на диво хороша.
Одной из черточек, делавших эти истории особенно увлекательными, была
привычка
лорда уснащать их цитатами трудно определимого происхождения. Этот
нехитрый
психологический прием заставлял людей внимательно слушать. Они узнавали
слова,
но не могли вспомнить автора и, поддавшись магии ассоциаций, увлекались
рассказом, подобно тому как мы невольно увлекаемся человеком, кого-то
нам
напомнившим, хотя мы не можем вспомнить, кого именно.
— День был пасмурный, и уже приближался вечер, — начал лорд Энтони. — По
горной дороге, ведшей к армянской деревушке Ситкаб, ехал путник. Этим
путником,
разумеется, был я, иначе мне нечего было бы вам рассказывать. Нет-нет,
это и
усилий бы не стоило. Я ехал на охоту за редкостным, почти неуловимым и
чрезвычайно опасным чудовищем, страшнее которого нет в мире — если не
считать
женщины.
При этом лорд Энтони поднял глаза на Лизу, одарив ее, однако, такой
очаровательной улыбкой, что она не могла воспринимать это иначе как
комплимент.
— Надо ли уточнять, что речь идет о полтергейсте? — продолжал лорд.
— О да, конечно надо! — со смехом прервала его Лиза.
— Мне ведь хочется знать, кто моя соперница. Расскажите о ней подробнее.
— Это не она, а он, — поправил ее лорд. — Полтергейст — нечто вроде
привидения, отличающегося мерзкой привычкой швыряться мебелью и
отмачивать иные
номера похлеще скоморошьих. Тот экземпляр, за шкурой которого охотился я
(если у
него, конечно, есть
шкура), чтобы приобщить к своей коллекции теософских блюдец, летающих
папирос и
прочих редкостей, был мастером своего дела, хотя и несколько
односторонним,
потому что умел орудовать только одним инструментом. Зато уж им-то он
владел
виртуозно. Вы спрашиваете, что это за инструмент? Обыкновенная палка от
метлы.
Мне сообщили, что он является — или, точнее, отказывается являться,
потому что
полтергейстов обычно не видно, а только слышно (весьма оригинальное
поведение,
прямо противоположное тому, которого мы требуем от маленьких детей), —
итак, мне
сообщили, что его можно обнаружить в доме местного стряпчего, обитателя
вышеупомянутой деревни. Этому стряпчему он надоедал уже два года; и,
хотя
какому-то медиуму, тоже местному, удалось выяснить, что этот дух раньше
принадлежал ученому магу, то есть человеку интеллигентному, он, то есть
дух,
самым бессовестным образом продолжал швыряться палкой в бедного
стряпчего, мешая
тому исполнять свои нехитрые обязанности по улаживанию споров между
жителями
деревни, кажется, самой мирной на свете — да там никогда и не было
никаких
споров, кроме разве из-за денег, которые кто-то взял в долг у соседа и
не
отдал. Нет, это был весьма достойный стряпчий, можете мне поверить, я
повидал
много законников на своем веку, ведь мне пришлось в свое время предстать
перед
судом. Нашего стряпчего эта помеха очень тяготила, тем более, что на
свете не
существует, к сожалению, никакого Habeas Палкам, на основании которого
он мог бы
привлечь безобразника к ответственности.
Потом, по-видимому, это милое привидение все-таки усовестилось и
попыталось
завоевать расположение своего хозяина тем, что спасло его от гибели.
Однажды,
когда тот, решив съездить в город, подъехал на своей арбе к мосту,
перекинутому
через горную речку, с неба вдруг свалилась эта самая палка и воткнулась
в землю
прямо перед ним. Лошадь попятилась; а через миг мост снесло невесть
откуда
взявшимся бурным потоком. Вы обратили внимание, какой прекрасный у нас
сегодня
борщ, мистер Ифф? Ну так вот. Чтобы разобрать этот спор между человеком
и духом,
пригласили меня, и я вскоре приехал и поселился в доме моего
брата-разбойника.
Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду стряпчего. Прожив там шесть
недель или
около того, я убедился в том, что ни в чем не убедился. Я не сомневался
в
правдивости слов стряпчего, как не сомневался и в том, что палка
действует,
однако мне ни разу не пришлось наблюдать ее в действии — по крайней
мере, пока
стряпчий бывал дома, а когда он отправлялся куда-нибудь по делам, я за
ним не
ездил. Однако я стараюсь не подвергать сомнению ничью меру обмана до тех
пор,
пока меня к этому окончательно не принудят, тем более, когда речь идет о
законнике — и о палке от метлы. Так ни с чем я и воротился в современный
Вавилон17, где провел в общей сложности целый сезон. Несколько недель
спустя я
получил открытку, в которой говорилось о предстоящей женитьбе моего
друга на
дочери местного азнвакана, а еще через год, после нескольких моих
запросов, он
сообщил, что после свадьбы все проявления жизнедеятельности полтергейста
полностью прекратились. Маги бывают иногда подвержены страхам, это
правда; чаще
всего их мучают страхи, связанные с половой жизнью. Попробуй пожить
жизнью
такого запуганного Галахада ба, и черт меня побери, если сигары не
начнут
прыгать тебе в суп, а партия в бильярд не окажется прерванной экстренным
посланием с Тибета, написанным на особой бумаге, которой пользуются
только
истинные леди, обитающие на Уолхэм-стрит, а в послании — всего лишь одна
фраза:
«Истину следует искать по ту сторону Покрова» или еще что-нибудь в том
же роде,
призванное служить доказательством внезапного просветления и хоть как-то
оправдать ту немыслимую спешку, ради которой стоило пренебречь обычной
почтой.
Нет, на этом моя история еще не заканчивается; на самом деле все это —
лишь
прелюдия к основному сюжету.
Прошел год или больше, и произошло много событий, связанных друг с
другом самым
тесным и, как я теперь понимаю, роковым образом. Все они уложились,
повторяю,
почти ровно в двенадцать календарных месяцев. Мой друг-стряпчий прислал
мне еще
одно письмо. Все еще ли они с женой любили друг друга или уже нет, он не
сообщил
мне; зато я узнал, что дух опять появился и с еще большим рвением
принялся за
свои безобразия. Правда, после того случая возле моста он больше не
преследовал
стряпчего вне дома, что в какой-то мере утешало; однако в доме эта палка
таскалась за ним по пятам, как овечка за маленькой Мэри. У жены
стряпчего
оказались способности медиума, и она сумела получить от г-на
Полтергейста
несколько сообщений, которые показались мужу необычайно важными. Я
понял, что
целый неизведанный континент готов распахнуть передо мной двери. Знаете,
я
всегда чувствовал себя Колумбом, а тут еще удачная спекуляция на
нефтяных акциях
принесла мне значительный барыш, поэтому я, не раздумывая ни секунды,
отправился
на телеграф и, подражая стилю Цезаря, отбил депешу: «Приезжайте жить
зиму».
Неделю спустя эти простые, я бы даже сказал святые души, счастливо
избежав
опасностей на пути в Константинополь, уже сидели в «Восточном
экспрессе». В
Париже их встретил один мой друг, посланный туда загодя; еще через сутки
моя
мечта исполнилась и сердце радостно забилось, когда они переступили
наконец
порог моего фамильного гнезда на Керзон-стрит — да-да, того самого,
которое я за
два года перед тем снял у знаменитого домовладельца Барни Айзскса,
точнее, у его
наследников, потому что самого Барни к тому времени уже повесили, как
вам должно
быть известно.
Из тех немногих экспериментальных данных, которыми располагает
психологическая
наука, следовало, что хорошему полтергейсту требуется не менее
четырнадцати
суток, чтобы добраться до своего хозяина, если тот переехал жить в
другое место.
Отсюда многие делают вывод, что полтергейсты сродни кошкам; другие же
находят не
меньше оснований к установлению их родства с собаками, особенно когда
полтергейст посещает законника, о сходстве последнего с которыми во все
века
говорилось немало. Я не берусь оспаривать ни тех, ни других, но у меня
есть и
своя гипотеза. На мой взгляд, полтергейст так же, как и обозначающее его
немецкое слово, состоит из двух частей, как некоторые австралийские
животные; я
бы осмелился даже продолжить эту аналогию, сравнив летающую палку от
метлы с
австралийским бумерангом. Как бы там ни было, но ровно через
четырнадцать дней
после приезда ко мне стряпчего с супругой наш приятель полтергейст
объявился и
был настолько любезен, что спустя три дня повторил всю программу с
самого начала
— эдакое скерцо в до-миноре, если угодно, или просто в доминионе вашего
покорного слуги. Впрочем, я не слишком скорбел потом о той вазе
севрского
фарфора, которую он принес в жертву каким-то своим богам Преисподней.
В то же время начали проявляться и медиумические способности нашей
высокородной
дамы. Для связи дух избрал такое хитроумное средство как планшетка — все
знают,
что это такое. Штуковина, для письма, конечно, неудобная, но в общем
ничего
необычного в ней нет. В конце концов, если мы автоматически признали
метод
«автоматического письма», то причин сомневаться в честности медиумов,
работающих
с планшеткой, у нас еще меньше. Через эту планшетку мы получили массу
полезных
сведений об образе жизни, привычках, общественных иных развлечениях
разных
усопших; кроме того, я получил один совет, весьма дельный. Однако мною в
то
время в гораздо большей мере двигали чувства, нежели разум, мне хотелось
узнать
как можно больше о полтергейстах — тем более, что уже узнанное давало
повод
считать их все-таки сродни собакам. Под руководством своей
очаровательной
хозяйки наш дух сумел развить способности, за которые мы привыкли
хвалить наших
спаниелей или фоксов.
Еще в Армении он, устав от номеров с палкой, равно как и от попыток
осчастливить
или просветить человечество, развлекался тем, что засовывал разные
предметы
туда, где им быть не полагалось. У себя в доме я время от времени
находил то
собственные носки, засунутые мне же в карманы брюк, то бритву, торчащую
почему-
то из-за зеркала; тогда до меня наконец дошло, что точильный камень, до
сих пор
исправно снабжавший звездами ночную половину небесной сферы, выбился из
пазов, а
Охотник Востока своим светоносным клинком поразил Башню Султана. Вслед
за этим
последовала вторая серия концертов, в которой это милейшее существо
превзошло
свои прежние достижения, начав доставлять ко мне в дом предметы из
других мест,
и даже довольно отдаленных. (Видимо, в Преисподней решили, что он
заслужил право
расширить сферу влияния.)
И вот в один прекрасный день в мае месяце планшетка принесла очередное
сообщение. Оно гласило, что наш добрый полтергейст в самом скором
времени
представит новые доказательства своего существования. «Доказательство»
вообще
было одним из его любимых слов, я точно это помню. Заканчивалось же
послание
несколько неожиданно, а именно фразой: «Следи за игрой!» Ко мне это явно
не
могло относиться, ибо я в такие игры вообще не играю.
Однако теперь мне придется — ради ясности — описать вам столовую в моем
доме. В
общем она, конечно, похожа на все помещения подобного рода, только над
столом, в
самой середине, висит большая электрическая люстра,
364
по форме напоминающая перевернутый зонтик, чтобы свет отражался к
потолку.
Острие этого зонтика находится примерно на уровне глаз стоящего
человека.
Разглядеть его может любой, даже сидящий в конце стола.
Ну так вот; мы спустились к обеду, и полтергейст решил показать себя.
Медиум,
казалось, была смущена его непрекращающимися требованиями «следить за
игрой». Но
все прояснилось, когда подали десерт.
— Ах! Он ущипнул меня в шею! — воскликнула она, и в тот же миг на мой
скромный
обеденный стол красного дерева свалилась куропатка.
Признаюсь честно: в тот и правда трудный момент мне больше всего
хотелось, чтобы
при этом присутствовали адмирал Мур, сэр Оливер Лодж, полковник Олкотт,
сэр
Альфред Тернер, мистер А.П. Синнер и сэр Артур Конан-Дойль. Тогда уж во
всяком
случае ни один голос из противного лагеря не осмелился бы сказать (если
не
считать моего собственного голоса), что у нас недостаточно авторитетных
свидетельств. Я же всегда оставляю за собой право передумать.
Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, какой романтикой, какими
треволнениями наполнена жизнь почтенной гильдии чучельников? Вот
истинные
охотники нашего времени! Это они бесстрашно проникают в логово злобного
индюка,
захватывают в плен красавца-фазана, вступают в смертельную схватку с
глухарем,
чтобы буквально у него из-под клюва вырвать яйцо беззаботного щегла в
его
одиноком обиталище на болоте, и отваживаются на настоящие подвиги, чтобы
выполнить однажды данное слово и доставить коллекционеру обещанного
воробья,
кошку или крысу. Вы только подумайте, какие сложные, тонкие нити
связывают их с
мистическими базарами Багдада, как отчаянно торгуются они с хитрыми
восточными
людьми и под луной, в тени мечети, отсчитывают потертые золотые;
представьте
себе вашего поставщика, почтенного мистера Мейсона, как он, с трепетом
прочтя
знаки шифрованной телеграммы из Фортнема, хватает кинжал и мешочек с
нешлифованными рубинами, в страшной спешке покидает роскошный отель
«Гязире» и
мчится на рыбный базар, где совершаются самые темные и грязные сделки,
чтобы
найти какого-нибудь Ахмет-Абдуллу и, отдав рубины, покончить наконец с
этим
делом — вы видите, как он судорожно шарит рукой под накидкой и достает
вашу
желанную куропатку? Вам никогда не приходило это в голову? Мне тоже — до
тех
самых пор, пока я не встретился с моими армянскими друзьями. Однако я
знал, что
такие куропатки водятся на жарком Востоке, а чучельников в моем районе
не так уж
много. На следующий день рано утром я вышел из дома с намерением обойти
их всех,
и третий из почтенных торговцев признался, что вчера продал куропатку
одной
даме. Его описание (как куропатки, так и дамы) полностью соответствовало
моим
ожиданиям. Гости же мои каждый день выходили на прогулку — когда вдвоем,
а когда
поодиночке или с кем-то из моих домочадцев. И вот в тот знаменательный
день я
попросил даму-медиума оказать мне честь выйти на прогулку вместе со
мной. Она, с
обычной своей любезностью, согласилась; и, шагая по улице, я попросил ее
рассказать мне какую-нибудь сказку — знаете, как дети просят своих
нянюшек. Я
сказал, что уверен, что у нее есть для меня в запасе по крайней мере
одна
премаленькая сказочка. Однако, увы, на этот раз мои ожидания не
оправдались.
Прогуливаясь таким образом, мы — разумеется, волею всемогущего случая —
оказались возле лавки того чучельника, у которого я побывал утром. Я
подвел ее к
этому джентльмену.
— Да, сударь, — с готовностью ответил он, — именно этой даме я продал ту
куропатку.
Однако та решительно все отрицала; оказывается, она никогда в жизни не
была в
этой лавке. Мы продолжили нашу прогулку.
— Расскажите же, — попросил я, — где вы были, когда ходили гулять вчера.
— Нигде, — заявила она. — Просто гуляла. Сидела на скамейке в парке.
Потом
пришла моя сестра, и мы сидели с ней вместе и разговаривали. А потом я
вернулась
на Керзон-стрит.
— Какая сестра?! — удивился ее супруг, когда я после прогулки рассказал
ему
об этом. — У нее нет здесь никакой сестры!
Все сразу стало ясно. Это был типичнейший случай раздвоения личности.
Однако
оставалась еще одна загадка: каким образом духу удалось бросить
куропатку на
стол? Она упала откуда-то сверху, по крайней мере нам так показалось.
Дворецкий
сказал, что на люстре ее не могли спрятать: он бы наверняка заметил ее,
когда
накрывал на стол. Что ж, эксперимент продолжался. Некоторое время спустя
братец
Полтергейст в своем очередном послании упомянул о креветках —
разумеется, самого
лучшего качества, — и я незамедлительно принял меры. Незадолго до обеда
я
незаметно зашел в столовую и тщательно ее обследовал. О небо! На какие
низости
бывают способны порой даже самые высокие души! Эта ужасная вторая
личность-
сестра нашей благородной дамы вновь подвела ее, очевидно стремясь
укрепить в нас
зародившееся недоверие к той. Потому что на верху люстры аккуратно по
кругу были
разложены двенадцать креветок — самого лучшего качества. Даже не
заглядывая в
толковый словарь, к сожалению, пока еще так и не изданный Обществом
психических
исследований, легко было убедиться, что подобный феномен называется
«подготовленным феноменом».
Ну, если уж феномен готовить, то делать это надо основательно. Я решил
позаботиться о его разоблачении — и немного об эстетике, а как именно,
вы скоро
узнаете. Подали обед; полтергейст тоже составил нам компанию. Никогда
еще не был
он таким оживленным, остроумным и таким озабоченным устройством наших
судеб в
краю Вечного лета; вдруг, ни с того ни с сего, он впал в минор и туманно
заговорил о доказательствах и о креветках (прошу заметить, что я не
унизился до
очевидно напрашивающегося здесь каламбура). Настал черед десерта. И тут
полтергейст разбушевался. Стряпчему показалось, что он обнаружил и даже
нащупал
его; по всей комнате виделись ему знаки; он бросился ловить его, как
дети
гоняются с сачком за бабочками.
Однако я ни на что из этого не обращал внимания. Я следил за лицом нашей
уважаемой дамы.
Вероятно, профессор Фрейд объяснил бы это моей «инфантильной психической
предсексуальностью» или как-нибудь в этом роде, но это меня не
волновало: я не
сводил глаз с ее лица.
Стряпчий, который, как и само обозначение его профессии, олицетворял
неутомимого
Приама, уже почти схватил полтергейста, но — о эта трагическая заминка,
которую
так любит Вергилий, помогающая оттянуть развязку! — он хлопнул руками и
промахнулся. Потеряв равновесие, он пошатнулся и, судя по всему, задел
люстру —
я так полагаю, потому что на нас мягким дождем посыпались креветки,
воздавая,
так сказать, по заслугам и дающему, и берущему.
И — о чудо! — эти возникшие из ничего креветки выглядели просто
прелестно, ибо
каждую из них украшал голубенький бантик, очень мило смотревшийся на
красном. Я
не отводил глаз от лица нашей дамы, однако... Мне очень жаль оканчивать
эту
краткую и несколько абстрактную повесть о креветках признанием, что мне
не
удалось обнаружить в ее лице ни следа смущения!
Лорд Энтони умолк, давая понять, что рассказ окончен; он поднял свой
бокал с
лике-
ром, но, раздумав, поставил его на место.
Поднялась сестра Кибела; она поклонилась Саймону Иффу, но тут раздался
голос
Сирила Грея, в несколько наделанном тоне, каким произносят заздравные
тосты: —
Лучше обед из одного салата, зато приправленного любовью, чем целая гора
креветок, политых соусом разочарования! Учитель бросил на него строгий
взгляд,
призывая к молчанию.
— Джентльмены! — начал старый маг нарочито-серьезно, - по правилам этого
дома гости должны заплатить за угощение. Лорд Боулинг заплатил нам своим
рассказом, мистер Морнингсайд — своей великолепной теорией о роли еды в
жизни
человека, а Махатхера Пханг — своим высоким молчанием. Должен сказать,
что я и
не ожидал от них большего, да и от других гостей тоже; пожалуй, нам
заплатили
даже сверх ожидаемого. Поэтому мы в
долгу перед вами.
Морнингсайд был доволен — он принял слова Простака Саймона всерьез.
Боулинг лишь
добавил нечто к своим представлениям о человеческой душе вообще и душе
Саймона
Иффа в частности. Махатхера Пханг же продолжал пребывать в своем
божественном
безразличии.
Тут к Учителю обратилась Лиза:
— А я-то не заплатила! А обед был такой чудесный.
На это Саймон Ифф возразил ей уже совершенно серьезно:
— А вы, барышня, у нас не гость, а кандидат.
Догадавшись, что это означает, Лиза побледнела и заерзала на стуле.
Саймон Ифф простился с тремя гостями; Сирил и сестра Кибела проводили их
до
лодки и пожелали доброго пути. Остальные братья Ордена разошлись, чтобы
приступить к своим обязанностям.
Вышло так, что Саймон и Сирил, Кибела и Лиза остались одни. Старый маг
проводил
их в небольшую комнату, дверь в которую была искусно скрыта в стене. Там
они
сели, каждый на свое место. Лиза Ла Джуффриа поняла, что самый
ответственный
момент в ее жизни наконец настал.
Глава VII
КЛЯТВА ЛИЗЫ ЛА ДЖУФФРИА ПОСЛЕ НОЧИ, ПРОВЕДЕННОЙ
В ЧАСОВНЕ УЖАСОВ
Прежде, чем мы продолжим, — сказал Сирил Грей, — я хотел бы все-таки
выразить
свои сомнения в целесообразности нашей затеи. У нас и так достаточно
врагов,
желающих помешать нашим планам; и мне лично кажется, что не стоит или,
во всяком
случае, было бы безопаснее не строить новых. Лиза обернулась к нему
разъяренной
тигрицей: — Это тебе не стоит! Твои планы меня не интересуют. Впрочем, я
и не
надеялась, что ты вспомнишь о моих!
— Экзальтированные барышни, — мрачно возразил Сирил, — всегда лезут
туда,
куда даже ангелы опасаются ступить.
— Я избрала свой путь, — отозвалась Лиза. — И мне остается только
пожалеть
обо всем, что было между нами — обо всем, ты слышишь? — добавила она,
меряя
своего возлюбленного взглядом, полным невыразимого презрения.
— Брату Сирилу все равно некуда отступать, даже если бы он захотел, —
заявила сестра Кибела. — Он ведь связан Клятвой — так же, как и ты
будешь
связана в самом скором времени.
Взглянув на нее, Лиза увидела в ее лице нечто, показавшееся ей признаком
злорадства. Это расстроило ее гораздо больше, чем замечание Сирила.
Неужели она
и в самом деле попала в ловушку? Вполне возможно; но тогда и Сирил,
пытавшийся
спасти ее, тоже в ловушке. И ей тоже было некуда отступать, хотя бы
потому, что
только таким образом она могла бы спасти его, когда возникнет
возможность.
Сейчас же ей приходилось пробираться ощупью в темноте. Она ощущала
тонкое, но
мощное давление со стороны неведомых ей сил Бездны, на путь через
которую по
лезвию бритвы она вступила с завязанными глазами, на поддержку этих сил
не
рассчитывая; однако это вызывало у нес лишь душевный подъем, и она
чувствовала,
что сейчас именно для этого и живет. Если бы она хоть немного лучше
знала самое
себя, то поняла бы, что ее любовь к Сирилу есть нечто большее, чем
просто тяга к
неведомому. Однако в этот момент она ощущала себя Жанной д' Арк и
Джульеттой
одновременно. Кроме того, у нее было инстинктивное ощущение, что, куда
бы ни шли
эти люди, они твердо держались избранного пути. Это были инженеры,
строившие
мост в страну Неведомого, и делавшие это так же планомерно и методично,
как
обычные инженеры сооружают земные мосты. Сомневаться в их знаниях и
способностях
не приходилось. Она видела, что лорд Боулинг тратит жизнь на изучение
разрозненных, случайных кусочков информации, да и те по большей части
оказывались обманом, в то время как буквально у него под носом братья
Ордена
занимались каким-то no-настоящему необыкновенным делом, ничуть не
стремясь
сделать из него сенсацию; и она догадывалась, почему это так и иначе
быть не
может. Они не желали вступать в бесполезную полемику с невеждами. В этот
момент
в разговор вступил Саймон Ифф, и слова его были созвучны мыслям Лизы:
— Мы не станем требовать от вас обета молчания, — начал он, — потому что
стоит
вам сказать хоть слово о том, что вы здесь увидите и услышите, как вас
тут же
поднимут на смех как самую бессовестную лгунью. Если эта наша встреча
станет
последней, у нас не будет к вам претензий. Сейчас вас проводят в
небольшую
часовню, примыкающую к этой комнате. Там на полу очерчен круг; вам нужно
будет
войти в него, однако осторожно, чтобы не наступить на сам круг и не
задеть его
платьем. В этом круге вы должны будете оставаться до тех пор, пока мы не
пришлем
за вами — разве только если вам захочется уйти; тогда вам достаточно
будет лишь
пройти через дверь за белыми занавесями в северной стене, и вы окажетесь
на
улице, где шофер в моем автомобиле будет ждать ваших распоряжений. Это,
разумеется, будет означать для вас конец всяких занятий Магикой, однако
мы с
вами останемся друзьями (по крайней мере я на это надеюсь). Но подобных
приглашений с нашей стороны больше не последует.
— Я подожду, пока вы за мной пришлете! — твердо произнесла Лиза. —
Клянусь
вам! Саймон Ифф мягко коснулся рукой ее лба и вышел из комнаты. Сестра
Кибела
поднялась на ноги и взяла Лизу за руку.
— Пошли! — сказала она, — но прежде попрощайся со своим любовником. Так
будет лучше.
В ее голосе девушке снова послышалась нотка злорадства. Однако Сирил
нежно обнял
ее и притянул к себе.
— О отважное, чистое сердечко! — промолвил он. — Завтра, уже завтра мы
будем
вместе. Одни! Лиза, дрожа, вернулась к сестре Кибеле и последовала за
ней в
часовню. Оглянувшись напоследок, она с изумлением увидела усмешку на
губах
Сирила. Сердце у нее упало; но тут она ощутила железную хватку сестры
Кибелы,
неумолимо тянувшей ее за собой.
Дверь захлопнулась с пугающим стуком, и Лиза очутилась в темном и
страшном
помещении.
Почему они называли его «часовней», понять нельзя было. Оно походило на
колоколо-образную пещеру. В глубине неясно виднелись белые занавеси, о
которых
говорил Саймон Ифф; больше там не было ничего, кроме небольшого
квадратного
алтаря, покрытого полированным серебром; вокруг него в пол была вделана
довольно
широкая полоса меди — очевидно, тот самый круг. В маленькие железные
звезды были
вделаны десять ламп, дававших неяркий голубоватый свет.
Сама пещера казалась целиком выдолбленной в скале. Пол был настлан
только вне
пределов круга, внутренняя же его часть и стены, сходившиеся кверху,
были один
сплошной камень. Лиза осторожно ступила в круг, подняв подол платья.
Сестра
Кибела недоверчиво наблюдала за ней. В ее лице Лизе увиделись сотни
дьявольских
намерений; серые глаза пылали жестокостью так же, как сияли холодом
глаза
Сирила, и Лиза ощутила себя отданной во власть каких-то ужасных,
безжалостных
тварей. Разразившись резким, коротким смехом, сестра Кибела отступила
назад, и
Лиза, обернувшись, успела лишь заметить, как за той закрылась дверь.
Повинуясь
импульсу самозащиты, Лиза неосторожно кинулась ей вслед, но дверь с этой
стороны
оказалась совершенно гладкой, и открыть ее нельзя было. Она громко
вскрикнула от
страха, но ответом ей была лишь тишина.
Импульс прошел так же быстро, как и возник. Лиза машинально вернулась в
круг.
Сделав это, она подумала о Саймоне Иффе, и эта мысль успокоила ее. Пусть
другие
сговорились свести ее с ума, но Ифф никогда не допустит, чтобы ей
причинили зло,
она знала это. Во время обеда она восхищенным взглядом смотрела на
Махатхера
Пханга. Ей было известно, что он более чем сочувственно относился к
Ордену, хотя
и не состоял в нем; его лицо, в том числе и потому, что в ее присутствии
он не
произнес ни слова, также вселяло в нее доверие.
Когда глаза постепенно привыкли к полутьме, она увидела возле алтаря
странной
формы лежанку, обтянутую кожей. Забравшись на нее, она почувствовала
райское
блаженство: это был настоящий отдых! И тогда она поняла, что от нее пока
требуется только одно: ждать. Ждать!
Не было ни звуков, ни движений, которые могли бы привлечь ее внимание;
она
попыталась развлечься тем, что стала воображать себе разные лица,
отражающиеся в
полированном серебре алтаря. Но вскоре устала и опять принялась ждать.
Ее
воображение быстро населило пещеру разнообразными фантомами; вспомнилась
и тварь
в саду. И вновь ей помогла мысль о Саймоне Иффе. Она вспомнила, что это
всего
лишь игра воображения, и что даже если бы эти образы вдруг ожили, они не
смогли
бы повредить ей. В ее ушах вновь раздались слова старого мистика:
«Потому что в
нем нет места Смерти».
Лиза совершенно успокоилась; некоторое время она занималась своими
мыслями.
Внезапно они исчезли, и ей показалось, что она сидит в утлом челноке,
одна, без
всяких припасов, посреди бескрайнего океана скуки. Ее охватило
нервическое
беспокойство; но вот прошло и оно, наступило безразличие, и она лишь
молила о
сне.
Потом она заметила, что под сходящимся «потолком» пещеры появился
квадрат света,
отблеск которого засиял на поверхности алтаря. Быстро поднявшись на
ноги, она
удивленно вгляделась: там, на серебряной поверхности, была комната, и в
ней
двигались фигурки!
Вот через комнату прошли трое мужчин со странными музыкальными
инструментами,
похожими на флейту, скрипку и барабан. Сама комната была задрапирована
розовым,
освещали же ее свечи в серебряных канделябрах. В дальнем конце ее
находилось
нечто вроде сцены, где музыканты и расселись. Они начали настраивать
инструменты, и воображение Лизы разыгралось настолько, что ей даже
послышалась
музыка. Они играли какой-то зажигательный восточный танец; в комнату
вошел
мальчик-негр в желтой накидке и широких шароварах бледно-голубого цвета,
завязанных под коленями. В руках он нес поднос, на котором стояли кувшин
с вином
и два золотых бокала. Затем в комнату, к величайшему удивлению Лизы,
вошли Сирил
Грей и сестра Кибела. Положив левую руку на левое же плечу другого, они
взяли
бокалы с подноса и опустошили их, запрокинув головы. Забрав пустые
бокалы,
мальчик ушел.
Лиза увидела, как Сирил и Кибела подходят друг к другу, смеясь чему-то;
она
могла бы поклясться, что слышит этот смех, и он показался ей
демоническим. Еще
мгновение — и их уста слились в поцелуе. Лиза почувствовала, что у нее
подгибаются колени: Она оперлась на алтарь, чтобы не упасть, однако на
какое-то
время, видимо, все же была без чувств, потому что следующим, что она
увидела,
был их танец — обнаженными, без хитонов. Танец был дик и страшен, он
превосходил
всякое ее воображение; танцоры так тесно сплелись друг с другом, что
походили на
чудовище из древнегреческой басни, двуглавое и четвероногое, вертевшееся
и
содрогавшееся в мерзком экстазе.
Лиза была так потрясена, что даже не спрашивала себя, был ли этот танец
сном,
галлюцинацией, картиной прошлого или реальностью. Эта грубая вакханалия
совершенно подавила се. Она пыталась отвести глаза, но они всякий раз
возвращались к этому видению, и каждое движение танцоров отзывалось в ее
душе
невыносимой болью. Она поняла, сколь многолик был ее возлюбленный,
странности в
его поведении теперь казались ей открытой книгой, а коварство сестры
Кибелы, ее
загадочный смех, ее дьявольские насмешки заставляли сердце Лизы кипеть и
мучиться, словно ее облили кислотой.
Меж тем веселье не утихало, принимая все новые, все более гротескные
формы. Все
представления Лизы о том, что такое порок и похоть, были превзойдены
многократно. Мерзость принимала все более утонченные формы, сочетаясь с
такой
циничной грубостью, которая заставила бы онеметь даже Жорж Санд. И тут
свет
погас.
Бежать из этой мерзкой часовни Лизе ни разу не пришло в голову. Ведь это
же был
Сирил, — человек, которому она целиком доверилась с первой же минуты, и
который
теперь отравленным кинжалом пронзал ее сердце. А она не могла даже
умереть,
чувствуя, как зарождаются в ней ненависть и безумие. Нет, она дождется
утра, а
там уж найдет способ отомстить. Однако Лиза чувствовала, что силы ее на
исходе;
временами ей казалось, что она не доживет до утра. Во всяком случае, она
не
сможет больше взглянуть Сирилу в лицо — так велико было чувство стыда,
испытывать который, казалось, придется ей одной. Тут она громко
вскрикнула: на
ее плечо мягко легла чья-то рука.
— Тише, тише! — послышался нежный голос.
Это была девушка, прислуживавшая ей за обедом. Лиза еще тогда заметила,
что та
отличается от прочих; их лица сияли радостью, а у этой девушки глаза
были красны
от слез.
— Давай убежим! — прошептала девушка. — Бежим отсюда, пока еще есть
время. Я
давно хотела, но такая возможность представилась только сегодня: меня
назначили
следить за тобой сегодня ночью, и я поняла, как это можно сделать. Прошу
тебя,
сестра, пожалуйста! Без тебя мне далеко не уйти: шофер автомобиля меня
задержит.
А вместе с тобой не посмеет! Выход там совсем близко. О Боже, будь я на
твоем
месте, так только меня бы и видели!
Сострадание к этому несчастному существу переполняло душу Лизы.
— Взгляни, что со мной сделали! — продолжала та. — Пощупай мою спину!
Пока тонкие Лизины пальцы ощупывали спину девушки, та поминутно
вздрагивала от
боли. Спина была покрыта узловатыми рубцами; вероятно, ее варварски
избивали
бичом или плетью.
— А мои бедные руки! — Девушка подняла руки, и широкие рукава хитона
скользнули вниз. От запястий до локтей руки были сплошь покрыты шрамами
от
надрезов.
— Я не хотела делать то, что они велели, — жаловалась девушка, — это был
настоящий кошмар! Ты бы никогда не подумала, что женщина способна на
такое, но
это так! Сестра Кибела — самая жестокая из всех. Послушай меня, бежим!
Прочь из
этого мерзкого дома! То, что происходило при этом с Лизой, было больше,
чем
истерика. Она не могла выразить своих чувств; ей внезапно открылся мир,
более
глубокий, чем любые чувства. И это был ее мир, ее собственное внутреннее
«Я», до
сих пор от нее скрытое. Пытаясь выразить его волю, она заговорила, и ее
слова
были полны самого безысходного отчаяния:
— Я не могу бросить Сирила Грея.
— Его-то я и боюсь больше всех! — призналась девушка. — Я тоже любила
его.
Но два дня назад, когда я, думая, что он все еще меня любит, подошла к
нему, он
рассмеялся и велел выгнать меня плетьми! Я прошу тебя, давай убежим!
— Не могу, — с трудом выговорила Лиза, — беги одна. Возьми мое платье и
дай
мне свой хитон. Шофер примет тебя за меня. Вели ему ехать в
«Гранд-отель», там
спросишь Лавинию Кинг; завтра я пришлю тебе записку и не много денег,
если у
тебя нет. Но я — я не могу. Последние слова упали, как тяжелые талые
капли с
заиндевевших кинжалов души Лизы.
Девушка быстро переоделась в ее платье, затем набросила на неё свой
белый хитон;
Лиза даже не заметила этого символического акта, готовая скорее
предстать
обнаженной перед тысячей МУЖЧИН, чем выйти в этом наряде позора.
Нежно поцеловав Лизу в лоб, девушка исчезла за белой занавесью. Лиза
слышала,
как хлопнула дверь, и ощутила ток холодного воздуха, проникшего в
часовню. Она
вдруг почувствовала слабость, как после выпитого вина; дальше она ничего
не
помнила, возможно, потому, что заснула. Придя в себя из какого-то
сумеречного
состояния между сном и явью, она почувствовала необычный запах, чем-то
напоминавший о море. С удивлением она обнаружила, что физически
чувствует себя
неплохо; душа, правда, по-прежнему была пуста, однако окружающая
обстановка
больше не удивляла ее. Она выпрямилась и начала разводить руками,
припоминая
одно за другим упражнения физической гимнастики. И вот, когда она в
десятый раз
дотянулась руками до пальцев ног из положения стоя, дверь за ее спиной
открылась, и вошла сестра Кибела.
— Пора, сестрица, — объявила она, — через три минуты начнет светать; нам
надо
проделать солнечный ритуал, а потом можно идти завтракать!
К Лизе немедленно вернулись все ночные страхи. Однако ее истинное «Я»
уже было
укрыто он них в самой глубине ее существа; и даже вопрос, как ей следует
реагировать на это, едва возникнув, показался малозначащим и далеким.
Лиза вдруг
подумала, что она просто-напросто умерла этой ночью. Она молча
последовала за
сестрой Кибелой, как приговоренный к казни следует за своим палачом.
Вдвоем они поднялись по винтовой лестнице и попали в просторный зал
округлой
формы; там собралось несколько десятков членов Ордена в разноцветных
хитонах. У
восточной стены, в которой было устроено окно-эркер, ловившее первые
лучи
Солнца, Лиза разглядела Саймона Иффа; он стоял, обратив взор к Восходу,
ожидая
появления Солнца.
Вот луч Солнца коснулся его лица, и он начал:
- О Ра, чья ладья рассекает тьму!
Слава живому Огню Твоему.
Слава и Силе, и Воле Твоей,
Слава Тебе до скончания дней.
Тот па носу, Ра-Гор-Хайт у руля –
Лодку рассвета встречает Земля!
Долгая темная ночь позади –
Животворящее Солнце, взойди!
Лизе почудилось, что все собрание, слившись в едином жесте, которым
Саймон Ифф
сопроводил свои последние слова, вдруг воспарило в какие-то невидимые
сферы,
недоступные се пониманию. Все это показалось ей массовым психозом, и она
даже
зубами заскрипела при мысли о том, какими же лицемерами должны быть эти
пособники дьявола.
Но в тот же миг царившее в зале напряжение схлынуло, как морская волна,
набежавшая на песчаный берег. Лиза увидела спешащую к ней девушку.
— Ты была великолепна, сестра! — сказала та, кладя исполосованные
шрамами
руки ей на плечи. Это была та самая девушка, с которой она говорила
ночью.
— Тебе не удалось бежать? — недоуменно пробормотала Лиза.
Ее прервал веселый смех девушки.
— Я прощаю тебе, что ты помешала мне выполнить план - весело сказала та.
—
Да-да, мне дают план: я должна отваживать пятерых из шести.
Лиза все еще ничего не понимала. Но тут подошла сестра Кибела и
поцеловала ее, и
Сирил Грей уже был рядом, сообщая ночной девушке, что вообще-то право
поцеловать
Лизу первым принадлежит ему...
И тут весь мир вокруг нее будто растаял.
Подошел Саймон Ифф, и руки его были раскрыты.
— Поздравляю тебя, сестра, — торжественно произнес он – Со вступлением в
наш
священный Орден. Ты вполне заслужила этот хитон, который надет на тебе,
потому
что сполна за него заплатила — помогла другому человеку, не думая, чем
это могло
обойтись тебе самой. А теперь пора и разговеться!
И, взяв Лизу за руку, он повел ее в трапезную. Все снова расселись по
местам,
точно в пустом зеркале повторяя вчерашнюю сцену. И, прежде чем Лиза
сумела до
конца осознать переворот, свершившийся в ее жизни, сестра Кибела
поднялась на
ноги и провозгласила:
— Что Хочешь, То Делай: вот весь Закон.
Этот завтрак показался Лизе самым вкусным из всего, что она когда-либо
ела.
Ее внутреннее напряжение спало; события последних двадцати четырех часов
дали
мощную реакцию. За эти сутки она успела прожить целую жизнь; можно было
и
вправду сказать, что она умерла — и родилась заново. Она чувство вала
себя
маленьким ребенком. Ей хотелось забраться к каждому на колени и
прижаться к
нему. Детская, чистая вера в человека вдруг вернулась к ней; мир виделся
ей
таким же простым, каким он видится великим поэтам — ведь в каждом из них
живет и
радуется вечное дитя. Но больше всего ее удивляло собственное прекрасное
самочувствие и энергия. Она пережила трудный, страшный день и ночь,
полную
адских мучений; и все же она была поразительно бодра, весела, настроение
было
ровным, а в каждом движении, от улыбки при произнесении слов до глотка
кофе из
чашки, чувствовались ловкость и легкость.
За этим завтраком все приводило ее в восторг. Она никогда раньше не
думала, что
даже бутерброд, если воспринимать его правильно, бодрит лучше любого
бренди.
После завтрака она не могла передвигаться иначе, как танцуя: ноги сами
несли ее.
«Танец — или ничего!» — говорила она себе.
Потом она каким-то образом снова очутилась в «часовне ужасов». На алтаре
лежал
пучок можжевельника, и солнечный свет, проникавший через вершину свода,
окрашивал пламенеющие колючки в цвета дня.
За алтарем стоял Саймон Ифф. Сирил Грей стоял по правую, сестра Кибела —
по
левую руку от Лизы. Они сомкнули над ней свои руки.
— Сейчас мы завершим формальную часть твоего посвящения, — сказал старый
маг. — Повторяй за мной: «Я, имярек...»
— Я, Лиза Ла Джуффриа...
— "Торжественно клянусь посвятить себя...»
Лиза повторила.
— «Поиску своего истинного Я в этой жизни».
Точно эхо, отозвался на это голос Лизы.
— Да будет так! — заключили трое остальных.
— Принимаю тебя в Орден, — проговорил Саймон Ифф. — Утверждаю тебя в
праве
ношения этого хитона, которое ты заслужила; приветствую тебя десницей,
положенной свите, и ввожу тебя во врата Великого Делания.
Взяв Лизу за руку и не отпуская, он вывел ее из часовни.
Они прошли через трапезную и вошли в еще не знакомое Лизе помещение. Оно
было
оборудовано как библиотека, и ничто в нем не напоминало о Магике.
— Это Зал Учебы, — сказал Саймон Ифф, — здесь начинается работа. И, хоть
он
и выглядит сравнительно безобидно, этот зал в тысячу раз опаснее, чем та
часовня, испытание которой ты выдержала с честью.
Лиза села и приготовилась слушать наставление, которое, как она
полагала, должно
определить всю ее последующую жизнь.
— Брат Сирил! — произнес тогда старый мистик очень серьезно, — я решил
продолжать эту работу, и мои меры предосторожности будут во сто крат
строже
обычного, как если бы мы и вправду могли рассчитывать на поражение, а не
на
победу.
Но имей в виду, что все, что ты делаешь, не будет иметь смысла до тех
пор, пока
ты будешь делать это только ради себя самого или ради любящих тебя
женщин. Это —
победа над тобой не женщины даже, а того эмоционального Хаоса, которому
легче
всего проникнуть в тебя именно через нее. Пойми, что женщина есть лишь
моментальная радость, это даже не поэзия; она — лишь женское начало в
приправе к
Бытию; и я не собираюсь облегчать тебе жизнь, соглашаясь, что это верно
для всех
мужчин, а не для одного тебя, слишком увлекшегося этой приправой!
— Неужели женщины все так мерзки? Ради чего же они тогда были созданы? -
возмущенно вопросил Сирил. В тот момент он не понимал, что его реакция
обусловлена чисто подсознательными влечениями. Однако Саймон Ифф ответил
ему
точно отмеренной насмешкой:
— Я не настолько образован, чтобы уметь таким образом разрешать тайны
Вселенной. Однако я, тем не менее, как и сэр Исаак Ньютон...
Взглянув на Сирила и увидев в его глазах с трудом сдерживаемый гнев,
старый маг
решил не продолжать.
Глава VIII
О ГОМУНКУЛУСЕ;
ЗАВЕРШЕНИЕ РАССУЖДЕНИЙ
О ПРИРОДЕ ДУШИ
Сейчас я буду говорить вещи, которые тебе решительно не понравятся, -
произнес
Саймон Ифф, обращаясь к Лизе, и легко было заметить, что каждое его
слово
тщательно взвешено. — Я сделаю все возможное, чтобы умерить твой пыл.
Потому что
хочу, чтобы ты прошла весь Путь с самого начала, постепенно поднимаясь
по
ступеням успеха, а не растратила все силы на первый рывок и потом
остановилась
на полдороги.
Я хочу, чтобы ты училась действительно из любви к знанию, а не из любви
к брату
Сирилу. И скажу тебе честно: я знаю за тобой склонность к крайностям и
опасаюсь
ее. Эмоциональность хороша для рывка, а рывком не возьмешь никакую
науку. Тебе
понадобится не только бесконечное терпение, но и полное безразличие ко
всему, к
чему успело привязаться твое сердце.
Впрочем, нет, это будет уже чересчур. Старику ведь всегда надо поругать
молодых
за невоздержанность. Итак, продолжим.
Я продолжу наш разговор о душе. Ты помнишь, к каким мы тогда пришли
выводам;
казалось бы, эти выводы позволяют ответить на самые трудные вопросы. Мы
признали
душу реальной физической субстанцией, поверхность или, лучше сказать,
границу
которой назвали «телом» и «разумом». И тело, и разум тоже реальны;
однако они
суть лишь части души, причем одни из очень многих, подобно тому, как
какой-то
эллипс или гипербола представляют собой лишь одно из многочисленных
сечений
конуса.
Мы можем продолжить нашу аналогию с низшими измерениями. Как трехмерные
тела
могут получить представление друг о друге? Почти исключительно через
соприкосновение их поверхностей! Исключение составляет лишь химия,
которую мы с
полным основанием можем признать четырехмерной наукой — вспомни о таких
вещах,
как эффект поляризации или феномен геометрической изометрии, — все
остальные
контакты трехмерных тел осуществляются через поверхность.
Если теперь продолжить эту аналогию, как мы уже делали прежде, то как
будет
происходить контакт между четырехмерными телами? Точно так же, путем
соприкосновения их граничных областей. Иными словами, «душа с душою
говорит»
через посредство ума и физического тела.
Банально? Вероятно; однако я употребляю эти слова в их абсолютно
буквальном
смысле. Одна линия может узнать другую лишь через точку их
соприкосновения;
плоскость узнает плоскость через линию пересечения обеих. Куб получает
сведения
о другом кубе, соприкоснувшись с ним плоскостями, а душа о душе —
соприкоснувшись с нею мыслями и чувствами.
Мне хотелось бы, чтобы ты ощутила это всеми фибрами своего бытия; для
меня этот
тезис очень важен, возможно даже, важнее всего на свете, и для брата
Сирила
тоже, причем безо всяких указаний с моей стороны, так что ты можешь им
гордиться. Хинтон, Роза Болл и другие заложили основы этого тезиса,
однако
именно брат Сирил первым вдумался в его смысл, а потом и ввел в
оккультный
научный оборот.
— О нет, эта честь по праву принадлежит Махатхера Пхангу, — горячо
возразил
Сирил.
— Когда я стал доказывать ему, что душа имеет метафизическую природу,
это
вызвало у него такой жизнерадостный смех, что я моментально осознал свою
глупость. Конечно, ведь в Природе везде царит один и тот же порядок!
— Во всяком случае, — продолжал Ифф, — благодаря этой теории Сирила
список наших
кандидатов сразу сокращается намного, очищаясь от любителей
метафизических
спекуляций. Уходят все никчемные споры о «добре» и «зле», о реализме и
номинализме, о свободе воли и предопределении, — короче, все эти
надоевшие «-
измы» и «-ологии»! Жизнь сводится к простым математическим формулам, как
о том
мечтали ученые викторианской эпохи; в то же время математика возвращает
себе
свое царское достоинство как не только точная, но и возвышеннейшая из
наук. От
этого имеющийся порядок вещей становится естественным и необходимым, а
такие
«высоконравственные» проблемы как безжалостность органической жизни
вновь
сокращаются до своих истинных, то есть исчезающе мало значимых
масштабов.
Сокращается и эта — почти уже забавная! — антиномия между внушительными
размерами человека по сравнению с большинством существ окружающего
живого мира и
его, извините, интеллектом; и, хотя тайна Космоса по-прежнему остается
нераскрытой, становится ясно, что она, эта тайна, в конечном итоге
рациональна,
и что это не может быть ни безнравственно, ни обидно.
Но обратимся теперь к одному вполне практическому моменту. Пусть у нас
есть
душа, опасающаяся прямых контактов с другими душами. Она способна
решиться на
такое только через фильтр некоего доступного ей ума или тела. И вот,
если
вернуться к нашему конусу, ты легко заметишь, что любое сечение его дает
лишь
одну из трех правильных кривых. Такое сечение никогда не совпадет,
например, с
квадратом, как его ни верти. Поэтому наша душа будет вынуждена искать
такой ум,
который совпал бы с его сечением. Возможностей тут, конечно, много, и в
этом
никто не сомневается; тем более, что и ум не стоит на месте в своем
развитии,
принимая все новые формы. Но контакт — это нечто иное. Если я как
бесплотная
душа пожелаю вступить в контакт с другой душой, одна из частей которой
управляет
телом профессора Оксфордского университета, то мне нет никакого смысла
воплощаться в тело гот
тентота.
Сирил недоверчиво хмыкнул.
— Хорошо, отвлечемся на минуту, — продолжал старый маг. — Возьмем уже
«воплощенную» душу, как это принято называть. Всякое воплощение есть
результат
действия трех сил: самой души, наследственности и условий окружающей
среды.
Догадливая душа наверное вы берет себе такой зародыш, у которого шансов
по двум
последним позициям больше. Она проверит, хорошего ли он рода, и
действительно ли
его будущие родители намерены — и способны! — предоставить своему чаду
возможность развиваться свободно. Ты помнишь, как мы говорили, что
всякая душа
есть в некотором роде «гений», ибо ее мир настолько несоизмеримо больше
нашего,
что одной лишь искры ее Знания достаточно, чтобы из нее возгорелась
новая эпоха
в жизни человечества.
— Однако наследственность и окружение, по-моему, чаще всего как раз
ограничивают эту искру гения. Бутылка ведь сама не пьянеет, даже если
она полна
виски.
— Значит, нам придется признать, что между душами существует нечто вроде
соревнования за овладение раз личными телами и умами; или, возвращаясь к
предыдущему эпизоду, различными зародышами. Ты, наверное, догадалась,
что из
этого следует вывод, весьма неутешительный для теории инкарнации: душа
не помнит
того, что было с нею «в последний раз». Да и к чему было бы конусу
помнить о
взаимосвязях между его различными кривыми? Они для него настолько, мало
значимы,
что ему даже в голову не приходит задуматься об этом. Хотя определенное
сходство
между некоторыми кривыми (или, в нашем случае, жизнями) может навести,
на мысль,
что они исторически связаны, точно так же, как стихотворения одного
поэта
связаны между собой стилистически, независимо от того, пишет ли он о
войне или о
любви.
Теперь ты видишь, что эта теория попросту лишает смысла все идиотские
рассуждения
о том, «на какой планете какие души обитают», а тем более НЕ обитают. Да
для нас
любая пылинка, любая полоска водорода в спектре очередного солнца есть
важнейший
признак присутствия там частички жизни!
И здесь мы несколько неожиданным образом смыкаемся не с одним даже, а с
несколькими взглядами розенкрейцеров. Можно вспомнить некоторые из
экспериментов, проводившихся этими нашими предшественниками. Правда,
представления о душе у них были несколько иными, да и изъяснялись они
отличным
от нашего языком; однако им непременно хотелось создать человека,
который не был
бы «ограничен» наследственностью, а уж окружение они бы постарались ему
обеспечить.
Начали они с парафизики, то есть с отказа от естественного зачатия,
сколь
решительно, столь и бесповоротно. Они выделывали фигурки из латуни,
пытаясь
вселить в них жизнь, то есть душу. В старинных трактатах говорится, что
некоторые из этих попыток были даже успешны — так, лорду Бэкону удалось
вывести
таким образом живого Гомункулуса; это удавалось также Альберту Великому
и еще,
по слухам, Парацельсу. Правда, под конец Парацельсу на острие магической
шпаги
явился черт, «открывший славнейшему доктору все хитрости и трюки
шарлатанов
прежних и новых» (хотя тут Сэмюэл Батлер, возможно, и привирает, ведь он
сам был
шарлатан не из последних).
Это, впрочем, не остановило других магов, искавших кратчайшие пути к
возможно
естественному созданию Гомункулуса. Разыскивая и определяя
способствующие тому
факторы, они пытались воспроизвести или видоизменить их при помощи
телесматических или симпатических средств. Так, например, девятиконечная
звезда,
которую издревле считают символом Луны, должна была притягивать
последнюю —
разумеется, не Луну как таковую, а то, что они под ней понимали, то есть
некий
архетип, идею сродни поэтической. Воздействуя на объект при помощи
подобных
символов, а также соответствующих им трав, металлов, талисманов и тому
подобного, и ограждая объект от нежелательных влияний при помощи
аналогичных
методов, они надеялись привить ему желаемые свойства (в нашем примере —
«лунные»). Я намеренно упрощаю картшгу, чтобы ты сразу поняла смысл
этой, в
общем-то, чрезвычайно сложной работы. Вот, и шаг за шагом они, таким
образом,
отыскивали способы создания Гомункулуса.
— Что такое человек? — спрашивали они. — Всего лишь оплодотворенное
яйцо, как
следует высиженное. Наследственность тут, конечно, тоже играет роль,
однако лишь
подчиненную. Что же до окружения, то они готовы были создать любое,
какое только
было в их силах, чтобы зародыш был «высижен» как следует, как это и до
сих пор,
собственно, делают наседки. Но далее! — и тут наступает момент весьма
критический, далее они полагали, что, обеспечив все эти условия в
специально
выбранном месте, защищенном при помощи магии от любых нападений извне и
освященном, опять-таки при помощи магии, то есть путем призывания
определенной
потусторонней силы, некоего надчеловеческого существа, допустим, ангела
или
архангела (а у них были в запасе заклинания, позволявшие, как они
думали, это
сделать), им удастся добиться появления на свет существа, владеющего
неограниченным знанием и могуществом, которое сможет внушить Свет и
Истину всему
миру.
Закончить же это свое рассуждение я хотел бы тем, что идея Гомункулуса в
том или
ином виде была известна почти во всем мире; мечта о Мессии или
Сверхчеловеке
существовала всегда, и люди всегда искали возможности произвести на свет
такого
особого человека при помощи волшебных или хотя бы необычных средств.
Греческие и
римские легенды полны историй, где почти в открытую говорится об этом;
зародились они, судя по всему, где-то в Малой Азии или Сирии. Там
принцип
экзогамного брака был возведен в степень самую крайнюю, почти до
сметного. Я уж
не стану напоминать тебе о подготовке рождения мага у персов или о
правилах
египтян касательно брака фараонов... или о том, как магометане
намеревались
отметить Тысячелетие своей веры. Об этом последнем случае я, кстати,
рассказал
брату Сирилу, и идея ему понравилась; впрочем, на пользу ему это не
пошло, и мы
в преддверии нашего Великого Эксперимента чуть было не ступили снова на
ложный
путь!
— Это называется: подкалываю, чтобы подбодрить, улыбнулся Сирил.
— Теперь сведем это все к единому знаменателю, — продолжал старый
мистик. —
Греки, как тебе известно, практиковали нечто вроде евгеники. (Вообще все
писаные
и неписаные законы о родовых, религиозных, династических и тому подобных
браках
по замыслу своему — чистая евгеника.) Однако греки так же, как и
средневековые
маги со своим Гомункулусом, о чем мы уже говорили, придавали огромное
значение
условиям, окружающим будущую мать во время зачатия. Ей рекомендовали
созерцать
лишь самые прекрасные статуи, читать лишь самые лучшие книги. Магометане
же, по
сравнению с чьими наши христианские обычаи брака выглядят не более чем
случкой
скота, заключали женщину на это время в ее покоях, избавляя от всяких
внешних
забот и даже от посещений супруга.
Все это прекрасно, однако не идет ни в какое сравнение с последним
бредовым
замыслом Сирила. Если я правильно понял его, он намерен совершить акт
зачатия
самым естественным и обыкновенным образом, подобрав наследственность и
создав
все условия, способные приманить некую определенную душу, а потом
отправиться на
поиски этой души в четвертое измерение!
Так мы получим вполне нормальное дитя, которое в то же время будет
гомункулусом
в старинном смысле слова.
Поэтому он попросил меня предоставить в твое распоряжение орденскую
виллу в
Неаполе.
Лиза низко склонила голову, закрыв пылающее лицо руками.
Наконец она медленно выговорила, обращаясь к старому магу:
— Ты-то сам понимаешь, что просишь меня отказаться от всего, что есть во
мне
человеческого?
Она не стала притворяться, что не поняла истинного смысла сделанного ей
предложения, чем еще больше расположила к себе Саймона.
Помолчав некоторое время, он ответил:
— Это верно. Я не подумал об этом. Боже, как я глуп! Разумеется, любой
женщине с ее здоровым консерватизмом подобный эксперимент не мог не
показаться
«бесчеловечным». И все же смысл нашего плана совсем иной. Никто не
намерен ни
унижать тебя, ни понуждать к чему бы то ни было. Но я тебя понимаю, это
вполне
естественная реакция — нежелание обсуждать вещи, которые принято считать
святыми.
— Те-те-те, моя память в последнее время совсем меня подводит, —
неожиданно
вмешался Сирил. — Кто-нибудь помнит, сколько процентов детей родилось в
шестьдесят первом году слепыми?
Лиза вскочила на ноги. Она не понимала, зачем ему понадобилось говорить
это,
однако его слова подействовали на нее как укус гадюки.
— Брат Сирил! — вступился за нее Саймон Ифф, укоризненно покачивая
головой.
— Ты опять прибегаешь к сильнодействующим средствам! Никогда не следует
торопить
результаты.
— Терпеть не могу ходить вокруг да около. Поэтому я произношу то, чего
человек по крайней мере не забудет.
— Не забудет или не простит? — мягко пожурил его Саймон. — И все же, —
продолжил он, вновь обращаясь к Лизе, — сядь пока и не волнуйся. Как бы
то ни
было, он сказал правду, а боль, причиненная правдой, лишь ускоряет
исцеление.
Печально, но это факт: тысячи детей рождаются слепыми, однако некоторые
факты не
принято обнародовать, особенно если речь идет об уродствах; мало того,
даже
профилактические меры против этих уродств объявляют «бесчеловечными». На
самом
деле Сирил просит тебя лишь совершить нечто большее, чем-то, чего желает
твое
сердце: он хочет, чтобы твое будущее дитя стало величайшим подарком
человечеству, таким, какого оно еще не знало. Ты только представь себе,
что вам
удастся привлечь душу, которая найдет способ избавить людей от нищеты,
или
излечивать рак, или... О, я уверен, что ты уже видишь эти сверкающие
горные
вершины, на пути к которым людей не остановит никакая лавина!
Лиза вновь поднялась, однако настроение ее было уже совсем иным.
— Я верю — всегда верила, — что ты благородный человек, Саймон, —
медленно
произнесла она. — Поэтому то, что ты предлагаешь — честь для меня, и
немалая.
Сирил не удержался и обнял ее:
— Значит, ты поедешь со мной в Неаполь? На виллу, которую предоставляет
нам
Учитель?
Лиза взглянула на Учителя, улыбаясь, хотя и несколько криво:
— Пожалуй, я знаю хорошее название для этой виллы:
«Сачок для Бабочки»! Впрочем, это шутка.
Простак Саймон рассмеялся вслед за ней, как ребенок. Тонкая шутка Лизы
была из
тех, что особенно ему нравились; намек же на классическую китайскую
притчу о
бабочке как символе души показал ему, что Лиза на самом деле образована
гораздо
лучше, чем могло показаться на первый взгляд.
Сирилу же не терпелось перейти к делу.
— Мы топчемся на месте, — быстро проговорил он, — забывая об
осторожности. А
ведь мы уже где-то допустили ошибку, ты и сам знаешь! — и теперь Черная
Ложа
идет по нашему следу. Или как, по-твоему, нам следует понимать события
вчерашнего дня? — закончил он с некоторым нажимом, напомнившем о его
прежней
воинственной непримиримости ни с кем и ни с чем.
— Да, ты прав, — задумчиво отозвался Саймон, — пора браться за дело по-
настоящему.
— Пока ты была в часовне, мы как раз говорили об этом, — признался
Сирил. —
И поняли, что первое и главное для нас сейчас — это обеспечить защиту.
Ну, а
лучший вид защиты, как известно, это нападение; однако когда противник
заметит,
что на него напали, тебе нужно как можно скорее удалиться от того места,
которое
ты защищаешь, чтобы самому не стать мишенью... И в первую очередь это
касается
тебя, Лиза! — обратился Сирил к своей возлюбленной. — Саймон — только
капитан
команды , правда, вынужденный иногда играть за полузащитника, но все
равно у нас
уже есть команда, и притом замечательная. Так что в принципе все в
порядке.
Анализ целей противника показывает, что ему хочется не чего-нибудь, а
выиграть
кубок Парижа. Что ж, пусть попробует; мы будем держать мяч на их стороне
поля
оба тайма, и, пока они будут с ним возиться, мы спокойно поживем годик
на вилле
в Италии.
— Я не понимаю этого футбольного жаргона. Лучше объясни мне, зачем
кому-то
понадобилось вмешиваться в наши дела. Неужели им мало своих?
— Я понимаю, что тебе это кажется нелепым, ноты-то судишь уже с
высокофилософской точки зрения. А на бытовом уровне все это достаточно
ясно. Это
— логика вора, которому мешают электрические лампы и сигнализация. Легко
понять,
что умный вор станет голосовать против тех депутатов городского совета,
которые
собираются увеличить ассигнования на науку. Ведь ученые способны
придумать еще
что-нибудь, что затруднит ему «работу».
— В. чем же состоит «работа» ваших противников?
— В общем и целом речь идет скорее об эгоизме, хотя это слово, к
сожалению,
стало ругательным и потому может лишь затемнить для тебя суть дела. В
сущности,
мы не менее эгоистичны; только мы понимаем, что вещи, находящиеся за
пределами
нашего сознания, тоже составляют часть его. Так, я сознаю, например,
что, желая
познать какую-то иную душу, иное тело, иную идею, я должен отождествить
себя с
ними, сняв преграду между моим «Я» и «не-Я», Возвращаясь к примеру с
конусом,
можно было бы сказать, что я, как вода, стараюсь усвоить форму как можно
большего количества кривых, чтобы познать целиком весь конус. Маг же,
принадлежащий к Черной Ложе, держится лишь одной своей излюбленной
кривой,
провозглашая ее главной над всеми остальными; и, конечно, в тот момент,
когда
конус целиком уйдет под воду, пропадет и он со своей кривой: буль! — и
нету.
— Смотри, каков поэт! — отозвался на это Саймон Ифф. — Кто-кто, а брат
Сирил
высоко себя ценит; во всяком случае, его замысел продолжения рода
предполагает
раскрытие красоты, живущей в его душе, перед всем миром, чтобы другие
души могли
воспринять ее свет. Черный же маг, наоборот, скрывает все; он никогда и
ничем не
станет делиться. Так даже его знания со временем канут в Лету.
— Но у вас ведь общество тоже тайное! — заметила Лиза.
— Да, но лишь для того, чтобы нам не мешали. Мы запираем двери, чтобы не
лезли профаны со своими дурацкими советами, точно так же, как хороший
хозяин
запирает двери на ночь, чтобы не забрались жулики и бродяги... Скорее
даже, как
библиотека, требующая от читателей соблюдения определенных правил. Мы
тоже не
хотим, чтобы всякие дикари грязными руками шарили в уникальных рукописях
и
вырывали страницы из наших книг. Люди пустые любят разглагольствовать о
знаниях,
которые сами по себе открыты всем; однако в них есть тайна, охраняемая
лучше
всех других тайн на земле, и охраняет ее тот простой факт, что для
освоения даже
маленькой части этих знаний человеку, призови он хоть весь свет на
помощь,
придется потратить целую жизнь.
Тайну нашей Магики мы охраняем не менее, но и не более строго, чем иные
наши
коллеги — тайну своей физики; лишь профанам всегда «не терпится», хотя
им
известно, что для овладения даже таким простым инструментом, как
микроскоп,
требуются годы учебы, — и они возмущаются, когда мы отказываемся за
час-другой
научить их пользоваться заклинаниями.
— Или требуют, чтобы им сначала доказали, что они действуют.
— Вот-вот, именно те и требуют, кто никогда не и чал, как ими
пользоваться.
Я, например, могу читать Гомера в подлиннике, но доказать это сумею лишь
тому,
кто тоже знает древнегреческий язык. Если он не знает его, я должен буду
сначала
научить его древнегреческому; однако и тогда ему понадобится некто
третий, тоже
знающий этот язык, чтобы подтвердить правильность его познаний, и так
далее.
|