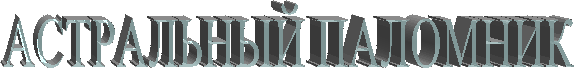|
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÆąŠą╗čćčīčÅ čģą▓ą░čéą║ą░
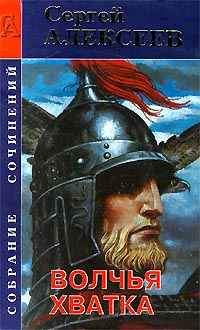
┬½ąÆąŠą╗čćčīčÅ čģą▓ą░čéą║ą░┬╗: ą×ą╗ą╝ą░‑ą¤čĆąĄčüčü; 2000
ISBN 5‑224‑01371‑2, 5‑224‑01369‑0
ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ
ąĀąŠą╝ą░ąĮ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĖčüą░č鹥ą╗čÅ, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓čüąĄ
ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖąĄ ąĄą│ąŠ ą║ąĮąĖą│ąĖ, ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ąĄčé ąŠčüčéčĆčŗąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĖ ąĄčæ
čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĄą│ąŠ ą┤ąĮčÅ. ąŚą░čģą▓ą░čéčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ čĆą░ąĘą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ąĮą░ čüčéčĆą░ąĮąĖčåą░čģ
čĆąŠą╝ą░ąĮą░: čģąŠąĘčÅąĖąĮ ąŻčĆąŠčćąĖčēą░ ŌĆö ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīąĄą╣ ą▒ą░ąĘčŗ, ŌĆö ą▒čŗą▓čłąĖą╣ čüą┐ąĄčåąĮą░ąĘąŠą▓ąĄčå,
┬½ą░čäą│ą░ąĮąĄčå┬╗, ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĖčé ą║ čüčéą░čĆąĖąĮąĮąŠą╝čā čüąŠčüą╗ąŠą▓ąĖčÄ čĆą░čéąĮąĖą║ąŠą▓‑ą░čĆą░ą║čüąŠą▓,
ąĘą░čēąĖčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą×č鹥č湥čüčéą▓ą░, ąĮąĄą║ąŠą│ą┤ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą▓čłąĖčģ ąŚą░čüą░ą┤ąĮčŗą╣ ą¤ąŠą╗ą║
ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ąĪąĄčĆą│ąĖčÅ ąĀą░ą┤ąŠąĮąĄąČčüą║ąŠą│ąŠ. ąÜą░ą║ąŠą▓ ąŠąĮ čüąĄą╣čćą░čü, ą║ą░ą║ ąČąĖą▓čæčéčüčÅ ąĖ
čüą╗čāąČąĖčéčüčÅ ą░čĆą░ą║čüčā ą▓ ąĮą░čłąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ?
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÆąŠą╗čćčīčÅ čģą▓ą░čéą║ą░
1
ąĀą░čüą┐čÅčéčŗą╣ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ čĆčāą║ą░ą╝ ąĖ ąĮąŠą│ą░ą╝,
ąŠąĮ ą▓ąĖčüąĄą╗ ą▓ čéčĆąĄčģ ą╝ąĄčéčĆą░čģ ąĮą░ą┤ ą┐ąŠą╗ąŠą╝ ąĖ ąŠčéą┤čŗčģą░ą╗, čüą╗ąĄą│ą║ą░ ą┐ąŠą║ą░čćąĖą▓ą░čÅčüčī,
čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ ą│ą░ą╝ą░ą║ąĄ. ąØą░čéčÅąČąĄąĮąĖąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ čüąĖą╗čīąĮčŗą╝, čćč鹊 ąĀą░ąČąĮčŗą╣
ąĮąĖčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą▓ąĖčüą░ą╗ ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ą▓ąŠąĘą┤čāčģ ą┐čĆčāąČąĖąĮąĖčé ą┐ąŠą┤ čüą┐ąĖąĮąŠą╣,
ą║ą░ą║ ą▒ą░čéčāčé, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéčī ą│ą╗ą░ąĘą░, ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčēčāčéąĖčéčī čćčāą▓čüčéą▓ąŠ ą┐ą░čĆąĄąĮąĖčÅ.
ąĪčāčģąŠąČąĖą╗ąĖčÅ ąĖ ą║ąŠčüčéąĖ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čāąČąĄ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ą╗ąĖ ą║ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╝čā ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ, ąĖ
č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čüčāą┤ąŠčĆąŠąČąĮąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĖ ąŠąĮ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ ą╗čæą│ą║ąŠąĄ, čēąĄą╝čÅčēąĄąĄ
čüą╗ą░ą┤ąŠčüčéčĆą░čüčéąĖąĄ, č湥ą╝‑č鹊 ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēąĄąĄ ą┐čĆąĖčÅčéąĮčāčÄ ą╗ąŠą╝ąŠčéčā ą▓ ą╝čŗčłčåą░čģ ąĖ
čüčāčüčéą░ą▓ą░čģ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠčéčÅą│ąĖą▓ą░ąĄčłčīčüčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čüą╗ą░ą┤ą║ąŠą│ąŠ čüąĮą░. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠčģąŠąČąĄčüčéčī
ą▒čŗą╗ą░ ą╗ąĖčłčī ą▓ ąŠčēčāčēąĄąĮąĖčÅčģ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čŹč鹊 čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĖąĮčāčÄ
ą┐čĆąĖčĆąŠą┤čā ąĖ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠą╝ (čü čāą┤ą░čĆąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ čüą╗ąŠą│),
čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮą░čÅ ą┐ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĮą░čÅ čäą░ąĘą░, ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāą▓ ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╣
ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖ 菹ĮąĄčĆą│ąĄčéąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą▓ąĘčĆčŗą▓, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą┐ąŠą▓ą░ą╗ąĖčéčī čüč鹊ą╗ąĄčéąĮąĄąĄ
ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ, ąĘą░ą┤ą░ą▓ąĖčéčī čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą╗čīą▓ą░ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ, čüą┤ą▓ąĖąĮčāčéčī ąĮąĄą┐ąŠą┤čŖčæą╝ąĮčŗą╣
ą║ą░ą╝ąĄąĮčī.
ąśą╗ąĖ, ąŠčéč鹊ą╗ą║ąĮčāą▓čłąĖčüčī ąŠčé ąĘąĄą╝ą╗ąĖ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčīčüčÅ
ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģŌĆ”
ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ą▓ąĄčēąĖ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ
ą┐čĆąŠą┤ąĄą╗čŗą▓ą░čÄčé ą▓ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ą░čäč乥ą║čéą░ ąĖą╗ąĖ ą▓ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą║čĆąĖčéąĖč湥čüą║ąŠą╣ čüąĖčéčāą░čåąĖąĖ,
čüąŠą▓ąĄčĆčłą░čÅ ąĮąĄą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą╗čīąĮčŗąĄ, ąĮąĄč湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąŠą╣ čüąĖą╗čŗ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ, ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĖčéčī
ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé. ąĪąĮąĖą╝ą░čÄčé čéčĆą░ą╝ą▓ą░ą╣ čü čĆąĄą╗čīčüąŠą▓,
ą┐ąĄčĆąĄąĄčģą░ą▓čłąĖą╣ čĆąĄą▒čæąĮą║ą░, ąĖą╗ąĖ ą┐čĆčŗą│ą░čÄčé ąĘą░ ąĮąĖą╝ čü ą▓čŗčüąŠčéčŗ ą┤ąĄą▓čÅč鹊ą│ąŠ čŹčéą░ąČą░ ąĖ
ąŠčüčéą░čÄčéčüčÅ ąČąĖą▓čŗ ąĖ ąĮąĄą▓čĆąĄą┤ąĖą╝čŗ. ąæčŗą▓ą░ąĄčé, ąĖ ą╗ąĄčéą░čÄčé, ą┤ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąŠ čüąĮąĄ ąĖ ą▓
ą┤ąĄčéčüčéą▓ąĄŌĆ”
ąŻą┐čĆą░ą▓ą╗čÅąĄą╝ąŠčüčéčīčÄ ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠą╝ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ
ąŠą▓ą╗ą░ą┤ąĄčéčī ą╗ąĖčłčī ąĮą░ čŹč鹊ą╝ čüčéą░ąĮą║ąĄ, ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĄ ą┤ąŠą╗ą│ąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čĆą░čüą┐ąĖąĮą░čÅ
čüąĄą▒čÅ ąĮą░ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠą╣ ą│ąŠą╗ą│ąŠč乥 ąĖ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ čüąĮą░čćą░ą╗ą░ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░čÅ, ą░
ąĘą░č鹥ą╝ čüąĮąĖąČą░čÅ ąĮą░ą│čĆčāąĘą║čā. ąĪčāčéčī čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĘą░ą║ą╗čÄčćą░ą╗ą░čüčī ą▓ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéąĖ
ąĖąĘą▓ą╗ąĄą║ą░čéčī ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčāčÄ čŹąĮąĄčĆą│ąĖčÄ ąĮąĄ ąĖąĘ ą╝čŗčłčå, čćą░čēąĄ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗčģ čüčĆąĄą┤ąĖ
ą░čĆą░ą║čüąŠą▓ čüčŗčĆčŗą╝ąĖ ąČąĖą╗ą░ą╝ąĖ, ąĮąĄ ąĖąĘ čŹč鹊ą╣ čĆčŗčģą╗ąŠą╣, ą│ą╗ąĖąĮąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą╣ ąĖ
ą╗ąĄą│ą║ąŠčĆą░ąĮąĖą╝ąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčéąĖ, ą░ ąĖąĘ ą║ąŠčüč鹥ą╣, ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ąŠąĘą│ąŠą╝, ąĖ čüčāčģąĖčģ ąČąĖą╗ ŌĆö
ąĘą░ą▒čŗč鹊ą│ąŠ, ąĮąĄą▓ąŠčüčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖ ąĮąĄąĖčüč湥čĆą┐ą░ąĄą╝ąŠą│ąŠ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēą░ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖ
ąČąĖąĘąĮąĄąĮąĮąŠą╣ čüąĖą╗čŗ. ąÜąŠčüčéąĮą░čÅ čéą║ą░ąĮčī ąĖ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ, ą╝ąŠąĘą│ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī
ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čéčī ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╣ ąĘą░ą┐ą░čü 菹ĮąĄčĆą│ąĖąĖ čüąŠą╗ąĮčåą░ (ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ, ąĖ čĆą░ą┤ąĖą░čåąĖąĖ),
ąĮąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čĆą░ąĘčāčćąĖą╗čüčÅ ą▓čŗčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ą░čéčī ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ąĄčæ, ąŠčéč湥ą│ąŠ
ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ ąŠą▒čĆą░čéąĮčŗą╣ čŹčäč乥ą║čé: ą┐ą╗ąŠčéčī ąŠčé ą┐ąĄčĆąĄąĮą░čüčŗčēąĄąĮąĖčÅ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠą╣
┬½ąĘą░ą╝ąŠčĆąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣┬╗ čüąĖą╗ąŠą╣ ą▒čŗčüčéčĆąŠ čüčéą░čĆąĄą╗ą░, ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čĆą░ą┤ąŠčüčéąĖ ą▒čŗčéąĖčÅ
čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĖ, ąĖ ą▓ąĄą║ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┤ą▓čāčģ, čéčĆąĄčģ čüąŠč鹥ąĮ ą╗ąĄčé
čüąŠą║čĆą░čēą░ą╗čüčÅ ą▓č湥čéą▓ąĄčĆąŠ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą░čĆą░ą║čüčŗ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ čüą░ąČčæąĮąĮčŗą╝ąĖ ą│ąĖą│ą░ąĮčéą░ą╝ąĖ čü
ą╝ąĄčéčĆąŠą▓čŗą╝ čĆą░ąĘą╝ą░čģąŠą╝ ą┐ą╗ąĄčć, ą║ą░ą║ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé čüąĄą▒ąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčŗčĆąĄą╣,
ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▓ č鹊ą╗ą┐ąĄ ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ąŠčüąŠą▒čŗą╝ č鹥ą╗ąŠčüą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝; čćą░čēąĄ
ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ąĖ čüčāčģąŠčēą░ą▓čŗą╝ąĖ ąĖ ąČąĖą╗ąĖčüčéčŗą╝ąĖ, ąĮąŠ čü čłąĖčĆąŠą║ąŠą╣ ą║ąŠčüčéčīčÄ.
ąś ąČąĖą╗ąĖ čéą░ą║ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ, čćč鹊 ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ
ą┐čĆčÅčéą░čéčī čüą▓ąŠą╣ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé.
ąĪą░ą╝ čéčĆąĄąĮą░ąČčæčĆ č鹊ąČąĄ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠą╝,
č鹊ą╗čīą║ąŠ čü čāą┤ą░čĆąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ą▓č鹊čĆąŠą╣ čüą╗ąŠą│, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ ŌĆö ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ąĖą╗ąĖ
ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąŠ, č鹊 ąĄčüčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąĖčĆą░, ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░,
ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čāą▓ąĄąĮčćą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąŠą╣, ą░čĆą░ą║čüčā ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą┐čĆą░ą▓ąŠ ąŠą▓ą╗ą░ą┤ąĄčéčī čŹčéąĖą╝
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄą╝. ąÆ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĖ čüčéą░ąĮą║ą░ č鹊čćąĮąŠ ąŠčéčĆą░ąČą░ą╗ąŠčüčī ąĄą│ąŠ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ ŌĆö
ą▓čŗą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ą┐ą╗ąŠčéčī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą▓ąĄčĆąĮčāčéčī ąĄčæ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ čüąĖą╗čŗ
ąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ, ą░ ąĘąĮą░čćąĖčé, ąĖ ąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ą┤čāčģąŠą▓ąĮčāčÄ čüčāčēąĮąŠčüčéčī. ąØą░ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣
ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤, ąŠąĮ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąŠčüčé, ą║ą░ą║ ą▓čüąĄ ą│ąĄąĮąĖą░ą╗čīąĮąŠąĄ: ą▓ č湥čéčŗčĆąĄčģ čāą│ą╗ą░čģ ą┐ąŠą▓ąĄčéąĖ ąĮą░
ą║čĆčÄčćčīčÅčģ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčłąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī č鹊čćčæąĮčŗąĄ ą┤čāą▒ąŠą▓čŗąĄ ą▒ą╗ąŠą║ąĖ, č湥čĆąĄąĘ ąĮąĖčģ ą┐čĆąŠą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖčüčī
ą╝čÅą│ą║ąŠ ą▓ąĖčéčŗąĄ, ąĮąŠ ą┐čĆąŠčćąĮčŗąĄ ąĖ ą┐čĆčāąČąĖąĮčÅčēąĖąĄ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ ąĖąĘ ą║ąŠąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠą╗ąŠčüą░, čü
ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ čåąĄą┐ą╗čÅą╗čüčÅ ą│čĆčāąĘ, čü ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ ŌĆö ąĘą░ą┐čÅčüčéčīčÅ čĆčāą║ ąĖ ą╗ąŠą┤čŗąČą║ąĖ ąĮąŠą│.
ą¦č鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčüąĖčéčī čüąĄą▒čÅ ąĮą░ čŹčéąĖ čĆą░čüčéčÅąČą║ąĖ, ąĮąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ą░ąČąĄ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĮąĖą║.
ą¤čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüčŗ ą▓ čāą│ą╗ą░čģ ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗čÅą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą▓čŗčüąŠč鹥 čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čüč鹊čĆąŠąČą║ąŠą▓,
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüą░ą┤ąĖą╗čüčÅ ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ą┐ąŠą╗ą░, ąĘą░ą║čĆąĄą┐ą╗čÅą╗ ąĮą░ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠčüčéčÅčģ ą║ąŠąČą░ąĮčŗąĄ
čģąŠą╝čāčéčŗ, ąĘą░č鹥ą╝ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čéčÅąĮčāą╗ ą▓čüąĄ č湥čéčŗčĆąĄ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ ąĮą░ čüąĄą▒čÅ. ąĪąĖą╗ą░
ą┐ą░ą┤ą░čÄčēąĄą│ąŠ ą│čĆčāąĘą░ ą▓ ąŠą┤ąĮąŠ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ą▓čüą║ąĖą┤čŗą▓ą░ą╗ą░ ąĄą│ąŠ ą▓ą▓ąĄčĆčģ, čĆą░ąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗čüčÅ
ąĮąĖąĘą║ąĖą╣ ą│čāą╗ ąĮą░čéčÅąĮčāčéčŗčģ ą▓ čüčéčĆčāąĮčā ą▒ąĄčćčæą▓ąŠą║, ąĖ ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ č湥ą╝ ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ąĖčéčī ą║
čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╝ čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖčÅą╝, ąŠąĮ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé ą┐ąŠą║ą░čćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ, ą▒čāą┤č鹊 ąĮą░
ą▓ąŠą╗ąĮą░čģ.
ąöą╗čÅ ą╝ąĖčĆčüą║ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠąĄ
ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą▒čŗ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄą╝ ą┐čŗčéą║ąĖŌĆ”
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓ąĘą┤čŗą╝ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮą░
ą▒ą░ąĘąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖčģ, ąĘąĮą░čÅ, čćč鹊 čüą▓ąŠąĖ ąĮąĄ čüčéą░ąĮčāčé ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠąĖčéčī. ąś ą▓
čŹč鹊čé čĆą░ąĘ ąŠąĮ ąĮąĄ ąČą┤ą░ą╗ ą│ąŠčüč鹥ą╣, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ čüą░ą╝čŗą╣ ąĮąĄą┐ąŠą┤čģąŠą┤čÅčēąĖą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ą║
ąĮąĄą╝čā ą┐čĆąĖčłčæą╗ ą║ą░ą╗ąĖą║. ąŁčéąĖčģ ą▓čüąĄąĘąĮą░čÄčēąĖčģ ą▓ąĄčćąĮčŗčģ ą┐čāčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĄ čćčāčÅą╗ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ,
ąĮąĄ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ ąĘą░ą╝ą║ąĖ ąĖ ąĘą░ą┐ąŠčĆčŗ, ąĖ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąŠąĮąĖ čéą░ą║, čćč鹊 ąĮąĖ čüčāč湊ą║ ą┐ąŠą┤ ąĮąŠą│ąŠą╣
ąĮąĄ čéčĆąĄčüąĮąĄčé, ąĮąĖ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖčåą░ ąĮąĄ čüą║čĆąĖą┐ąĮąĄčé, ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąŠąĮ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ
čÅą▓ąĖą╗čüčÅ, ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą▓ čüąĄą▒čÅ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝.
ŌĆö ąŚą┤čĆą░ą▓čüčéą▓čāą╣, ąĪąĄčĆą│ąĖąĄą▓ ą▓ąŠąĖąĮ, ŌĆö
ą┐ąŠčüą╗čŗčłą░ą╗ąŠčüčī ąŠčé ą┤ą▓ąĄčĆąĄą╣. ŌĆö ąØąĄ ąČą┤ą░ą╗ ą╗ąĖ čéčŗ ą│ąŠčüčéčÅ ąĖąĘ ąĪąĖčĆąŠą│ąŠ ąŻčĆąŠčćąĖčēą░?
ąØą░ąĘčŗą▓ą░čÅ ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠ‑čüčéą░čĆąĖąĮąĮąŠą╝čā,
ą┐čĆąĖčłąĄą┤čłąĖą╣ ą┐ąŠą┤čćčæčĆą║ąĖą▓ą░ą╗ ą║ ąĮąĄą╝čā čāą▓ą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ
ąĘą░čüą░ą┤ąĮąĖą║ąĖ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░ ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĘą░čēąĖčéąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, čćč鹊 ąĖ ąŠąĘąĮą░čćą░ą╗ąŠ
čüą╗ąŠą▓ąŠ ą░čĆą░ą║ąĄ. ąÜą░ą╗ąĖą║ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠąČąĖąĄ ŌĆö ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗąĄ ą░čĆą░ą║čüčŗ, ąČąĖą╗ąĖ ąŠą▒čēąĖąĮąĮąŠ ą▓
ąĪąĖčĆąŠą╝ ąŻčĆąŠčćąĖčēąĄ, čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮąŠą╝ čüą║ąĖčéčā. ąś ą▒čŗą╗ąĖ ąĄčēčæ čéą░ą╝ ą║ą░ą╗ąĖą║ąĖ ą▓ąĄčĆąĖąČąĮčŗąĄ,
ąĮąŠčüčÅčēąĖąĄ ąĮą░ č鹥ą╗ąĄ čüą▓ąŠčæą╝ čéčĆąĖą┤čåą░čéąĖą┐čāą┤ąŠą▓čŗąĄ čåąĄą┐ąĖ ŌĆö ą▓ąĄčĆąĖą│ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ
čāčüą╝ąĖčĆčÅą╗ą░čüčī ą▓ąĘą▒ąĄčüąĖą▓čłą░čÅčüčÅ ą┐ą╗ąŠčéčī. ąśąĮą░č湥 ąĖčģ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▒ąŠą╗čÅčēąĖą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā
ąŠąĮąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ą┐ąĄčĆąĄčāčüąĄčĆą┤čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą┤ąŠčüčéąĖąČąĄąĮąĖąĖ ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ą░, ą┐ąĄčĆąĄčéčĆčāą┤ąĖą╗ąĖčüčī
ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĄ ąĖ, ąĄą┤ąĖąĮąŠąČą┤čŗ ą▓ąŠą╣ą┤čÅ ą▓ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą░čäč乥ą║čéą░, ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ
ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĖąĘ ąĮąĄą│ąŠ ąĖ, ąĮąĄ čćčāą▓čüčéą▓čāčÅ, ąĮąĄ čüąŠčĆą░ąĘą╝ąĄčĆčÅčÅ čüąĖą╗čŗ čüą▓ąŠąĄą╣,
ą┐ąĄčĆąĄčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ąĮąĄą┐ąĖčüą░ąĮčŗąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮčŗ ŌĆö ą┤ąŠ čüą╝ąĄčĆčéąĖ ą▒ąĖą╗ąĖ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ ąŻčĆąŠčćąĖčēą░čģ,
ą▒čāą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĖ ą║ąŠą╗ąŠčéąĖą╗ąĖ ąĮą░čĆąŠą┤ ą▓ ą╝ąĖčĆčā. ąóčÅąČą║ąĖąĄ ą▓ąĄčĆąĖą│ąĖ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖą╗ąĖ ąĖą╝ čüąŠ
ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąŠą▒čĆą░čéąĮčŗą╣ čŹčäč乥ą║čé, ą┤ąŠčüčéąĖą│ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĄ: ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗąĄ ą░čĆą░ą║čüčŗ
čüą╗ą░ą▒ąĄą╗ąĖ ąĖ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ┬½ąŠčüą╗ą░ą▒ą║ąŠą▓┬╗ ŌĆö čāčĆąŠą┤ą╗ąĖą▓čŗčģ, ą║čĆąĖą▓ąŠąĮąŠą│ąĖčģ,
ą│ąŠčĆą▒ą░čéčŗčģ ąĖ čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖ čāą▒ąŠą│ąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą║ąŠąĮčćą░čÄčēąĖčģ ąČąĖąĘąĮčī čüą▓ąŠčÄ ą▓ č鹊ą╝ ąČąĄ
ąĪąĖčĆąŠą╝ ąŻčĆąŠčćąĖčēąĄ, ą│ą┤ąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ ąĮąĄčģąĖčéčĆčŗąĄ ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąŠ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓čā, ąĖą╗ąĖ
čāčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ ą╝ąĖčĆ, čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąĖčüčī čÄčĆąŠą┤ąĖą▓čŗą╝ąĖ, ą▒ą╗ą░ąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą╝čāą┤čĆąĄčåą░ą╝ąĖ.
ąóčĆą░ą┤ąĖčåąĖčÅ čŹčéą░ čüąŠą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ą░čüčī ąČčæčüčéą║ąŠ ąĖ
ąĮąĄąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąŠ čüąŠ ą▓čĆąĄą╝čæąĮ ąĪąĄčĆą│ąĖčÅ ąĀą░ą┤ąŠąĮąĄąČčüą║ąŠą│ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮąĄ ą▒čĆąŠčüą░ą╗ ą▓ čéčÄčĆčīą╝čŗ
ąĖ ą┐ąŠą┤ąĘąĄą╝ąĄą╗čīčÅ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮąĖą▓čłąĖčģčüčÅ, ą░ ąĮą░ą┐čĆąŠčéąĖą▓, ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░ą╗ ą║ čüąĄą▒ąĄ, ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ą┐ąŠą┤
čĆčāą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüą▓ąŠąĖą╝ ąĮąĄą┤čĆąĄą╝ą╗čÄčēąĖą╝ ą▓ąĘąŠčĆąŠą╝.
ąØą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ ą║ą░ą╗ąĖą║ą░ ą╝ąŠą│
ąŠąĘąĮą░čćą░čéčī čüą░ą╝ąŠąĄ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠąĄ ąĖ ąŠą▒ąĖą┤ąĮąŠąĄ ŌĆö ą┐ąŠč鹥čĆčÄ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░. ąöčāčģąŠą▓ąĮčŗą╣
čüčéą░čĆąĄčå ąĖ čüčāą┤čīčÅ ą×čüą╗ą░ą▒ ą╝ąŠą│ ą┐ąŠ ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, čüą░ą╝čŗą╝
ąĮąĄą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗą╝, ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░čéčī ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čā ąĮą░ ą¤ąĖčĆčā ŌĆö ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ
čüčģą▓ą░čéą║ąĄ, ąŠčéą┤ą░čéčī ąĄčæ ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░č鹊ą╝čā ąĖ ą┐čĆąĖčüą╗ą░čéčī ą┐ąŠčĆčāč湥ąĮčåą░ čü čŹč鹊ą╣
ąĮąĄčüą┐čĆą░ą▓ąĄą┤ą╗ąĖą▓ąŠą╣ ą▓ąĄčüčéčīčÄ. ą×č鹥čå ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗, ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠąĄ čüą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī, ąĄčüą╗ąĖ
ą┐ąŠą▒ąĄąČą┤čæąĮąĮčŗą╣ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗ čüčéą░čĆąĄą╣čłąĖąĮąĄ ą▓ąĄčüą║ąĖąĄ ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéčŗ ąĖ
ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗, čćč鹊 ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║, ąĮą░ čĆąĖčüčéą░ą╗ąĖčēąĄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ą░ čüčģą▓ą░čéą║ą░,
ąĖ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą¤ąĖčĆ, ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąĘą░ą┐čĆąĄčéąĮčŗą╝ąĖ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĖčæą╝ą░ą╝ąĖ.
ŌĆö ą» ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║, ŌĆö ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗ ąŠąĮ. ŌĆö
ąŚą┤čĆą░ą▓čüčéą▓čāą╣, ą║ą░ą╗ąĖą║.
ŌĆö ąØąĄ čüą┐čāčüą║ą░ą╣čüčÅ čü ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ą░, ŌĆö
ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄą┤ąĖą╗ č鹊čé. ŌĆö ąöąĄą╗ąŠ čā ą╝ąĄąĮčÅ ą╝ąĖąĮčāčéąĮąŠąĄŌĆ”
ŌĆö ąōąŠą▓ąŠčĆąĖ.
ą×ąĮ ąČą┤ą░ą╗ ą┐ąŠčüą╗ą░ąĮčåą░ ąĮąĄ ąŠčé ą×čüą╗ą░ą▒ą░ ŌĆö ąŠčé
ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčéą░. ąØą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░ ą║ą░ą╗ąĖą║ąĖ ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖą╗ąĖ ą¤ąŠčĆčāą║čā ŌĆö ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖ ą╝ąĄčüč鹊
čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ. ąĢčüą╗ąĖ ąŠą┤ąĄčƹȹĖčłčī ą┐ąŠą▒ąĄą┤čā ŌĆö čüą░ą╝ ą┐ąŠą╣ą┤čæčłčī, ą░ ą┐ąŠą▒ąĄąČą┤čæąĮ
ą▒čāą┤ąĄčłčī ŌĆö ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čłčī čüą▓ąŠąĄą╝čā ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║čā, ą║ąŠą│ą┤ą░ č鹊čé ą┐ąŠą┤ą░čüčé č鹥ą▒ąĄ čĆčāą║čā,
čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī ą▓čüčéą░čéčī ąĮą░ ąĮąŠą│ąĖ.
ąĪąĄą╣čćą░čü ąŠąĮ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ą║ą░ą╗ąĖą║ą░,
čüč鹊čÅčēąĄą│ąŠ ą▓ąĮąĖąĘčā, ąĖ, čüčāą┤čÅ ą┐ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčüčā, čŹč鹊 ą▒čŗą╗ čüčéą░čĆčŗą╣ ąĖ ąĮąĄč鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓čŗą╣
ą░čĆą░ą║ąĄ, ąĘą░ čćč鹊‑č鹊 čāą┐ąĄčćčæąĮąĮčŗą╣ ą▓ ąĪąĖčĆąŠąĄ ąŻčĆąŠčćąĖčēąĄ.
ŌĆö ąæąŠčÅčĆąĖąĮ ą▓ąĄą╗ąĄą╗ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čéą░ ą¤ąŠčĆčāą║ą░, čćč鹊
čéčŗ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą¤ąĖčĆą░, ąŠčéą╝ąĄąĮčÅąĄčéčüčÅ.
ą¤ąŠčĆčāą║čā ą┤ą░ą╗ ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╣, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą╗ąĄąČą░ą╗
ą┐ąŠą▒ąĄąČą┤čæąĮąĮčŗą╝ ąĮą░ ą▓čüą┐ą░čģą░ąĮąĮąŠą╝ čĆąĖčüčéą░ą╗ąĖčēąĄ.
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĮą░ą┐čĆčÅą│čüčÅ ąĖ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖą╗
ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠąĄ ŌĆö ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĮą░ čüč鹊 ą▓ąŠčüąĄą╝čīą┤ąĄčüčÅčé ą│čĆą░ą┤čāčüąŠą▓ ąĖ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗
ą║ą░ą╗ąĖą║ą░: ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣, čüčāčéčāą╗ąŠą▓ą░čéčŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čü ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ.
ąØąĄ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĖ ąæąŠą│ ą▒čĆą░čéą░čéčīčüčÅ čü čéą░ą║ąĖą╝ŌĆ”
ąÜą░ą╗ąĖą║ ą╝ą░ąĮąĄąČąĖą╗, čéčÅąĮčāą╗ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ąĮąŠ ąŠąĮ
ą▓čŗč鹥čĆą┐ąĄą╗ ąĖ ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠą║ą░čćą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ą░čģ, čĆą░ąĘą╝ąĖąĮą░čÅ ą╝čŗčłčåčŗ čĆčāą║.
ąĢą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ čäą░ą║č鹊ą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╣ ą╝ąŠą│ ą┐čĆąĖą▓ąĄčüčéąĖ ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ
ą░čĆą│čāą╝ąĄąĮčéą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ, ą║ą░ą║ ą░čĆą░ą║čüą░, ą▒čŗą╗ą░ čüčéą░čĆą░čÅ,
ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąŠą▒čĆąŠčüčłą░čÅ ą╝čŗčłčåą░ą╝ąĖ čĆą░ąĮą░ ąĮą░ ą▒ąŠą║čā, ą│ą┤ąĄ ąŠčüą║ąŠą╗ą║ąŠą╝ ą╝ąĖąĮčŗ ą▓čŗčłąĖą▒ą╗ąŠ
čĆąĄą▒čĆąŠ. ąĪąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║ ą╝ąŠą│ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░čéčī ą×čüą╗ą░ą▒čā, čćč鹊 ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüčģą▓ą░čéą║ąĖ ąĄą│ąŠ
ąĮąĄąŠčéą▓čÅąĘąĮąŠ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą╝čŗčüą╗čī ą╗čÄą▒čŗą╝ ąĮąĄąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮčŗą╝ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖą╗ąĖ čāą┤ą░čĆąŠą╝
ąĮąĄčćą░čÅąĮąĮąŠ čāą▒ąĖčéčī ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā‑ą┤ąĄ, ą╝ąŠą╗, čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ čüą║ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī ą▓ąŠ
ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░, č湥ą╝ ąĖ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą┐ąĖčĆčāčÄčēąĖą╣ ą░čĆą░ą║ąĄ.
ąØąŠ č鹊ą│ą┤ą░ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ą░ ą▒čŗ čÅą▓ąĮą░čÅ ą║čĆąĖą▓ą┤ą░, ąĖą▒ąŠ
ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╣ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ čĆą░ąĮčā ą╗ąĖčłčī ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüąĄč湥ą╣, ą░ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤čŗ ą║čāą╗ą░čćąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čćąĖąĮą░
ąĖ ą▒čĆą░čéą░ąĮąĖčÅ ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéą░ čĆčāą▒ą░čģąŠą╣.
ŌĆö ąóą▓ąŠą╣ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║, čüą╗ą░ą▓ąĮčŗą╣ ą░čĆą░ą║čü
ąĪč鹥čĆčģąŠą▓, ą╝ąĄčüčÅčåąĄą╝ ąĮą░ąĘą░ą┤ ą▓ ą╝ąĖčĆčā ą┐ąŠą│ąĖą▒, ŌĆö ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗
ą║ą░ą╗ąĖą║. ŌĆö ąæą░ąĮą░ą╗čīąĮą░čÅ ą░ą▓č鹊ą║ą░čéą░čüčéčĆąŠčäą░ŌĆ”
ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąĄą┤ą▓ą░ čāą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ ąĖ
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüčŗ ŌĆö č鹥ą╗ąŠ ą▓čĆą░ąĘ ąŠą│čĆčāąĘą╗ąŠ ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąŠ ą║ ąĘąĄą╝ą╗ąĄŌĆ”
ąĪą╝ąĄčĆčéčī ą▒čāą┤čāčēąĄą│ąŠ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮčēąĖą║ą░ ąŠąĘąĮą░čćą░ą╗ą░,
čćč鹊 ą┐ąŠą▒ąĄą┤ą░ ą▓ ąĮąĄčüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĄą╣čüčÅ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ ąŠčéą┤ą░ąĮą░ ąĄą╝čā. ąś ą▓ čŹč鹊ą╝ ą┐ąŠą┤ą░čĆą║ąĄ ąĮąĄ
ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖč湥ą│ąŠ čģąŠčĆąŠčłąĄą│ąŠ, ąĄčüą╗ąĖ čéčŗ ąĖčüčéąĖąĮąĮčŗą╣ ą░čĆą░ą║ąĄ ąĖ č鹥ą▒ąĄ ą┐čĆąĄą┤čüč鹊ąĖčé ąĄčēčæ
ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ąŠą▓ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗čÅąĮčŗčģ ą║ąŠą▓čĆą░čģ, ą│ą┤ąĄ ą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╝ ąĮčāąČąĮąŠ
ąČą┤ą░čéčī čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║ą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮąŠą│ąŠ, č湥ą╝ ą┐čĆąĄą┤čŗą┤čāčēąĖą╣.
ŌĆö ąś čćč鹊 ąČąĄ?.. ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčé ą╗ąĖčłąĖą╗ ą╝ąĄąĮčÅ
ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░? ąÜą░ą╗ąĖą║ čüč鹊čÅą╗ ą▓ąĮąĖąĘčā, ą║ą░ą║ ą┐ą░ą╗ą░čć ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┐ąŠą┤ąĮčÅč鹊ą╣ ąĮą░ ą┤čŗą▒čā
ąČąĄčĆčéą▓čŗ, ąĖ ą╝čāčćąĖą╗ ą▓čĆąĄą╝čÅ!
ŌĆö ąØąĄ ą╗ąĖčłąĖą╗, ąĮąĄ ą▒ąŠą╣čüčÅ, ŌĆö ąĄčēčæ ąĖ
ąĘą░čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ, ą┐ąŠą┤ą╗čŗą╣! ŌĆö ą£čāąČčā ą▒ąŠčÅčĆąŠą╝čā ą┐ąŠąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ąŠčüčī, ą║ą░ą║ čéčŗ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ą╗
ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░č鹊ą│ąŠ. ąĪą╗ą░ą▓ąĮąŠ čéčŗ ą┐ąŠą┐ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗, ąĀą░ąČąĮčŗą╣! ąÉ ą▓ąĄą┤čī ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╣ čģąŠą┤ąĖą╗ ą▓
čéą▓ąŠčÄ ą▓ąŠčéčćąĖąĮčā, čćč鹊ą▒ ąĘąĄą╗ąĄąĮčŗąĄ ą╗ąĖčüčéčīčÅ čü č鹥ą▒čÅ čüą║ąŠą╗ąŠčéąĖčéčīŌĆ”
ŌĆö ąōą┤ąĄ ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░? ŌĆö ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ąÜą░ą╗ąĖą║ ą┐ąŠąĮčÅą╗ čüčāčéčī ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░, ąĮąŠ ąŠčéą▓ąĄčćą░čéčī
ąĮąĄ čüą┐ąĄčłąĖą╗.
ŌĆö ą×čüą╗ą░ą▒ čü ąŠą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čüą║ąŠčĆą▒čÅčé ą┐ąŠ ąĮąĄą╝čā, ą░
čéčŗ čĆą░ą┤ąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ. ą» čéčÅą│ą░ą╗čüčÅ čüąŠ ąĪč鹥čĆčģąŠą▓čŗą╝ŌĆ” ąŻą▓ąĄčĆčÅčÄ č鹥ą▒čÅ, ąĘą░čćąĖąĮ ą▒čŗ
čéčŗ ą▓čŗčüč鹊čÅą╗, ą░ ą▓ąŠčé ą▒čĆą░čéą░ąĮąĖąĄ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖŌĆ”
ŌĆö ą£ąĄąĮčÅ ąĮąĄ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüčāčÄčé čéą▓ąŠąĖ ą┐čĆąŠą│ąĮąŠąĘčŗ,
čüąĖčĆčŗą╣, ŌĆö čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠą▒ąŠčĆą▓ą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąōąŠą▓ąŠčĆąĖ!
ŌĆö ąĪčĆąŠą║ ąĖ ą╝ąĄčüč鹊 ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčé čĆąĄčłąĖą╗ ąĮąĄ
ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖčéčī. ąĪą║ą░ąĘą░ą╗, ą┐čāčüčéčī ą▒čāą┤ąĄčé, ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ, ą▓ą░čł ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮąŠą║ ŌĆö ą¤ąĖčĆ
ąóčĆąĖąĘąĮčŗą╣ ąĖ ą┐ąŠčüą▓čÅčēčæąĮ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ čüą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą░čĆą░ą║čüą░.
ąĀą░ąĘąĮąĖčåą░ ą▓ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ąĖ čéčĆąĖąĘąĮąŠą╝
ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╝ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ą╗ąŠčüčī čüč鹊čÅčéčī
ąĮą░čüą╝ąĄčĆčéčīŌĆ”
ŌĆö ąÜč鹊 ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║? ŌĆö ą┐ąŠą╝ąĄą┤ą╗ąĖą▓, čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣, čģąŠčéčÅ ąĮąĄ ąĮą░ą┤ąĄčÅą╗čüčÅ čāčüą╗čŗčłą░čéčī ąĖą╝čÅ.
ŌĆö ąóąĄą▒ąĄ ąĄčēčæ čĆą░ąĘ ą┐ąŠą▓ąĄąĘą╗ąŠ, ŌĆö ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗
ą║ą░ą╗ąĖą║. ŌĆö ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčé ą║ č鹥ą▒ąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą▓ąŠą╗ąĖčé. ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ čāąČ, ą┐ąŠ ą║ą░ą║ąŠą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄŌĆ”
ą£ąŠąČąĄčé, ąĖąĘ‑ąĘą░ ąŠčéčåą░ čéą▓ąŠąĄą│ąŠ, ą░ ą╝ąŠąČąĄčé, ąĖąĘ‑ąĘą░ ą┐ąŠą▒ąĄą┤čŗ čü ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╝ŌĆ” ąØąŠ ąĖą╝čÅ
ąĮą░ąĘą▓ą░ą╗. ą¤čĆąŠčéąĖą▓ č鹥ą▒čÅ ą▓čŗą╣ą┤ąĄčé ąĪą║ąĖčä. ąĪą╗čŗčłą░ą╗ ąŠ ąĮąĄą╝?
ŌĆö ąØąĄ čüą╗čŗčłą░ą╗ŌĆ”
ŌĆö ąØčā ą┤ą░, čéčŗ ąČąĄ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗, ŌĆö ąĮąĄ
čāą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ čāą║ąŠčĆąĖčéčī ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéčīčÄ ą║ą░ą╗ąĖą║. ŌĆö ąóą░ą║ ą▓ąŠčé ąĘąĮą░ą╣, ąĪą║ąĖčä ą┐ąŠčüąĖą╗čīąĮąĄąĄ
ąĪč鹥čĆčģąŠą▓ą░, čŹč鹊 čÅ č鹥ą▒ąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÄ. ąØąŠ čéčŗ ą┐čĆąĖą│ąŠč鹊ą▓čī ą┤ąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗą╣ ą┤ą░čĆ
ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║čā ąÆčÅčéčüą║ąŠą┐ąŠą╗čÅąĮčüą║ąŠą╝čā, ąĮąĄ čüą║čāą┐ąĖčüčī. ą£ąŠą╣ č鹥ą▒ąĄ čüąŠą▓ąĄčé ŌĆö ą┐čĆąĖą│ąŠąĮąĖ
ąĄą╝čā č鹊čé ą┤ąČąĖą┐, čćč鹊 ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░čéčŗą╣ č鹥ą▒ąĄ ą┐ąŠą┤ą░čĆąĖą╗. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąŠą╗čćąĖ, čÅ č鹥ą▒ąĄ
ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗!ŌĆ” ą×č鹥čå ąØąĖą║ąŠą╗ą░ą╣ ą╗čÄą▒ąĖčé ą║ą░čéą░čéčīčüčÅ čü ą▓ąĄč鹥čĆą║ąŠą╝, ą░ ąĄąĘą┤ąĖčé
ąĮą░ ą┤čĆą░ąĮčŗčģ ┬½ąČąĖą│čāą╗čÅčģ┬╗, ąĮąŠ čā ąĮąĄą│ąŠ čéą░ą╝ ąČčāčéą║ąŠąĄ ą▒ąĄąĘą┤ąŠčĆąŠąČčīąĄ. ąś ąŠąĮ č鹥ą▒ąĄ ą▓čüąĄ
čāčüčéčĆąŠąĖčé. ą×ąĮ ą┐čÅčéčī ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤ ąĄą┤ąĖąĮąŠą▒ąŠčĆčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ čüąŠ ąĪą║ąĖč乊ą╝, ąĖ č鹊čé ą▒ą░čéčÄčłą║ąŠą╣
čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą╗čāčĆąŠčćąĖčēą░ ą▓čüą┐ą░čģą░ą╗, ą║ą░ą║ čüąŠčģąŠą╣. ąÆ ąæąĄą╗ąŠčĆąĄč湥ąĮčüą║ąŠą╝ ąŻčĆąŠčćąĖčēąĄ
čüčģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčīŌĆ” ąóą░ą║ čćč鹊 ąØąĖą║ąŠą╗ą░ą╣ ą┤ąŠ čüąĄą╣ ą┐ąŠčĆčŗ čŹč鹊ą│ąŠ ąĘą░ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé.
ąÜą░ą╗ąĖą║ąĖ ą║čĆąŠą╝ąĄ čüą▓ąŠąĖčģ ą┐ąŠą▓ąĖąĮąĮčŗčģ
ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüč鹥ą╣ ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ąĖ čĆą░ąĘąĮąŠčüčćąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮąŠą▓ąŠčüč鹥ą╣, čüą╗čāčģąŠą▓ ąĖ
čüą┐ą╗ąĄčéčæąĮ; ąŠąĮąĖ ąĘąĮą░ą╗ąĖ ą▓čüąĄ, čćč鹊 čéą▓ąŠčĆąĖčéčüčÅ ą▓ ąŚą░čüą░ą┤ąĮąŠą╝ ą¤ąŠą╗ą║čā, ą░ čéą░ą║ąČąĄ č鹊,
ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ąŠ č湥ą╝ ą┤čāą╝ą░čÄčé ąĖą╗ąĖ ąŠ č湥ą╝ čģąŠčéčÅčé ą┐ąŠą┤čāą╝ą░čéčī čüčéą░čĆąĄčå ą×čüą╗ą░ą▒ ąĖ
ą▒ąŠčÅčĆčŗą╣ ą╝čāąČ ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčé.
ŌĆö ą» ą▓ąĘčÅč鹊ą║ ą┤ą░ą▓ą░čéčī ąĮąĄ ą▒čāą┤čā, ŌĆö ą┐čĆąĄčĆą▓ą░ą╗
ąĄą│ąŠ ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ, ąÜąŠą╗ąĄą▓ą░č鹊ą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąČąĖą┐ą░ čāąČąĄ ąĮąĄčéŌĆ”
ŌĆö ąÉ ą│ą┤ąĄ ąČąĄ ąŠąĮ?! ŌĆö ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ ąĖąĘčāą╝ąĖą╗čüčÅ
ą║ą░ą╗ąĖą║, čģąŠčéčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ ąĘąĮą░čéčī, čćč鹊 ą▓čüąĄ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖąĄ ą┐ąŠą┤ą░čĆą║ąĖ ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║ąĖ
ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čÄčé ą▓ ą║ą░ąĘąĮčā ąĪąĄčĆą│ąĖąĄą▓ą░ ąÆąŠąĖąĮčüčéą▓ą░.
ŌĆö ąĪąĖčĆčŗą╣, čéčŗ ą╝ąĄąĮčÅ ą┐čĆąĖč鹊ą╝ąĖą╗ŌĆ” ąóąŠčé
ąĮą░čĆąŠčćąĖč鹊 ąŠą▒ąĖą┤ąĄą╗čüčÅ.
ŌĆö ąØčā, č鹊ą│ą┤ą░ č鹥ą▒ąĄ ą╗čāčćčłąĄ čü ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ą░ ąĮąĄ
čüčģąŠą┤ąĖčéčī, ąĄčüą╗ąĖ čģąŠč湥čłčī ą▓čŗčüč鹊čÅčéčī čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ą┤ąŠ ą▒čĆą░čéą░ąĮąĖčÅ! ąÆąŠčé ąĖ ą▓ąĖčüąĖ ą┐ąŠą┤
ą║čĆčŗčłąĄą╣, ą║ą░ą║ ą╝čāčģą░ ą▓ č鹥ąĮčæčéą░čģ!
ŌĆö ą£ąĮąĄ ąĮąĄ ąĮčāąČąĮčŗ čüąŠą▓ąĄčéčŗ, ŌĆö ąŠčéčĆąĄąĘą░ą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ąĪą║ą░ąČąĖ‑ą║ą░ ą╗čāčćčłąĄ, ą┐čĆąĖąĮčæčü ą╗ąĖ čéčŗ ąĮąŠą▓čāčÄ ą¤ąŠčĆčāą║čā?
ŌĆö ąØąĄčé, ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮčæčü. ąæąŠčÅčĆąĖąĮ ą▓ąĄą╗ąĄą╗ čüą║ą░ąĘą░čéčī
ą╗ąĖčłčī č鹊, čćč鹊 čüą║ą░ąĘą░ą╗. ąÉ ąĮą░čüčćčæčé ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą¤ąŠčĆčāą║ąĖ ŌĆö ąĮąĖč湥ą│ąŠ. ą£ąŠąČąĄčé, ąŠąĮ
čāą▓ąĄčĆąĄąĮ, čćč鹊 čéčŗ ąĪą║ąĖčäą░ ąŠą┤ąŠą╗ąĄąĄčłčī, čéą░ą║ ąĄą╝čā čüąŠąŠą▒čēąĖą╗, ą│ą┤ąĄ ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░
čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮąŠą║.
ŌĆö ąøą░ą┤ąĮąŠ, ąĖą┤ąĖ, ąĄčüą╗ąĖ ą▓čüąĄ čüą║ą░ąĘą░ą╗!
ŌĆö ąÜą░ą║ąŠą╣ čüčéčĆąŠą┐čéąĖą▓čŗą╣! ŌĆö čāčüą╝ąĄčģąĮčāą╗čüčÅ
č鹊čé. ŌĆö ąźąŠč鹥ą╗ ą▒čŗ čÅ ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī, ą║ą░ą║ čéčŗ čüąŠ ąĪą║ąĖč乊ą╝ čüčģą▓ą░čéąĖčłčīčüčÅ! ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ
ą▓ ą║čāą╗ą░čćąĮąŠą╝ ąĘą░čćąĖąĮąĄ!.. ąóą░ą║ čćč鹊 ą¤ąĄčĆąĄčüą▓ąĄčéčā ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čéčī?
ŌĆö ą» ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄąĮčā ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ ąĖ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąĄ
čüčéą░ąĮčā.
ŌĆö ąóą░ą║ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╝!ŌĆ” ąĪą╗čŗčłąĖčłčī, ąĀą░ąČąĮčŗą╣,
ą┐ąŠą┤ą▒čĆąŠčüčī ąĮą░ ą┤ąŠčĆąŠą│čā? ąÜ č鹥ą▒ąĄ ą┤ąŠą▒ąĖčĆą░čéčīčüčÅ ŌĆö ą▒ąĄą┤ą░, ą░ čéą░ą║čüąĖčüčéčŗ čåąĄąĮčŗ ą╗ąŠą╝čÅčéŌĆ”
ąØčā, ąĮąĄ ą┐ąĄčłą║ąŠą╝ ąČąĄ ą╝ąĮąĄ čģąŠą┤ąĖčéčī ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░! ąĀą░ą▒ąŠčéą░čéčī
ąĮąĄą║ąŠą│ą┤ą░, ą▓ąŠčĆąŠą▓ą░čéčī ąĮąĄ ą┐čĆąĖčüčéą░ą╗ąŠŌĆ”
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąČą┤ą░ą╗ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊
ąĮąĄ ą▒čŗą╗ ą▒čŗ ą║ą░ą╗ąĖą║, ąĄčüą╗ąĖ ą▒ ąĮąĄ ą▓čŗą┐čĆąŠčüąĖą╗ čćč鹊‑ąĮąĖą▒čāą┤čī.
ŌĆö ąØą░ ą▓ąĄčłą░ą╗ą║ąĄ ą║čāčĆčéą║ą░, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąÆ
ą║ą░čĆą╝ą░ąĮąĄ ą▒čāą╝ą░ąČąĮąĖą║ŌĆ” ąÆąŠąĘčīą╝ąĖ, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĄčüčéčī.
ąĪąĖčĆčŗą╣ ą┐ąŠčłąĄą╗ąĄčüč鹥ą╗, ą║ą░ą║ ą╝čŗčłčī čüčāčģą░čĆčÅą╝ąĖ,
ą┐čĆąŠčéčÅąĮčāą╗ čĆą░ąĘąŠčćą░čĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠ:
ŌĆö ąóčāčé ą▓čüąĄą│ąŠ‑č鹊 ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī ą▒ą░ą║čüąŠą▓ŌĆ”
ŌĆö ą¦ąĄą╝ ą▒ąŠą│ą░čéčŗ, č鹥ą╝ ąĖ čĆą░ą┤čŗŌĆ”
ŌĆö ąØčā č鹥ą▒čÅ, ąĀą░ąČąĮčŗą╣! ąÆčüąĄ ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║ąĖ
ą┐čĆąĖą▒ąĄą┤ąĮčÅčÄčéčüčÅ. ąÉ čā ą║ąŠą│ąŠ ąĮčŗąĮč湥 ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ? ąŻ ą▓ą░čü ą┤ą░ čā ąŠą┐čĆąĖčćąĮąĖą║ąŠą▓! ąóąĄ čéą░ą║
ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĖ ą│čĆąŠčłą░ ąĮąĄ ą┤ą░ą┤čāčé, ą┐ąŠąĄąĘąČą░ą╣ ąĮą░ čćč鹊 čģąŠč湥čłčīŌĆ”
ŌĆö ąÉ čéčŗ ąĖčģ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą║ąŠą│ą┤ą░‑ąĮąĖą▒čāą┤čī?
ą×ą┐čĆąĖčćąĮąĖą║ąŠą▓? ąÜą░ą╗ąĖą║ čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ, ą┐ąŠą╝čÅą╗čüčÅ.
ŌĆö ąÆąĖą┤ąĄčéčī ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ŌĆ” ą¦č鹊ą▒ ą▓ąŠčé čéą░ą║ čÅą▓ąĮąŠ!
ąÜč鹊 ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĄčéčüčÅ?.. ąØąŠ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĖąĮąŠą║ąŠą▓ ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄą▓ą░čÄ. ąÜčüčéą░čéąĖ, ą▓ąŠčé
čŹč鹊čé ąĪą║ąĖčä ŌĆö ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĖčģ. ąÆąĄčüčī ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 čéą░ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣, čģąŠą┤ąĖčé
ą┐čĆąĖąĘčĆą░ą║ąŠą╝, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé ąĘą░ą│ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖŌĆ” ąś ąČąĄąĮąĖą╗čüčÅ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ!
ąĢą│ąŠ ą┐ąŠą┤ą╝čŗą▓ą░ą╗ąŠ ą▓čŗą┤ą░čéčī ąĀą░ąČąĮąŠą╝čā
ą║ą░ą║ąĖąĄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ čüą┐ą╗ąĄčéąĮąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĮą░čģą▓ą░čéą░ą╗čüčÅ, ą┐čāč鹥賹Ąčüčéą▓čāčÅ ąŠčé
ą░čĆą░ą║čüą░ ą║ ą░čĆą░ą║čüčā, ąĖ čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ąĮąĄ ą▒ąĄčüą┐ą╗ą░čéąĮąŠŌĆ”
ŌĆö ąöąŠ čüą▓ąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ, čüąĖčĆčŗą╣! ŌĆö ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣, ąŠą▒ąŠčĆą▓ą░ą▓ ąĄą│ąŠ ąĮą░ ą┐ąŠą╗čāčüą╗ąŠą▓ąĄ. ŌĆö ąöą▓ąĄčĆčī ąĘą░ą┐čĆąĖ, ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ.
ŌĆö ąØčā, ą▒čāą┤čī ąĘą┤čĆą░ą▓, ą▓ąŠčéčćąĖąĮąĮąĖą║!
ŌĆö ąĪą║ą░č鹥čĆčéčīčÄ ą┤ąŠčĆąŠą│ą░, ąĪąĄčĆą│ąĖąĄą▓ ą║ą░ą╗ąĖą║! ą×ąĮ
čāčłčæą╗ čéą░ą║ ąČąĄ ąĮąĄčüą╗čŗčłąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ, ą╗ąĖčłčī čüąŠčĆąŠą║ą░ ą┐čĆąŠčéčĆąĄčēą░ą╗ą░ ąĮą░ ąŠą┐čāčłą║ąĄ
ą╗ąĄčüą░, ą┤ą░ą▓ą░čÅ čüąĖą│ąĮą░ą╗, čćč鹊 ą▓ąĖą┤ąĖčé č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓čŗąČą┤ą░ą╗ ą╝ąĖąĮčāčéčā,
ąŠčéą║ą╗čÄčćąĖą╗čüčÅ ąŠčé čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ, ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠčéą┤ą░ą▓ą░čÅčüčī čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÄ ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ą░,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖą╝čÅ ą▓ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮčēąĖą║ą░ ŌĆö ąĪą║ąĖčä ŌĆö ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī ą▓ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ ąĖ
ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ ą╝ąĄčłą░ą╗ąŠ čüąŠčüčĆąĄą┤ąŠč鹊čćąĖčéčīčüčÅ. ąóąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąĖą╣ ą▓ą┤ąŠčģ ąĖ
ąĘą░čéą░ąĖą╗ ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄ ą╝ąĖąĮčāčé ąĮą░ ą┐čÅčéčī: čŹč鹊 ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą┐ąŠą╝ąŠą│ą░ą╗ąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā
ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ąĮąŠąĄ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąŠčćąĖčēą░ą╗ąŠ ą┐ąŠą┤čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĄ. ą×ą▒čĆą░ąĘ čüąŠą┐ąĄčĆąĮąĖą║ą░,
ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ąĖą╝ąĄąĮąĖ, ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĖą╗čüčÅ, ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą┐ąŠą┐ą╗čŗą╗ąĖ
čĆą░ą┤čāąČąĮčŗąĄ ą┐čÅčéąĮą░, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ąŠąĮ ą▓čŗą┤ąŠčģąĮčāą╗ ąĖ čüą▓čæą╗ čĆčāą║ąĖ, ą┐ąŠą┤čéčÅą│ąĖą▓ą░čÅ
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüčŗ. ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ąĖčüčģąŠą┤ąĮčŗą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤ą╗čÅ ┬½ą╝čæčĆčéą▓ąŠą╣ ą┐ąĄčéą╗ąĖ┬╗ ŌĆö
ą║čāą▓čŗčĆą║ą░ č湥čĆąĄąĘ čüą┐ąĖąĮčā.
ąØąŠ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĖčéčī čāą┐čĆą░ąČąĮąĄąĮąĖąĄ ąŠąĮ ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗,
ąĖą▒ąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąĘą╗ąŠą▒ąĮčŗą╣ ą╗ą░ą╣ čüč鹊čĆąŠąČąĄą▓ąŠą╣ ąŠą▓čćą░čĆą║ąĖ ąøčÄčéčŗ, čüąĖą┤čÅčēąĄą╣ ąĮą░
čåąĄą┐ąĖ, ąĖ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ čüą┐čāčüčéčÅ ą┤čĆčāąČąĮąŠ ąĖ čÅčĆąŠ ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ąĖ ą│ąŠąĮčćą░ą║ąĖ ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆąĄ.
ąÆąŠčé čāąČąĄ ą┤ą▓ąĄ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ, ą║ą░ą║ ąĀą░ąČąĮčŗą╣
čĆą░ąĘąŠą│ąĮą░ą╗ ą▓ ąŠčéą┐čāčüą║ą░ ą▓čüąĄčģ ąĄą│ąĄčĆąĄą╣ čüąŠ čüčéčĆąŠąČą░ą╣čłąĖą╝ ąĘą░ą┐čĆąĄč鹊ą╝ ąĮąĖ ą┐ąŠą┤ ą║ą░ą║ąĖą╝
ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠą│ąŠą╝ ąĮąĄ čÅą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ąĮą░ ą▒ą░ąĘčā; ą╝čŗčüą╗ąĖą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ąŠą╝ ą┐ąŠą▒čŗčéčī ą▓
ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ ąŠą┤ąĖąĮąŠč湥čüčéą▓ąĄ ąĖ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčīčüčÅ ą▒ąĄąĘ čćčāąČąĖčģ ą│ą╗ą░ąĘ.
ąĪčāą┤čÅ ą┐ąŠ ą╗ą░čÄ, ą┐čĆąĖčłčæą╗ ą║č鹊‑č鹊
ą┐ąŠčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖą╣ŌĆ”
ą×ąĮ ą┐ąŠą┤ąŠąČą┤ą░ą╗ ą┐ą░čĆčā ą╝ąĖąĮčāčé ŌĆö ą┐čüčŗ ąĮąĄ
čāąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī, ąĮąĄąĘą▓ą░ąĮčŗą╣ ą│ąŠčüčéčī ąĮą░ą│ą╗ąŠ čĆčŗčüą║ą░ą╗ ą┐ąŠ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ, č湥ą╝ ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗
čüąŠą▒ą░ą║ ą▓ ąĮąĄąĖčüč鹊ą▓čüčéą▓ąŠ. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗, ą║ą░ą║ ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ąĮą░ ą▒ą░ąĘčā ąĘą░ą╗ąĄč鹥ą╗
ąÜčāą┤ąĄčÅčĆ, ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ┬½ą╝čæčĆčéą▓ąŠą╣ ą┐ąĄčéą╗ąĖ┬╗ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĖą╗ čĆčāą║ąĖ ąŠčé čģąŠą╝čāč鹊ą▓, ą┐ąŠčüą╗ąĄ
č湥ą│ąŠ, čāą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čÅčüčī ąĘą░ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ, ą┐ąŠą┤čéčÅąĮčāą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠąŠč湥čĆčæą┤ąĮąŠ čüąĮčÅą╗ čĆą░čüčéčÅąČą║ąĖ
čü ąĮąŠą│. ą×ą▒čæčĆąĮčāčéčŗąĄ ą▓ąŠą╣ą╗ąŠą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüčŗ čü ą│ą╗čāčģąĖą╝ čüčéčāą║ąŠą╝ ąŠą┐čāčüčéąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░
ą┐ąŠą╗. ąĪąŠą╣ą┤čÅ čü ąĮąĄą▒ąĄčü, ąŠąĮ ą░ą║ą║čāčĆą░čéąĮąŠ čüą╝ąŠčéą░ą╗ ąĖ čāą▒čĆą░ą╗ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ, ą▓čŗčłąĄą╗ ąĖąĘ
ą┐ąŠą▓ąĄčéąĖ ąĖ ąĘą░ą┐ąĄčĆ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąĮą░ ą║ą╗čÄčć: ąŠ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čéčĆąĄąĮą░ąČčæčĆą░, ą║ą░ą║,
ą▓ą┐čĆąŠč湥ą╝, ąĖ ąŠ čéčĆąĄąĮąĖčĆąŠą▓ą║ą░čģ, ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗ ąĖ ąĘąĮą░čéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąĮąĖ ą┐ąŠą┤ ą║ą░ą║ąĖą╝
ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠą│ąŠą╝.
ą×čéą║ąĖą┤čŗą▓ą░čÅ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╣ ąĘą░čéą▓ąŠčĆ ąĮą░ ą▓čģąŠą┤ąĮąŠą╣
ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, ąŠąĮ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ą╝čÅą│ą║ąĖąĄ čłą░ą│ąĖ ąĮą░ čüčéčāą┐ąĄąĮčÅčģ ąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠąĄ, ąĘą░ą┐ą░ą╗čæąĮąĮąŠąĄ
ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄŌĆ”
ąØą░ ą║čĆčŗą╗čīčåąĄ čüč鹊čÅą╗ ą▓ąŠą╗ą║ ŌĆö ąĮąĄąŠą▒čŗčćąĮąŠ
ą║čĆčāą┐ąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄčÅčĆąŠą║, ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ą╝ąŠą│ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčéčī ą╗ąĖčłčī ąŠą┐čŗčéąĮčŗą╣ ą│ą╗ą░ąĘ.
ą¤ąŠ‑čüąŠą▒ą░čćčīąĖ ą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖą▓ čÅąĘčŗą║ ąĖ ą┐ąŠ‑ą▓ąŠą╗čćčīąĖ ą┐ąŠą┤ąČą░ą▓ čģą▓ąŠčüčé, ąŠąĮ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗
ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČčæąĮąĮąŠ ąĖ ą┤ąĄčƹʹ║ąŠ, ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╣ ą▓ ą║ą░ąČą┤ąŠąĄ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąŠčéčüą║ąŠčćąĖčéčī ąĮą░ąĘą░ą┤ ąĖ
čüą║čĆčŗčéčīčüčÅ ą▓ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ čéčĆą░ą▓ąĄ.
ŌĆö ą£ąŠą╗čćčāąĮ? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ąÆąŠą╗ą║ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ąĖą╗čüčÅ ąĖ čüąĄą╗,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░čÄčēąĖą╣ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮčŗą╣ ą╗čæą┤. ąōąŠąĮčćą░ą║ąĖ ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ąĖ
ą┤čĆčāąČąĮčŗą╝ čģąŠčĆąŠą╝, ą┐ąŠčćčāčÅą▓ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéčī čģąŠąĘčÅąĖąĮą░.
ŌĆö ąÜą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ č鹥ą▒čÅ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝ ąĘą░ąĮąĄčüą╗ąŠ?.. ąś ąĮąĄ
čāąĘąĮą░čéčī, čüąŠą▓čüąĄą╝ ą▓ąĘčĆąŠčüą╗čŗą╣ ą▓ąŠą╗čćą░čĆą░. ą¢ąĖą▓, ąĘąĮą░čćąĖčé, ą▒čĆą░čé? ąŁč鹊 čāąČąĄ čģąŠčĆąŠčłąŠŌĆ”
ą£ąŠą╗čćčāąĮ ą▓čüą╗čāčłąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║čāčÄ čĆąĄčćčī
ąĖ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéčéą░ąĖą▓ą░ą╗. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüąĄą╗ ąĮą░ čüčéčāą┐ąĄąĮčīą║čā ą║čĆčŗą╗čīčåą░,
ą┐čĆąĖčéąĖčüąĮčāą▓čłąĖčüčī ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮąŠčćąĮąĖą║ąŠą╝ ą║ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ čĆąĄąĘąĮąŠą│ąŠ čüč鹊ą╗ą▒ą░, ą░ ą▓ąŠą╗ą║
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čéą║ąĮčāą╗čüčÅ ą▓ ąĄą│ąŠ ąŠą┐čāčēąĄąĮąĮčŗąĄ čĆčāą║ąĖ, ąĘą░ą╝ąĄčĆ ąĮą░ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ
č湥ą│ąŠ čüčéą░ą╗ ą▓čŗą╗ąĖąĘčŗą▓ą░čéčī ąĮą░čéčæčĆčéčŗąĄ ą┤ąŠ ą╝ąŠąĘąŠą╗ąĄą╣, ąĮą░ą┐čĆčÅąČčæąĮąĮčŗąĄ ąĘą░ą┐čÅčüčéčīčÅ. ąś
čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą╗ą░čüą║ąĖ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ ŌĆö čüą▓ąŠąĄąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╝
ą┐čĆąĖą▓ąĄčéčüčéą▓ąĖąĄą╝, ąĮąĄą║ąŠą╣ ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüčéčīčÄ čāčģą░ąČąĖą▓ą░čéčī ąĘą░ ą▓ąŠąČą░ą║ąŠą╝.
ŌĆö ą» ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ą░ą╗, ŌĆö ąĮąĄ čüčĆą░ąĘčā ąĖ
ąĮą░ąĘąĖą┤ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ, čćčāą▓čüčéą▓čāčÅ, ą║ą░ą║ ą┐ąŠą┤ ą▓ąŠą╗čćčīąĖą╝ čÅąĘčŗą║ąŠą╝ ą│ą░čüąĮąĄčé
ąČą│čāčēą░čÅ ą▒ąŠą╗čī. ŌĆö ąØąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖ ą║ąŠ ą╝ąĮąĄŌĆ” ą» ąĘą░ą┐čĆąĄčéąĖą╗ č鹥ą▒ąĄ čÅą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ.
ąóčŗ čāą▒ąĖą╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░. ąóčŗ ą┤ąĖą║ąĖą╣ ąĘą▓ąĄčĆčī ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĖč湥ą│ąŠ.
ą¤ąĄčĆąĄčÅčĆąŠą║ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ ąĮą░ąĘą░ą┤ ąĖ čüąĄą╗ čü
ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊 ąŠą┐čāčēąĄąĮąĮąŠą╣ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣. ąØą░ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╝ ąĄą│ąŠ ą╗ą▒čā ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ č鹊ąĮą║ąĖą╣
ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčé ą▒ąĄą╗ąŠą╣ čłąĄčĆčüčéąĖ ŌĆö ą▓ąĄčĆąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ ąĘą░čĆąŠčüčłąĄą╣ čĆą░ąĮčŗ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣
ą┐čāą╗ąĄą╣ ąĖą╗ąĖ ą║ą░čĆč鹥čćąĖąĮąŠą╣. ąŚąĮą░čćąĖčé, čāąČąĄ ą┤ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī ąŠčé ą║ąŠą│ąŠ‑č鹊ŌĆ”
ŌĆö ąÆčüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ, čāčģąŠą┤ąĖ, ŌĆö ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ, ŌĆö ąÆ
ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čĆą░ąĘ čāą╝ąĮąĄąĄ ą▒čāą┤ąĄčłčī.
ą£ąŠą╗čćčāąĮ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą▓čüą║ąĖąĮčāą╗ ą╝ąŠčĆą┤čā ąĖ
ą┐čĆąŠą▓čŗą╗ ąĮąĖąĘą║ąĖą╝, čĆąŠą║ąŠčćčāčēąĖą╝ ą▒ą░čüąŠą╝ ŌĆö ą▓ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą┤ąŠą╝ą░ ąĘą░ąĘą▓ąĄąĮąĄą╗ąĖ čéą░čĆąĄą╗ą║ąĖ ą▓
ą┐ąŠčüčāą┤ąĮąĖą║ąĄ. ąÉ ą│ąŠąĮčćą░ą║ąĖ ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆąĄ čĆą░ąĘąŠą╝ ą┐čĆąĖą╝ąŠą╗ą║ą╗ąĖ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ąŠčĆą╝ąĖą╗ąĖčåą░
ąōąĄą╣čłą░ ąĘą░čüą║čāą╗ąĖą╗ą░ čĆą░ą┤ąŠčüčéąĮąŠ, ąĘą░ą│čĆąĄą╝ąĄą╗ą░ čüąĄčéą║ąŠą╣: čéčĆčāą▒ąĮčŗą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü ą▒čŗą╗
čāą╝ąŠą╗čÅčÄčēąĖą╝, ą┐čĆąĖąĘčŗą▓ąĮčŗą╝ ąĖ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ.
ŌĆö ą¦č鹊 čéčŗ čģąŠč湥čłčī čüą║ą░ąĘą░čéčī? ŌĆö ąŠąĮ
ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČčæąĮąĮąŠ ą▓čüčéą░ą╗, ąĖ ąĘą▓ąĄčĆčī č鹊čéčćą░čü ąČąĄ čüąŠčüą║ąŠčćąĖą╗ čü ą║čĆčŗą╗čīčåą░, ąŠčéą▒ąĄąČą░ą╗ ą▓
čüč鹊čĆąŠąĮčā ą▒ąĄčĆąĄą│ą░ ąĖ čüąĄą╗, ą┐ąŠą┤ąČąĖą┤ą░čÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░čÅ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░čéčī ąĘą░
ąĮąĖą╝.
ŌĆö ąØąĄ ą┐ąŠą╣ą┤čā! ŌĆö ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ąĄą╝čā ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ą»
ąĘą░ąĮčÅčé, ą┐ąŠąĮčÅą╗? ą¦ąĄčĆąĄąĘ čéčĆąĖ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮąŠą║! ąÆčüąĄ, ą│čāą╗čÅą╣!
ąś čāčłčæą╗ ą▓ ą┤ąŠą╝. ąÆąŠą╗ą║ ą▓ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐čĆčŗąČą║ąŠą▓
čüąĮąŠą▓ą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčåąĄ, čüčģąŠą┤čā č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ ą╗ą░ą┐ą░ą╝ąĖ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąĖ čéčāčé ąČąĄ ą╗čæą│ čā
ą┐ąŠčĆąŠą│ą░, ąĮąĄ čüą╝ąĄčÅ čüčéčāą┐ąĖčéčī ą▓ ąČąĖą╗ąĖčēąĄ ą▓ąŠąČą░ą║ą░. ą¤čĆąŠčüą║čāą╗ąĖą╗ ą┐čĆąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, čéą░ą║
čćč鹊 ąōąĄą╣čłą░ ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆąĄ ąĘą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░ ą║čĆčāą│ą░ą╝ąĖ ąĖ ąĘą░čĆąĄą▓ąĄą╗ą░ ą┐ąŠ‑ą╝ą░č鹥čĆąĖąĮčüą║ąĖ ą▓
ą│ąŠą╗ąŠčü.
ŌĆö ąØčā, čćč鹊 čéą░ą╝ čüčéčĆčÅčüą╗ąŠčüčī? ŌĆö ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ą░čāąĘčŗ
ą▓ąŠčĆčćą╗ąĖą▓ąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ ąĖ čüą┤čæčĆąĮčāą╗ ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīčÄ ą║čāčĆčéą║čā čü ą▓ąĄčłą░ą╗ą║ąĖ. ŌĆö ąæąĄąĘ ą╝ąĄąĮčÅ
čéą░ą╝ ąĮąĖą║ą░ą║?.. ą£čŗ ąČąĄ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖčüčī: čéčŗ ą┤ąĖą║ąĖą╣ ąĘą▓ąĄčĆčī ąĖ ąČąĖą▓čæčłčī ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝
ą▓ąŠą╗čćčīąĖą╝ ąĘą░ą║ąŠąĮą░ą╝. ą» ŌĆö ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ŌĆ” ąś ą┐čāčéąĖ ąĮą░čłąĖ ąĮąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą║ą░čéčīčüčÅ.
ą£ąŠą╗čćčāąĮ, ą║ą░ą║ ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąŠ, ą╝ąŠą╗čćą░
ą┐čĆąŠčüą╗ąĄą┤ąĖą╗ ąĘą░ čüą▒ąŠčĆą░ą╝ąĖ, ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓ąĘčÅą╗ ą║ą░čĆą░ą▒ąĖąĮ, čéą░ą║ ąČąĄ ą▒ąĄąĘąĘą▓čāčćąĮąŠ
čüąŠčłčæą╗ čü ą║čĆčŗą╗čīčåą░ ąĖ ą┐ąŠčéčĆčāčüąĖą╗ ą║ čĆąĄą║ąĄ. ąØą░ ą▒ąĄčĆąĄą│čā ąŠąĮ čüąĄą╗ ą╝ąŠčĆą┤ąŠą╣ ą║ ą▓ąŠą┤ąĄ,
ą┐ąŠą┤ąŠąČą┤ą░ą╗ ą▓ąŠąČą░ą║ą░.
ŌĆö ą¤ąŠąĮčÅą╗, ŌĆö ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ č鹊čé ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄąĘ ą▓
ą╗ąŠą┤ą║čā. ąÆčŗąČą┤ą░ą▓, ą┐ąŠą║ą░ ąŠąĮ ąĘą░ą┐čāčüčéąĖčé ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čī, ą▓ąŠą╗ą║ ą┤ąĄą╝ąŠąĮčüčéčĆą░čéąĖą▓ąĮąŠ
ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ ą║čĆąŠą╝ą║ąŠą╣ čÅčĆą░ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą┐ąŠ č鹥č湥ąĮąĖčÄ, ąĮąŠ ąĘą░ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠč鹊ą╝ ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠ
ąŠą▒ąŠą│ąĮą░ą╗ ą╝ąŠč鹊čĆą║čā, ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ ą▓ ą▓ąŠą┤čā ąĖ ą┐ąŠą┐ą╗čŗą╗ ąĮą░ą┐ąĄčĆąĄčĆąĄąĘ. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čĆąĄčłąĖą╗,
čćč鹊 ą£ąŠą╗čćčāąĮ ą┐čŗčéą░ąĄčéčüčÅ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄčüčéčī ą▓ ą╗ąŠą┤ą║čā, ąĖ čüą▒ą░ą▓ąĖą╗ ą│ą░ąĘ,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĘą▓ąĄčĆčī čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčüčæą║ ą║ąĖą╗čīą▓ą░č鹥čĆąĮčāčÄ čüčéčĆčāčÄ ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą║
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╝čā ą▒ąĄčĆąĄą│čā.
ŌĆö ąÜą░ą║ čģąŠč湥čłčī, ŌĆö ą▒čāčĆą║ąĮčāą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĖ
ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ.
ąÆąŠą╗ą║ ąČąĄ ą▓čŗą▒čĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ čüčāčłčā, ą▓čüčéčĆčÅčģąĮčāą╗čüčÅ
ąĖ čüčéčĆąĄą╝ą│ą╗ą░ą▓ čüą║čĆčŗą╗čüčÅ ą▓ ą│čāčüč鹊ą╝ čćą░čēąŠą▒ąĮąĖą║ąĄ. ąś ą┐ąŠą║ą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąŠą▒čŖąĄąĘąČą░ą╗
čĆąĄčćąĮčāčÄ ą┐ąĄčéą╗čÄ ą▓ ą┐ąŠą╗č鹊čĆą░ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆą░, ąĘą▓ąĄčĆčī ą╝ąĖąĮąŠą▓ą░ą╗ čāąĘą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄčłąĄąĄą║ ąĖ
ą┐ąŠą┤ąČąĖą┤ą░ą╗ ą▓ąŠąČą░ą║ą░ čā ą▓ąŠą┤čŗ.
ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮą░čÅ ą│ąŠąĮą║ą░ ą┤ą╗ąĖą╗ą░čüčī ąŠą║ąŠą╗ąŠ ą┐ąŠą╗čāčćą░čüą░,
ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ č湥ą╝ ą£ąŠą╗čćčāąĮ ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ą╗ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░čéčī ąĖąĘ ą▓ąĖą┤čā ąĖ ą┐ąŠčłčæą╗ čüčéčĆąŠą│ąŠ ą┐ąŠ
ą▒ąĄčĆąĄą│čā, ą▓ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░čģ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ. ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ąŠčüąĄąĮąĮąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī ą▒čŗą╗ ąĮą░ ąĖčüčģąŠą┤ąĄ,
ąĮąĖąĘą║ąĖąĄ čüąĄčĆčŗąĄ čéčāčćąĖ ąŠčéčĆą░ąČą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą▓ąŠą┤ąĄ, ąĖ čŹč鹊čé čüčāą╝ąĄčĆąĄčćąĮčŗą╣ čüą▓ąĄčé čüą║ąŠčĆąŠ
ąĘą░čéčÅąĮčāą╗ ą▓čüąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ. ąĪąĄčĆčŗą╣ ąĘą▓ąĄčĆčī ą┐ąŠčćčéąĖ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆčÅą╗čüčÅ ą▓ ąĮąĄą╝, ąĖ
ąĘą░ą╝ąĄčéąĖčéčī ąĄą│ąŠ ą┐čāčéčī ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠ čłąĄą▓ąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ čüčāčģąĖčģ čéčĆą░ą▓ ąĖ čĆąĄąĘą║ąŠą╝čā
ą┤čĆąŠąČą░ąĮąĖčÄ ąĖą▓ąŠą▓čŗčģ ą║čāčüčéą░čĆąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ čāčĆąĄąĘą░ ą▓ąŠą┤čŗ.
ąØą░ ąŠč湥čĆąĄą┤ąĮąŠą╝ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠč鹥 ąĮąĄą┐ąŠą┤ą░ą╗čæą║čā ąŠčé
čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠčüčéą░ ą▓ąŠą╗ą║ ąĖčüč湥ąĘ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ čüąĖą╗čāčŹčéčŗ ą╗ąŠčłą░ą┤ąĄą╣
ąĮą░ č乊ąĮąĄ ą▒ąĄą╗ąĄčüčŗčģ ą║čāčüčéą░čĆąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠč鹊ą╝ ą╝ą░čłčāčēąĖčģ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣. ąĀąĄąĘą║ąŠ
čüą▒ą░ą▓ąĖą▓ ąŠą▒ąŠčĆąŠčéčŗ, ąŠąĮ ą┐ąŠą┤čćą░ą╗ąĖą╗ ą║ ą▒ąĄčĆąĄą│čā ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čāąĘąĮą░ą╗ čüčĆą░ąĘčā ŌĆö čüčéą░čĆčłąĖą╣
ą£ą░ą║čü, čüčŗąĮ č乥čĆą╝ąĄčĆą░ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ąÆč鹊čĆąŠą╣ ąČąĄ, ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čü ą║ąŠąČą░ąĮąŠą╣
čüčāą╝ą║ąŠą╣ ąĮą░ ą┐ą╗ąĄč湥, ąŠą┤ąĄčéčŗą╣ čÅą▓ąĮąŠ ąĮąĄ ą┤ą╗čÅ ą╗ąĄčüąĮčŗčģ ą┐ąŠčģąŠą┤ąŠą▓, ą▒čŗą╗ ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╝
ąĖ, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ąĮąĄ ąĖąĘ ą╝ąĄčüčéąĮčŗčģ ąČąĖč鹥ą╗ąĄą╣. ą×ąĮ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ ąŠčüąŠą▒ąĮčÅą║ąŠą╝,
ą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ ą▓ą┤ąŠą╗čī čĆąĄčćąĮąŠą╣ ąŠčéą╝ąĄą╗ąĖ ąĖ ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▒ąĄąĘčāčćą░čüčéąĮčŗą╝ ą║ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĄą╝čā,
č鹊ą│ą┤ą░ ą║ą░ą║ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▓ ą▓ąŠą┤čā ą╗ąĄąĘ, ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÅ ą╗ąŠą┤ą║čā.
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĘą░ą│ą╗čāčłąĖą╗ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čī, ąĖ ą£ą░ą║čü
ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░čüčéčŗą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą▒ąŠčĆčéą░, ą│ą╗čÅą┤čÅ ą╝ąĖą╝ąŠ.
ŌĆö ąØčā, ąĖ čćč鹊 ą╝ąŠą╗čćąĖą╝? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣,
čüą╗čāčłą░čÅ čüą▓ąŠą╣ ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü ą▓ ąĮą░čüčéčāą┐ąĖą▓čłąĄą╣ čéąĖčłąĖąĮąĄ.
ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ čüąĄą╗ ąĮą░ ąĮąŠčü ą╗ąŠą┤ą║ąĖ, ą┐ąŠą▓ąĄčüąĖą▓
ą│ąŠą╗ąŠą▓čā, ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝ąĄčå ą┤ąŠčüčéą░ą╗ čüąĖą│ą░čĆąĄčéčŗ ąĖ ąĘą░ą║čāčĆąĖą╗, ąĖ čéčāčé ąĖąĘ ą┐čĆąĖą▒čĆąĄąČąĮčŗčģ
ą║čāčüč鹊ą▓ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣, ą┐ąŠčüč鹊čÅą╗ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ, ą║ą░ą║ čüčāčĆąŠą║, ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠ
ąĘą░ą┐ą╗ą░ą║ą░ą╗ ąĮą░ą▓ąĘčĆčŗą┤, č湥ą╝ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čüčéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗ ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ, ąĖ čüąĮąŠą▓ą░
čüą║čĆčŗą╗čüčÅ.
ą×ąĮąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠą│ąŠą┤ą║ą░ą╝ąĖ, ą┤ąĄą▓čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéąĖ ąĖ
ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéąĖ ą╗ąĄčé ąŠčé čĆąŠą┤čā, ą▓čŗčüąŠą║ąĖąĄ, čłąĖčĆąŠą║ąŠą┐ą╗ąĄčćąĖąĄ, čü ąĖčüą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ
ą│ą░čĆą╝ąŠąĮąĖčćąĮąŠą╣ ą╝čāčüą║čāą╗ą░čéčāčĆąŠą╣ ąĖ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéčī, čüč鹥ą┐ąĄąĮąĮčŗąĄ, čćąĖąĮąĮčŗąĄ
ąĖ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠčüą╗ąŠą▓ąĮčŗąĄ. ąĪčéą░čĆčłąĄą│ąŠ ąĘą▓ą░ą╗ąĖ ą£ą░ą║čüąĖą╝ąĖą╗ąĖą░ąĮ, ą╝ą╗ą░ą┤čłąĄą│ąŠ ŌĆö ą£ą░ą║čüąĖą╝.
ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ąĖ ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĖ čĆąŠą┤ąĖč鹥ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ
č鹊čćąĮąŠ čāą▓ąĄčĆąĄąĮčŗ, ą║ąŠą│ąŠ ą║ą░ą║ ąĘąŠą▓čāčé ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ, ą▓čŗą┐čĆą░ą▓ąĖą▓ ą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąĖąĄ
čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ ą╗ąĖčłčī čüą┐čāčüčéčÅ čéčĆąĖ ą│ąŠą┤ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĖčģ ąĘą▓ą░ą╗ąĖ
ą┐čĆąŠčüč鹊 ą£ą░ą║čüą░ą╝ąĖ. ąśčģ ąŠč鹥čå ą▓ ą┐čĆąĖą┤čāą╝čŗą▓ą░ąĮąĖąĖ ąĖą╝čæąĮ čüą▓ąŠąĖą╝ ą┤ąĄčéčÅą╝ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗čüčÅ
ąŠčĆąĖą│ąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ ąŠą┤ąĮčā ąĖąĘ ą┤ąŠč湥čĆąĄą╣ ąĮą░ąĘą▓ą░ą╗ ą┤ą░ąČąĄ ążąĄą╗ąĖčåąĖąĄą╣, čéą░ą║ąĖą╝
ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąĮą░ą│čĆą░ą┤ąĖą▓ ąŠą▒ąĖą┤ąĮąŠą╣ ą┤ą╗čÅ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ąĖ ą║ą╗ąĖčćą║ąŠą╣ ążąĖą╗čÅ ŌĆö ą║ą░ą║ ąĄčæ
ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ąŠą║čĆąĄčüčéąĖą╗ąĖ ą▓ čüąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ čłą║ąŠą╗ąĄ.
ą×ą▒ą░ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗčģ čāąČąĄ ąŠą║ąŠą╗ąŠ ą│ąŠą┤ą░
ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą▓ čĆąŠąĘčŗčüą║ąĄ, ą║ą░ą║ čāą║ą╗ąŠąĮčÅčÄčēąĖąĄčüčÅ ąŠčé ą┐čĆąĖąĘčŗą▓ą░ ąĮą░ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčāčÄ
ą▓ąŠąĄąĮąĮčāčÄ čüą╗čāąČą▒čā.
ąæčĆą░čéčīčÅ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ą╗ą░ą║ą░ą╗ąĖ, ą▓čŗčĆąŠčüčłąĖąĄ
ą▓ čüčāčĆąŠą▓ąŠą╣ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čā ą╝ą╗ą░ą┤čłąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗čüčÅ ąĮąĄ ą┐ą╗ą░čć, ą░
ąŠčéčĆčŗą▓ąĖčüčéčŗą╣, čüą┤ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ąŠčĆąŠąĮąĖą╣ ą║ą╗čæą║ąŠčé, ą┤ąŠąĮąŠčüąĖą▓čłąĖą╣čüčÅ ąĖąĘ ą║čāčüč鹊ą▓.
ŌĆö ąŚą░čéą║ąĮąĖčüčī, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąĄą╝čā ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö
ąĪą╗čāčłą░čéčī ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąŠŌĆ” ą£čāąČąĖą║!
ą£ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čü čüčāą╝ą║ąŠą╣ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊
ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖą╗čüčÅ ą║ ą╗ąŠą┤ą║ąĄ ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą▒ąĄąĘ ą▓čüčÅą║ąĖčģ 菹╝ąŠčåąĖą╣:
ŌĆö ą» ą▓čĆą░čć čĆą░ą╣ąŠąĮąĮąŠą╣ ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčŗ.
ŌĆö ąś čćč鹊 ą┤ą░ą╗čīčłąĄ? ŌĆö ą┐ąŠč鹊čĆąŠą┐ąĖą╗ ąŠąĮ.
ŌĆö ąØčāąČąĮąŠ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī čéčĆčāą┐ ą▓ ą╝ąŠčĆą│. ąĀą░ąČąĮčŗą╣
ą┐ąŠą╝ąŠą╗čćą░ą╗, čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĮą░čéčÅąĮčāč鹊:
ŌĆö ąÜą░ą║ąŠą╣ ąĄčēčæ čéčĆčāą┐?
ąóąĄą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ čüčéą░čĆčłąĖą╣ ą£ą░ą║čü čüą┐ąŠą╗ąŠčüąĮčāą╗
ą▓ąŠą┤ąŠą╣ ą╗ąĖčåąŠ, ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠčéčĆąĄčłčæąĮąĮąŠ:
ŌĆö ą×ąĮą░ čāą╝ąĄčĆą╗ą░ŌĆ”
ŌĆö ąÜč鹊 ŌĆö ąŠąĮą░?
ŌĆö ąöčÅą┤čÅ ąĪą╗ą░ą▓ą░, ąŠąĮą░ čāą╝ąĄčĆą╗ą░! ŌĆö ą▓ ą┤ąĄčéčüą║ąŠą╝
ąŠčéčćą░čÅąĮąĖąĖ ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąĪąĄą╣čćą░čü, ąĮą░ ąĮą░čłąĖčģ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ!
ąś čü čāąČą░čüąŠą╝ ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ čéčāą┤ą░, ą│ą┤ąĄ čüč鹊čÅą╗ąĖ
ą║ąŠąĮąĖ ąĖ ąŠčéą║čāą┤ą░ ą┤ąŠąĮąŠčüąĖą╗čüčÅ ą┐ą╗ą░čć ą╝ą╗ą░ą┤čłąĄą│ąŠ.
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┤ąŠą│ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗čüčÅ, ą║č鹊 ą╝ąŠą│ čāą╝ąĄčĆąĄčéčī,
ąĮąŠ ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗, ąĮąĄ ąČąĄą╗ą░ą╗ ą▓ąĄčĆąĖčéčī ąĖ ąĄčēčæ ąĮą░ą┤ąĄčÅą╗čüčÅ čāčüą╗čŗčłą░čéčī ą┤čĆčāą│ąŠąĄ ąĖą╝čÅŌĆ”
ŌĆö ą£ąŠąČąĄčé, čéčŗ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčłčī, ą║č鹊? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
čā ą▓čĆą░čćą░ ąĖ ą▓čŗčłąĄą╗ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│.
ŌĆö ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ, ŌĆö ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ č鹊čé ąĖ ąĘą░ą╝čÅą╗čüčÅ. ŌĆö
ąöąŠą║čāą╝ąĄąĮč鹊ą▓ ąĮąĄčéŌĆ” ą¢ąĄąĮčēąĖąĮą░ ą╗ąĄčé ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéąĖ. ą£ąĄąĮčÅ ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘą╗ąĖ ą║ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣ŌĆ” ą×č湥ąĮčī
ą║čĆą░čüąĖą▓ą░čÅŌĆ” ą┤ąĄą▓čāčłą║ą░.
ąŚą░ ą▒ąĄąĘčāčćą░čüčéąĖąĄą╝ ąĖ čĆą░ą▓ąĮąŠą┤čāčłąĖąĄą╝ ą┤ąŠą║č鹊čĆą░
čüą║čĆčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī čĆą░čüč鹥čĆčÅąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ čüąĖą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ: ą▓ąĖčłąĮčæą▓ąŠ‑čüąĖąĮąĖąĄ
ą┐čĆąŠčéčāą▒ąĄčĆą░ąĮčåčŗ ąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąĖ čüč鹥ą╗ąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ą┤
ąĘąĄą╝ą╗čæą╣ ą║ą╗ąŠčćą║ąŠą▓ą░čéčŗą╝ąĖ čüą┐ąŠą╗ąŠčģą░ą╝ąĖ.
ŌĆö ąóčŗ ąČąĄ ą┐ąŠą╝ąĮąĖčłčī, ą┤čÅą┤čÅ ąĪą╗ą░ą▓ą░, ŌĆö ą▓
čüč鹊čĆąŠąĮčā ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čüčéą░čĆčłąĖą╣ ą£ą░ą║čü. ŌĆö ąÆ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą╝ ą│ąŠą┤čā ą┤ąĄą▓čāčłą║ą░
ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗ą░čüčī, ą£ąĖą╗čÅ ąĘą▓ą░ą╗ąĖŌĆ” ą£ąĖą╗ąĖčéąĖąĮą░ ą┐ąŠą╗ąĮąŠąĄ ąĖą╝čÅŌĆ”
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą╝ąŠą╗čćą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą║ ą╗ąŠčłą░ą┤čÅą╝,
ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗą╝ ąĘą░ ą║ąŠčĆčÅą│čā ąĮą░ čüą║ą╗ąŠąĮąĄ ą▒ąĄčĆąĄą│ą░, ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą▓čĆą░čć č鹊čéčćą░čü
ą┐ąŠčłą╗ąĖ ąĘą░ ąĮąĖą╝.
ąŚą░ą▓čæčĆąĮčāč鹊ąĄ ą▓ ą┐ąŠą┤ąŠą┤ąĄčÅą╗čīąĮąĖą║ č鹥ą╗ąŠ ą╗ąĄąČą░ą╗ąŠ
ąĮą░ ą┐čĆąĖą╝ąĖčéąĖą▓ąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╗ąŠą║čāčłąĄ, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ, č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą┤ą▓čāčģ
čüčĆčāą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▒ąĄčĆčæąĘ. ąÆąŠąĘą╗ąĄ ąĮąĄą│ąŠ čüąĖą┤ąĄą╗ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą£ą░ą║čü, ą┤ąĄčƹȹ░ čĆčāą║ąĖ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣
ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ čĆčāą║ą░čģ ŌĆö ą▒čāą┤č鹊 ąŠč鹊ą│čĆąĄčéčī ą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ.
ąĢčēčæ ą│ąŠą┤ ąĮą░ąĘą░ą┤, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▓
ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ čĆą░ąĘ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą£ąĖą╗čÄ, ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą║čĆą░čüą░ą▓ąĖčåąĄą╣. ąóąŠčćąĮąĄąĄ, ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊
čüą╝ą░ąĘą╗ąĖą▓ąŠą╣ ąĖ čāčģąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣, ą║ą░ą║ąĖčģ čüąĄą╣čćą░čü ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠ, ą░ ą┐ąŠčéčĆčÅčüą░čÄčēąĄą╣
ą▓ąŠąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ąĖą▒ąŠ ąĮąĖą║č鹊 ąĄą╝čā čéą░ą║ ąĮąĄ čüąĮąĖą╗čüčÅ, ą║ą░ą║ čŹčéą░ ą┤ąĄą▓ąĖčåą░ ą╗čæą│ą║ąŠą│ąŠ
ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ.
ąØąŠ ąŠ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąĖą║ą░čģ ąĖą╗ąĖ čģąŠčĆąŠčłąŠ, ąĖą╗ąĖ
ąĮąĖč湥ą│ąŠŌĆ”
ąŻąĘąĮą░čéčī ą╝čæčĆčéą▓čāčÄ čüąĄą╣čćą░čü ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ:
ąĖąĘą╝ąŠąČą┤čæąĮąĮąŠąĄ ąČčæą╗č鹊ąĄ ą╗ąĖčåąŠ, ą┐čĆąŠą▓ą░ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ čüčéą░čĆčāčłąĄčćąĖą╣ čĆąŠčé, čüą║ą░čéą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓
ą╝ąŠčćą░ą╗ą║čā ą▓ąŠą╗ąŠčüčŗ ąĖ ą║ą░ą┐ą╗ąĖ ą┐ąŠčéą░, ą▒čāą┤č鹊 ąĘą░ą╗ąĄą┤ąĄąĮąĄą▓čłąĖąĄ ąĮą░ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╝ ą╗ą▒čāŌĆ”
ŌĆö ą×ąĮą░ ą┐čĆąĄą║čĆą░čüąĮą░, ŌĆö ą╝ąĄąČą┤čā č鹥ą╝
ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą┤ąŠą║č鹊čĆ. ŌĆö ąĪą╝ąĄčĆčéčī ą┐čĆąŠą┤ąĄą╗čŗą▓ą░ąĄčé čü ąČąĄąĮčēąĖąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčĆą░ąĘąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ
ą▓ąĄčēąĖŌĆ”
ąĪčéą░čĆčłąĖą╣ ą£ą░ą║čü ąŠą┐čāčüčéąĖą╗čüčÅ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü
ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, ą▒ąĄčĆąĄąČąĮąŠ ąŠčéąĮčÅą╗ ąŠą┤ąĮčā čĆčāą║čā ąĄčæ čā ą╝ą╗ą░ą┤čłąĄą│ąŠ ąĖ čüčéą░ą╗
ą│ą╗ą░ą┤ąĖčéčī čüą║čĆčÄč湥ąĮąĮčŗąĄ ą┐ą░ą╗čīčåčŗ.
ŌĆö ąōą┤ąĄ ąĄčæ ąĮą░čłą╗ąĖ? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣
ą▒čĆą░čéčīąĄą▓, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠąĮąĖ ą┐ąĄčĆąĄą│ą╗čÅąĮčāą╗ąĖčüčī ąĖ ą┐čĆąŠą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖ.
ŌĆö ąÆ ą┤ąŠą╝ąĖą║ąĄ ą▒čŗą╗ą░, ŌĆö ą▓ą╝ąĄčüč鹊
ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗčģ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą┤ąŠą║č鹊čĆ. ŌĆö ąśąĘą▒čāčłą║ą░ ąĮą░ ą║čāčĆčīąĖčģ ąĮąŠąČą║ą░čģŌĆ” ąÆ čéčÅąČčæą╗ąŠą╝
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖŌĆ” ąæąŠą╗ąĄąĘąĮčī ąŠą▒ąĄąĘąŠą▒čĆą░ąĘąĖą╗ą░, ą░ čüą╝ąĄčĆčéčī ąĖąĘą▓ą░čÅą╗ą░ ą║čĆą░čüąŠčéčā.
ŌĆö ą×čéč湥ą│ąŠ čāą╝ąĄčĆą╗ą░? ŌĆö ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗ ą│ąŠą▓ąŠčĆą╗ąĖą▓ąŠą│ąŠ
ą┤ąŠą║č鹊čĆą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ŌĆö ąóčĆčāą┤ąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčīŌĆ” ąÆčüą║čĆčŗčéąĖąĄ ą┐ąŠą║ą░ąČąĄčé.
ąØčāąČąĮąŠ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą▓ ą╝ąŠčĆą│. ą¤ąŠą╝ąŠą│ąĖč鹥 ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī čéčĆčāą┐.
ŌĆö ą×ąĮą░ ąĘą░ą▒ąŠą╗ąĄą╗ą░, ŌĆö ąĮąĄ čüčĆą░ąĘčā ą┐ąŠčÅčüąĮąĖą╗
čüčéą░čĆčłąĖą╣. ŌĆö ąóčĆąĖ ą╝ąĄčüčÅčåą░ ąĮą░ąĘą░ą┤, ą╗ąĄč鹊ą╝ŌĆ”
ŌĆö ąÉ ąĘą░ ą╝ąĮąŠą╣ ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ
ą┐ąŠąĘą░ą▓č湥čĆą░! ŌĆö čāą║ąŠčĆąĖą╗ ą▓čĆą░čć. ŌĆö ąóąĄą┐ąĄčĆčī ąŠčéą▓ąĄčćą░čéčī ą▒čāą┤ąĄč鹥, ą╗ąĄą║ą░čĆąĖ!
ąæčĆą░čéčīčÅ čüą║ąŠčĆą▒ąĮąŠ ą┐ąŠą╝ą░ą╗ą║ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĖ ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ ąĮąĄ
ąŠą▒ ąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖŌĆ”
ŌĆö ąØąĄčüąĖč鹥 ąĄčæ ą▓ ą╗ąŠą┤ą║čā, ŌĆö čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ
ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ą£ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ č鹥ą╗ąŠ ąĮą░ čĆčāą║ąĖ ąĖ ą┐ąŠąĮčæčü ą║ čĆąĄą║ąĄ, čüčéą░čĆčłąĖą╣
čłčæą╗ čĆčÅą┤ąŠą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗ čüą▓ąĖčüą░čÄčēčāčÄ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā.
ŌĆö ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ąĘą░ą┐čāčēąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ą▓čāčüč鹊čĆąŠąĮąĮąĄąĄ
ą▓ąŠčüą┐ą░ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą╗čæą│ą║ąĖčģ, ŌĆö ąĮą░ čģąŠą┤čā ą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠą┤ąĄą╗ąĖą╗čüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ
ą┤ąŠą║č鹊čĆ. ŌĆö ąĪąĖą╗čīąĮčŗą╣ ą║ą░čłąĄą╗čī, ą║čĆąŠą▓čī ą▓ ą╝ąŠą║čĆąŠčéą░čģŌĆ”
ąŻč鹊ą╝ą╗čæąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĄą╣ čüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ ą╗ąĄčüąĮčŗčģ
ą▒čĆą░čéčīąĄą▓ ąĖ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ čüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣ čāą╝ąĖčĆą░čÄčēąĄą╣ ą┤ąĄą▓ąĖčåčŗ, ąŠąĮ č鹥ą┐ąĄčĆčī, ą║ą░ąČąĄčéčüčÅ,
čĆą░ą┤ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ, čćč鹊 ą▓čüčéčĆąĄčéąĖą╗ ą▓ąĘčĆąŠčüą╗ąŠą│ąŠ čüąĄčĆčīčæąĘąĮąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĖ čćč鹊 ąĖąĘą▒ą░ą▓ą╗ąĄąĮ
ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 ąŠčé ą┤ąŠą╗ą│ąĖčģ ą╝čŗčéą░čĆčüčéą▓ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠąĘą║ąĖ čéčĆčāą┐ą░ ą▓ ą╝ąŠčĆą│ čĆą░ą╣ąŠąĮąĮąŠą╣
ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčŗ. ąÜąŠą│ą┤ą░ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ č鹥ą╗ąŠ ąĮą░ ą┤ąĮąŠ ą╗ąŠą┤ą║ąĖ, ą┤ąŠą║č鹊čĆ čüąĄą╗
ąĮą░ čüą║ą░ą╝ąĄą╣ą║čā ą┐ąŠą▒ą╗ąĖąČąĄ, ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄą▓ą░čÅčüčī ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ, ą░ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü
ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą£ą░ą║čü.
ŌĆö ąĢąĘąČą░ą╣č鹥 ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą╝, ŌĆö ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ą¤ąĄčĆąĄą│čĆčāąĘ, ą╗ąŠą┤ą║ą░ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ą░čÅ.
ą¤ą░čĆąĄąĮčī ąĮąĄčģąŠčéčÅ, ąĮąŠ ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╗čüčÅ, čāą║čĆčŗą╗
ą╗ąĖčåąŠ ą£ąĖą╗ąĖ ąĖ ą▓čŗą╗ąĄąĘ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│. ąöąŠą║č鹊čĆ ąČąĄ ą┐čĆąĖą┤ą▓ąĖąĮčāą╗čüčÅ ąĄčēčæ ą▒ą╗ąĖąČąĄ, čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą╝ąĄąČą┤čā ą┐čĆąŠčćąĖą╝:
ŌĆö ąśąĮč鹥čĆąĄčüąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą▓čŗ čāąĘąĮą░ą╗ąĖ? ąśą╗ąĖ
čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ ąĄčģą░ą╗ąĖ?..
ŌĆö ąĪą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ, ŌĆö ą▒čāčĆą║ąĮčāą╗ č鹊čé, ąĘą░ą┐čāčüčéąĖą╗
ą╝ąŠč鹊čĆ ąĖ, ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāą▓čłąĖčüčī ąŠčé ą▓čüčéčĆąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄčéčĆą░, ą┐ąŠą│ąĮą░ą╗ ą┤čÄčĆą░ą╗čīą║čā ą▓ąĮąĖąĘ ą┐ąŠ
čĆąĄą║ąĄ. ąĪą║ąŠčĆą▒čÅčēąĖąĄ ą▒čĆą░čéčīčÅ ą▓čüą║ąŠčćąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą║ąŠąĮąĄą╣ ąĖ ą┐ąŠąĄčģą░ą╗ąĖ ąĮą░ą┐čĆčÅą╝čāčÄ, ą▓ąŠą╗čćčīąĖą╝
čģąŠą┤ąŠą╝, čüčĆąĄąĘą░čÅ čĆąĄčćąĮčŗąĄ ą╝ąĄą░ąĮą┤čĆčŗ.
ŌĆö ąĢčæ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čüą┐ą░čüčéąĖ! ŌĆö ą┤ąŠą║č鹊čĆ ąĄčēčæ
ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ąĮą░ą╗ą░ą┤ąĖčéčī čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ, ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĖčćą░čéčī ą▓ąŠą╣ ą╝ąŠč鹊čĆą░. ŌĆö ąźąŠčéčÅ ą▒čŗ ąĮą░
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĮąĄą╣ čĆą░ąĮčīčłąĄ!.. ą×čéą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī čüą░ąĮčĆąĄą╣čüąŠą╝ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĮčāčÄ ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčā!..
ąÉ čŹčéąĖ ą┐ąŠą╗čāą┤ąĖą║ąĖąĄ ą║ąŠą▓ą▒ąŠąĖ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĄčæ čéčĆą░ą▓ą║ąŠą╣! ąÜąŠą│ą┤ą░ ąĮčāąČąĮčŗ ą╝ąŠčēąĮčŗąĄ
ą░ąĮčéąĖą▒ąĖąŠčéąĖą║ąĖ!..
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░ą╗, ą╗ą░ą▓ąĖčĆčāčÅ ą╝ąĄąČą┤čā
č鹥čüąĮčŗčģ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ ąĖ ą▒čāčĆą╗čÅčēąĖčģ č鹊ą┐ą╗čÅą║ąŠą▓. ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü čüčāą╝ąĄčĆą║ą░ą╝ąĖ ąĘą░čüąĄčÅą╗
ą╝ąĄą╗ą║ąĖą╣, čģą╗čæčüčéą║ąĖą╣ ą┤ąŠąČą┤čī, ąŠčéč湥ą│ąŠ ą┐ąŠą┤ąŠą┤ąĄčÅą╗čīąĮąĖą║ ą▒čŗčüčéčĆąŠ ąĮą░ą╝ąŠą║ ąĖ ąŠą▒ą╗ąĄą┐ąĖą╗
čģčāą┤ąĄąĮčīą║ąŠąĄ č鹥ą╗čīčåąĄ. ą×ąĮ čüčéą░čĆą░ą╗čüčÅ čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ą▓ą┐ąĄčĆčæą┤ ąĖ ą┐ąŠ čüč鹊čĆąŠąĮą░ą╝, ąĮąŠ
ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ čüą░ą╝ čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐čĆąĖčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą║ ą╝čæčĆčéą▓ąŠą╣, ąĖ ąĮąĄą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą╗čīąĮąŠ ą▓čüą┐ą╗čŗą▓ą░ą╗ąĖ
ą▓ąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ ą│ąŠą┤ąĖčćąĮąŠą╣ ą┤ą░ą▓ąĮąŠčüčéąĖ.
ŌĆö ąŻ ąĮąĄčæ ą▒čŗą╗ą░ ąĮą░ čłąĄąĄ ą╗ąĄąĮčéą░? ŌĆö ą▓ą┤čĆčāą│
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ.
ŌĆö ąÜą░ą║ą░čÅ ą╗ąĄąĮčéą░?
ŌĆö ą¦čæčĆąĮą░čÅ, ą▒ą░čĆčģą░čéąĮą░čÅ? ąÜą░ą║ ą┐čĆąŠčüčéąĖčéčāčéą║ąĖ
ąĮąŠčüčÅčé?
ŌĆö ą×ąĮą░ čćč鹊, ą┐čĆąŠčüčéąĖčéčāčéą║ą░? ŌĆö
ąĘą░ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓čĆą░čć.
ŌĆö ąØąĄčé.
ŌĆö ąś čÅ ą┤čāą╝ą░čÄ. ąóą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé!
ąś čŹč鹊 ą▒čŗą╗ ą▓ąĄčüčī ą┤ąĖą░ą╗ąŠą│ ąĘą░ ą┤ąŠčĆąŠą│čā.
ąØą░ ą▒ą░ąĘčā ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ ą▓ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥,
ąĮą░čüą║ą▓ąŠąĘčī ą╝ąŠą║čĆčŗą╣ ąĖ ąŠąĘčÅą▒čłąĖą╣, čā ą┤ąŠą║č鹊čĆą░ čéą░ą║ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĘčāą▒ ąĮą░ ąĘčāą▒ ąĮąĄ
ą┐ąŠą┐ą░ą┤ą░ą╗. ąÉ ą▒čĆą░čéčīčÅ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗ čāąČąĄ čüč鹊čÅą╗ąĖ čā ą▓ąŠą┤čŗ, ąĖ ąĖčģ ą║ąŠąĮąĖ ą┐ą░čüą╗ąĖčüčī
ą┐ąŠ ą║čĆą░čÄ ąŠą▒čĆčŗą▓ą░, ą▓čŗčēąĖą┐čŗą▓ą░čÅ ąĄčēčæ ąĘąĄą╗ąĄąĮčāčÄ čéčĆą░ą▓čā. ąĢą┤ą▓ą░ ą╗ąŠą┤ą║ą░ čéą║ąĮčāą╗ą░čüčī ą▓
ą▒ąĄčĆąĄą│, ą║ą░ą║ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ ąĮą░ ąĮąŠčü ąĖ, ą│čĆąŠčģąŠčćą░ čüą░ą┐ąŠą│ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą╗ąĄąĘ ąĘą░
č鹥ą╗ąŠą╝ ą£ąĖą╗ąĖ ŌĆö čüą┐ąĄčłąĖą╗ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╝ ą▓ąĘčÅčéčī ąĄčæ, ą▒ąŠčÅą╗čüčÅ, ąŠčéąĮąĖą╝čāčé. ąÆčüčéą░ą╗ ąĮą░
ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, ą▒ąĄčĆąĄąČąĮąŠ ą┐čĆąŠčüčāąĮčāą╗ čĆčāą║ąĖ ą┐ąŠą┤ čłąĄčÄ ąĖ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ąĖ čéą░ą║ ąČąĄ
č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ą┐ąŠąĮčæčü ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│. ąōąŠą╗ąŠą▓ą░ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣ ąŠčéą║ąĖąĮčāą╗ą░čüčī, ą┐ąŠą┤ąŠą│ąĮčāą╗ąĖčüčī
ąĮąŠą│ąĖ, ąĖ ą▓čüčÅ ąŠąĮą░ čüąŠą▒čĆą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą╝ąŠą║čĆčŗą╣ ą║ąŠą╝ąŠč湥ą║, ąĘą░ą║čĆčāč湥ąĮąĮčŗą╣ ą▓
ą┐ąŠą┤ąŠą┤ąĄčÅą╗čīąĮąĖą║, ą║ą░ą║ ą▓ ą┐ąĄą╗čæąĮą║čā.
ŌĆö ąŻ ą▓ą░čü ąĄčüčéčī ą╝ą░čłąĖąĮą░? ŌĆö čüą┐ąŠčģą▓ą░čéąĖą╗čüčÅ
ą┤ąŠą║č鹊čĆ.
ŌĆö ąĢčüčéčī, ŌĆö ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣, ą┐čĆąŠą▓ąŠąČą░čÅ
ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą▒čĆą░čéčīąĄą▓. ŌĆö ąØąŠ ąĮąĄ ą┤ą░ą╝.
ŌĆö ą¤ąŠč湥ą╝čā?
ŌĆö ąöą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čī čĆą░ąĘąŠą▒čĆą░ąĮŌĆ”
ŌĆö ąÉ ą║ą░ą║ ąČąĄ ą╝ąĮąĄ ąĄčģą░čéčī? ąÜą░ą║ ą▓ąĄąĘčéąĖ čéčĆčāą┐?
ŌĆö ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ, ŌĆö ąŠąĮ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ą╗ ą╗ąŠą┤ą║čā ąĖ ą┐ąŠčłčæą╗
ą▓ ą│ąŠčĆčā.
ŌĆö ąØąŠ ąĄą│ąŠ čüčĆąŠčćąĮąŠ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą▓
ą╝ąŠčĆą│!
ŌĆö ąÆ ą╝ąŠčĆą│ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖ ąĮąĄ čüčĆąŠčćąĮąŠ, ŌĆö
ą┐čĆąŠą▒čāčĆčćą░ą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ąĀą░ąĮčīčłąĄ ą┐ąŠčłąĄą▓ąĄą╗ąĖą╗čüčÅ ą▒čŗ ŌĆö ą▓ ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčā ąŠčéą▓čæąĘŌĆ”
ąÆčĆą░čć čćčāčéčī ą┐čĆąĖąŠčéčüčéą░ą╗, čĆą░čüč鹥čĆčÅąĮąĮčŗą╣,
ą┐ąŠč鹊ą╝ ą┤ąŠą│ąĮą░ą╗ ŌĆö ą▒ąĄąČą░ą╗ čĆčŗčüčīčÄ, čĆą░ąĘąŠą│čĆąĄą▓ą░ą╗čüčÅ.
ŌĆö ąś ą┐ąŠą▒ą╗ąĖąĘąŠčüčéąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčéą░ ąĮąĄ
ą┤ąŠčüčéą░čéčī?
ŌĆö ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ąĘą░ą▓čéčĆą░ ąĘą░ąĄą┤ąĄčé ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ŌĆ”
ą£ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čŗąĮąĄčü č鹥ą╗ąŠ ąĮą░
ą▒ąĄčĆąĄą│ ąĖ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ą▓ ąĮąĄčĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ. ąĪčéą░čĆčłąĖą╣ čģąŠč鹥ą╗ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī
ąĄą╝čā, ą▓ąĘčÅčéčī čüą║ąŠčĆą▒ąĮčāčÄ ąĮąŠčłčā, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ č鹊čé ąŠčéčüčéčĆą░ąĮąĖą╗čüčÅ ąĖ ą║čĆąĄą┐č湥 ą┐čĆąĖąČą░ą╗ ą║
čüąĄą▒ąĄ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮčāčÄ.
ŌĆö ą¦č鹊 ąČąĄ ąĮą░ą╝ ą┤ąĄą╗ą░čéčī? ŌĆö ąĘą░ ą▓čüąĄčģ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą┤ąŠą║č鹊čĆ.
ŌĆö ą¢ą┤ą░čéčī čāčéčĆą░, ŌĆö ąĮą░ čģąŠą┤čā ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÅčüčī ą║ čüą▓ąŠąĄą╝čā ą┤ąŠą╝čā. ŌĆö ąÆąŠąĮ ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīčÅ ą│ąŠčüčéąĖąĮąĖčåą░ŌĆ”
ŌĆö ąÉ čéčĆčāą┐?.. ą¤ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄč鹥, ąĄą│ąŠ ąĮčāąČąĮąŠ
ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą┤ą╗čÅ čüčāą┤ąĄą▒ąĮąŠ‑ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮčüą║ąŠą╣ 菹║čüą┐ąĄčĆčéąĖąĘčŗ. ąśąĮą░č湥 ąĮą░čćąĮčāčéčüčÅ
čģąĖą╝ąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčŗ ą▓ čéą║ą░ąĮčÅčģ, ą╝ąŠąĘą│ąĄ, čĆą░ąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄŌĆ” ŌĆö ąŠąĮ ąŠą│ą╗čÅąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░
ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗčģ, ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čłčæą┐ąŠč鹊ą╝. ŌĆö ąØąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, č湥ą╝ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ
ą▒ąŠą╗čīąĮčāčÄ. ą£ąŠąČąĄčé, ąŠčéčĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ ąĮąĄą▓ąĄąČąĄčüčéą▓čāŌĆ” ąŻ ą▓ą░čü ąĄčüčéčī ą╝ąŠčĆąŠąĘąĖą╗čīąĮą░čÅ
ą║ą░ą╝ąĄčĆą░?
ŌĆö ąĢčüčéčīŌĆ” ąØąŠ ą┤ą╗čÅ čģčĆą░ąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĖčēąĄą▓čŗčģ
ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓, ą░ ąĮąĄ čéčĆčāą┐ąŠą▓.
ŌĆö ąöą░ ąĮąĖč湥ą│ąŠ čü ąĮąĄą╣ ąĮąĄ čüą╗čāčćąĖčéčüčÅ!
ą¤čĆąŠą▓ąĄą┤čæč鹥 ą┤ąĄąĘąĖąĮč乥ą║čåąĖčÄ!..
ŌĆö ą£ąŠčĆąŠąĘąĖą╗čīąĮąĖą║ąĖ ąŠčéą║ą╗čÄč湥ąĮčŗ, ąĮąĄčé 菹ĮąĄčĆą│ąĖąĖ.
ą×čéąĮąĄčüąĖč鹥 č鹥ą╗ąŠ ą▓ ┬½čłą░ą╣ą▒čā┬╗.
ŌĆö ąÆ ą║ą░ą║čāčÄ čłą░ą╣ą▒čā? ŌĆö ą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╗čüčÅ ąĖ
čĆą░ąĘąŠą│čĆąĄą╗čüčÅ ą▓čĆą░čć.
ŌĆö ą×ąĮąĖ ąĘąĮą░čÄčé, ą▓ ą║ą░ą║čāčÄ. ŌĆö ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą║ąĖą▓ąĮčāą╗
ąĮą░ ą▒čĆą░čéčīąĄą▓ ąĖ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą▓čłąĖčüčī ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčåąŠ, čüąĮčÅą╗ čü ą│ą▓ąŠąĘą┤čÅ ą║ą╗čÄčć, ą▒čĆąŠčüąĖą╗
ą┤ąŠą║č鹊čĆčā. ŌĆö ą×č鹊ą┐čĆčæč鹥 ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖč鹥 ąĮą░ ą┐ąŠą┤ą┤ąŠąĮ. ąóą░ą╝ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠŌĆ”
ąÆ ą┤ąŠą╝ąĄ ąŠąĮ ąĘą░ąČčæą│ ą║ąĄčĆąŠčüąĖąĮąŠą▓čāčÄ ą╗ą░ą╝ą┐čā,
ąĘą░ą┤čæčĆąĮčāą╗ čłč鹊čĆčŗ ąĮą░ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠą║ąĮą░čģ, ąĘą░ą┐ąĄčĆ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąĮą░ ąĘą░čüąŠą▓ ąĖ,
čüą┐čāčüčéąĖą▓čłąĖčüčī ą▓ ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗, ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą▒ąŠč湊ąĮąŠą║ čü čģą╝ąĄą╗čīąĮčŗą╝ ą╝čæą┤ąŠą╝
čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąÆčŗą┤ąĄčĆąĮčāą▓ ąĘą░čéčŗčćą║čā, ą▒ąĄčĆąĄąČąĮąŠ,
ą┐ąŠ‑čüą║čāą┐ąĄčĆą┤čÅą╣čüą║ąĖ, ąĮą░čåąĄą┤ąĖą╗ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▓ ą│ą╗čāą▒ąŠą║čāčÄ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčāčÄ ą╝ąĖčüą║čā, ą┐ąŠčüą╗ąĄ
č湥ą│ąŠ čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą▒ąŠč湊ąĮąŠą║ ąĮą░ąĘą░ą┤, ą░ ą▓ ą╝čæą┤ ą┤ąŠą╗ąĖą╗ ą▓ąŠą┤čŗ, čĆą░ąĘą▒ą░ą▓ąĖą▓ ąĄą│ąŠ čéą░ą║ąĖą╝
ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ čĆą░ąĘą░ ą▓ č湥čéčŗčĆąĄ. ą¤ąŠą║čĆčŗčéčāčÄ ą┐ąŠą╗ąŠč鹥ąĮčåąĄą╝ ą╝ąĖčüą║čā ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĮą░ čüč鹊ą╗ąĄ, ą░
čüą░ą╝ čüąĮčÅą╗ čü ą┐ąŠą╗ą║ąĖ čĆčāčćąĮčāčÄ ą║ąŠč乥ą╝ąŠą╗ą║čā, ąĘą░čüčŗą┐ą░ą╗ čéčāą┤ą░ čüą╝ąĄčüčī čüąĄą╝čÅąĮ čéą╝ąĖąĮą░ ąĖ
ąŠčüčéčĆąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆčåą░, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ąĖ čüčéą░čĆą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą╝ąŠą╗ąŠčéąĖą╗, ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ
ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖą╗čüčÅ ą┤čāčłąĖčüč鹊ą╣ ą╝čāą║ąŠą╣ čüčéą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüčéą░ą║ą░ąĮčćąĖą║.
ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ čāąČąĖąĮ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮčēąĖą║ą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤
čüčģą▓ą░čéą║ąŠą╣. ą×ąĮ ąĄą╗ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ąĖ ąĘą░ą┤čāą╝čćąĖą▓ąŠ, ą░ą║ą║čāčĆą░čéąĮąŠ ąĘą░čüčŗą┐ą░čÅ ą▓ čĆąŠčé
čēąĄą┐ąŠčéą║čā ą╝čāą║ąĖ ąĖ ąĘą░ą┐ąĖą▓ą░čÅ ąĄčæ čĆą░ąĘą▒ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ čģą╝ąĄą╗čīąĮčŗą╝ ą╝čæą┤ąŠą╝. ąĪąĮą░čćą░ą╗ą░
ą║č鹊‑č鹊 ą┐ąŠčüčéčāčćą░ą╗ ą▓ ą┤ą▓ąĄčĆčī, č湥čĆąĄąĘ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé ŌĆö ą▓ ąŠą║ąĮąŠ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ
ąĮąĖčćč鹊 ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ąŠč鹊čĆą▓ą░čéčī ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ ąŠčé čŹč鹊ą╣ čĆąĖčéčāą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąĄą┤čŗ. ą¤ąŠą║ąŠąĮčćąĖą▓ čü
čāąČąĖąĮąŠą╝, ąŠąĮ čüą┐ąŠą╗ąŠčüąĮčāą╗ ą╝ąĖčüą║čā, ą▓čŗą╝čŗą╗ čĆčāą║ąĖ ąĖ ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ąŠčéą▒čĆąŠčüąĖą╗
ąĘą░čüąŠą▓: ąŠąĮ ąČą┤ą░ą╗, čćč鹊 ą┐ąĄčĆą▓čŗą╝ąĖ ą┐čĆąĖą┤čāčé ą£ą░ą║čüčŗ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖčģ ąŠą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖą╗ ą▓čĆą░čć.
ŌĆö ą£čŗ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ čéčĆčāą┐ ą▓ čŹčéčā čłą░ą╣ą▒čā, ŌĆö
čüąŠąŠą▒čēąĖą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąØąŠ čéą░ą╝ ąĮąĄ ąŠč湥ąĮčī čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠ. ąś ą║čĆčŗčüčŗ.
ŌĆö ąØąĄ čéčĆąŠąĮčāčé, ŌĆö ąĘą░ą▓ąĄčĆąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ą¦č鹊
ąĄčēčæ?
ŌĆö ąÉ čāčéčĆąŠą╝ č鹊čćąĮąŠ ą▒čāą┤ąĄčé čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčé?
ŌĆö ąŁč鹊ą│ąŠ ąĮąĄ ąĘąĮą░ąĄčé ąĮąĖą║č鹊.
ŌĆö ąĪą▓čÅąĘąĖ č鹊ąČąĄ ąĮąĄčé? ąĀą░ą┤ąĖąŠčüčéą░ąĮčåąĖčÅ ąĖą╗ąĖ
čüąŠč鹊ą▓čŗą╣ č鹥ą╗ąĄč乊ąĮ?
ŌĆö ąØą░ čüąŠč鹊ą▓čŗą╣ ąĮąĄ ąĘą░čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ŌĆ”
ąöąŠą║č鹊čĆ čćčāčÅą╗, čćč鹊 čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ ą┐čāčüč鹊ą╣ ąĖ
ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╣, ąĮąŠ ąĮąĄ čāčģąŠą┤ąĖą╗, ą╝čÅą╗čüčÅ čā ą┐ąŠčĆąŠą│ą░, ąĖčüą┐ąŠą┤ą▓ąŠą╗čī ąŠąĘąĖčĆą░čÅ
ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ ą┤ąŠą╝ą░.
ŌĆö ąśąĘą▓ąĖąĮąĖč鹥, ą░ ą┐ąŠąĄčüčéčī čā ą▓ą░čü ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ
ąĮą░ą╣ą┤čæčéčüčÅ? ŌĆö ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå čĆąĄčłąĖą╗čüčÅ ąŠąĮ. ŌĆö ąĪčāčéą║ąĖ, ą║ą░ą║ ąĖąĘ ą┤ąŠą╝ą░ŌĆ”
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą╝ąŠą╗čćą░ ą▓ąĘčÅą╗ ą╗ą░ą╝ą┐čā ąĖ ą┐ąŠą▓čæą╗ ą▓
ą║ą╗ą░ą┤ąŠą▓čāčÄ. ąĪąĮčÅą╗ čüąŠ čüč鹥ąĮčŗ ą┐čāčüčéčāčÄ ą║ąŠčƹʹĖąĮčā, čüčāąĮčāą╗ ą▓ čĆčāą║ąĖ ą┤ąŠą║č鹊čĆą░ ąĖ čüčéą░ą╗
čēąĄą┤čĆąŠ ą▒čĆąŠčüą░čéčī čéčāą┤ą░ ą▒ą░ąĮą║ąĖ čü čéčāčłčæąĮą║ąŠą╣, čüą│čāčēčæąĮą║ąŠą╣, čüčāčģą░čĆąĖ ąĖ ą┐ąĄč湥ąĮčīąĄ ą▓
ą┐ą░čćą║ą░čģ. ąśąĘą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓čĆą░čć ąŠąČąĖą▓ą░ą╗, ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ąĮąĖą╝ ąŠąČąĖą▓ą░ą╗ą░
čüą║čĆąŠą╝ąĮąŠčüčéčī.
ŌĆö ąöą░ čģą▓ą░čéąĖčé, ą║čāą┤ą░ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ? ŌĆö ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗
ąŠąĮ. ŌĆö ąØą░ čéčĆąŠąĖčģ‑č鹊ŌĆ” ąØą░ą╝ ą┐ąĄčĆąĄą║čāčüąĖčéčī č鹊ą╗čīą║ąŠŌĆ”
ąØąŠ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ čüą▓ąĄčéąĖą╗čüčÅ ą┐čĆąĖą╝ąĖčéąĖą▓ąĮčŗą╣
č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ą│ąŠą╗ąŠą┤, ą┐ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéąĖ ąĄčēčæ ąŠčģą▓ą░čéčŗą▓ą░čÄčēąĖą╣ čĆą░ąĘčāą╝. ąĀą░ąČąĮčŗą╣
ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗ ą┐ą░čĆčā ą▒ą░ąĮąŠą║ ą┤ąĄą╗ąĖą║ą░č鹥čüą░ ŌĆö čéčĆąĄčüą║ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ąĄč湥ąĮąĖ, č湥ą╝ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ
čĆą░čüčéčĆąŠą│ą░ą╗ ą┤ąŠą║č鹊čĆą░.
ŌĆö ąÉ ą┐ąŠč湥ą╝čā ą▓čŗ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ąĖ ą┐čĆąŠ ą╗ąĄąĮčéčā? ŌĆö
ą▓ą┤čĆčāą│ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ ąŠąĮ.
ŌĆö ą¤čĆąŠ ą║ą░ą║čāčÄ ą╗ąĄąĮčéčā? ŌĆö ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčÅą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ŌĆö ąöą░ čā čŹč鹊ą╣, ŌĆö ą║ąĖą▓ąĮčāą╗ ąĮą░ čāą╗ąĖčåčā. ŌĆö ąŻ
ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣?.. ąöąŠą╗ąČąĄąĮ čüą║ą░ąĘą░čéčī ą▓ą░ą╝ ą┐ąŠ čüąĄą║čĆąĄčéčā, ąŠąĮą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąŠčüčéąĖčéčāčéą║ąŠą╣.
ŌĆö ąØąĄ ą▒čŗą╗ą░ ŌĆö čéą░ą║ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ŌĆ”
ŌĆö ą£ą░ą╗ąŠ č鹊ą│ąŠ, ŌĆö č鹊ąĮ ą┤ąŠą║č鹊čĆą░ čüčéą░ą╗
ą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝, ŌĆö čāą╝ąĄčĆčłą░čÅ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░čüčī ą┤ąĄą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖčåąĄą╣.
ŌĆö ąóčŗ čćč鹊 ąČąĄ, ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖą╗? ŌĆö ąĮąĄą┤ąŠą▒čĆąŠ
čāčüą╝ąĄčģąĮčāą╗čüčÅ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ŌĆö ąĀą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅŌĆ” ŌĆö čüą╝čāčéąĖą╗čüčÅ ąŠąĮ, čćčæčéą║ąŠ
čāą╗ąŠą▓ąĖą▓ č鹊ąĮ čüąŠą▒ąĄčüąĄą┤ąĮąĖą║ą░. ŌĆö ąÜąŠą│ą┤ą░ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ ąŠčüą╝ąŠčéčĆ. ąóą░ą╝ ąĄčēčæ, ą▓ ąĖąĘą▒čāčłą║ąĄ,
ą┐ąŠą║ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąČąĖą▓ą░ŌĆ” ąóą░ą║ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąŠŌĆ”
ŌĆö ąś čćč鹊 ąČąĄ čéčāčé ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ?
ŌĆö ąÆčŗ ąČąĄ čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, ą╗ąĄąĮčéą░ ąĮą░ čłąĄąĄ, ą║ą░ą║ čā
ą┐čĆąŠčüčéąĖčéčāčéą║ąĖ! ą×čéą║čĆčŗą▓ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╣ čÅčēąĖą║, ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ą┤ą▓ąĄ ą▒čāčéčŗą╗ą║ąĖ ą▓ąŠą┤ą║ąĖ ąĖ
č鹊ąČąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ ą▓ ą║ąŠčƹʹĖąĮčā.
ąŻ ą┤ąŠą║č鹊čĆą░ ą▒ą╗ąĄčüąĮčāą╗ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąŠčé
ą┐čĆąĄą┤ą▓ą║čāčłąĄąĮąĖčÅ, ąĮąŠ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĮąŠąĄ čüą╝čāčēąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ąŠ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ
ą┐ąŠčĆą░ą┤ąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą╝čā ąĖ ą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠą╝čā ąŠą▒ąŠčĆąŠčéčā.
ŌĆö ąŁč鹊 čāąČ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąöą░ąČąĄ
ąĮąĄą╗ąŠą▓ą║ąŠŌĆ”
ŌĆö ą¤ąŠą│čĆąĄąĄč鹥čüčī, ą┐ąŠą╝čÅąĮąĄč鹥 čāčüąŠą┐čłčāčÄŌĆ”
ŌĆö ą» ą┐čĆąŠą╝čæčĆąĘ ą┤ąŠ ą║ąŠčüč鹥ą╣! ŌĆö čüčćą░čüčéą╗ąĖą▓ąŠ
ą▓čŗą┐ą░ą╗ąĖą╗ ą▓čĆą░čć. ŌĆö ąĪąŠč鹊čćą║čā ą┐čĆąŠą┐čāčüčéąĖčéčī čüą░ą╝ąŠąĄ č鹊. ąĪą┐ąĖčĆčéą░ ąĮą░ą╝ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĮąĄ
ą┤ą░čÄčé!.. ąÉ ą▓čŗ čü ąĮą░ą╝ąĖ?..
ŌĆö ąöąĄą╗ ą╝ąĮąŠą│ąŠ, ŌĆö ą┐ąŠąČą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö
ąÜą▓ą░čĆčéą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąŠčéčćčæčé ą┤ą╗čÅ ąĮą░ą╗ąŠą│ąŠą▓ąŠą╣. ąØąŠčćą░ą╝ąĖ čüąĖąČčāŌĆ” ą¦ą░ą╣ąĮąĖą║ ąĖ ą┐ąŠčüčāą┤ą░ ąĄčüčéčī ą▓
ą│ąŠčüčéąĖąĮąĖčåąĄ.
ŌĆö ą£čŗ čüąŠ čüčéą░čĆčłąĖą╝ ą▓čüąĄ ąĮą░čłą╗ąĖ!
ŌĆö ąÉ čćč鹊 ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣?
ąÆčĆą░čć ą▓čŗąĮčāą╗ ą▒ąĄą╗čŗą╣ čüčāčģą░čĆčī ąĖąĘ ą║ąŠčƹʹĖąĮčŗ,
ąŠčéą║čāčüąĖą╗, čĆą░ąĘą│čĆčŗąĘ ą║čĆąĄą┐ą║ąĖą╝ąĖ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗą╝ąĖ ąĘčāą▒ą░ą╝ąĖ.
ŌĆö ą¤ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĄčéŌĆ” ąæą╗ą░ąČąĄąĮąĮčŗą╣!
ŌĆö ąóčŗ ą┐čĆąĖčüą╝ąŠčéčĆąĖ ąĘą░ ąĮąĖą╝, ŌĆö ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ąÉ ą╗čāčćčłąĄ ąĘą░čüčéą░ą▓čī ą▓čŗą┐ąĖčéčī čüčéą░ą║ą░ąĮ ą▓ąŠą┤ą║ąĖ ąĖ čāą╗ąŠąČąĖ čüą┐ą░čéčī. ą×ąĮ
čüą┐ąĖčĆčéąĮąŠą│ąŠ, ą┐ąŠąČą░ą╗čāą╣, ąĄčēčæ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ą╗. ąöąŠą╗ąČąĄąĮ čüčĆą░ąĘčā čüą╗ąŠą╝ą░čéčīčüčÅ.
ŌĆö ąøąŠą│ąĖčćąĮąŠ, ŌĆö ą┤ąŠą║č鹊čĆ čüą░ą╝ ą▓čŗąĮčāą╗ ąĖąĘ
ą║ąŠčĆąŠą▒ą║ąĖ ą▒ą░ąĮą║čā ą║čĆą░čüąĮąŠą╣ ąĖą║čĆčŗ. ŌĆö ąĢą╝čā ąĮą░ą┤ąŠ čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ąĖčéčīčüčÅ.
ą¤čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą▓ ąĄą│ąŠ ą┤ąŠ ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīąĄą╣ ą│ąŠčüčéąĖąĮąĖčåčŗ,
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╗, čćč鹊 ą▒čĆą░čéčīčÅ čāąČąĄ čüąĖą┤čÅčé ą▓ ąĘą░ą╗ąĄ čéčĆąŠč乥ąĄą▓ ŌĆö čéą░ą╝ ą│ąŠčĆąĄą╗ą░
ą║ąĄčĆąŠčüąĖąĮą║ą░ ŌĆö ąĖ ą┐ąĄą│ąĖąĄ čüčéčĆąĄąĮąŠąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠąĮąĖ ą┐ą░čüčāčéčüčÅ ąĘą░ čüąĄčéčćą░č鹊ą╣ ąĖąĘą│ąŠčĆąŠą┤čīčÄ
ą▓ą┤ąŠą╗čī čĆąĄą║ąĖ, ą│ą┤ąĄ ąĮą░ čüąŠą╗ąĮčåąĄą┐čæą║ąĄ ąĄčēčæ ąĘąĄą╗ąĄąĮąĄą╗ą░ ąĖ čåą▓ąĄą╗ą░ ą┐ąŠąĘą┤ąĮčÅčÅ čéčĆą░ą▓ą░. ą×ąĮ
ą▓čŗąČą┤ą░ą╗ ą┐ąŠą╗čćą░čüą░, ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░čÅ ąĘą░ ąŠą║ąĮą░ą╝ąĖ, ą│ą┤ąĄ ą╝ą░čÅčćąĖą╗ąĖ čéčĆąĖ č鹥ąĮąĖ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ
ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ąĘą░ą┐ą░čüąĮąŠą╣ ą║ą╗čÄčć ąŠčé ┬½čłą░ą╣ą▒čŗ┬╗ ąĖ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥 ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖą╗čüčÅ ą║
ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮąŠą╝čā ą║čĆčāą│ą╗ąŠą╝čā čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÄ ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą▒ą░ąĘčŗ. ąóą░ą║
ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ čüą░čĆą░ą╣, ą│ą┤ąĄ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ą▒čŗą╗ą░ 菹╗ąĄą║čéčĆąŠą┐ąŠą┤čüčéą░ąĮčåąĖčÅ. ąÆ
ąĘąĖą╝ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĘą┤ąĄčüčī ąŠčüčéčāąČą░ą╗ąĖ ą┐ą░čĆąĮąŠąĄ ą╝čÅčüąŠ ą▒ąĖčéčŗčģ ą╗ąŠčüąĄą╣ ąĖ ą║ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓,
ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą┤ ą┐ąŠč鹊ą╗ą║ąŠą╝ ą▓ąĖčüąĄą╗ąĖ ą║čĆčÄčćčīčÅ, ą░ ą▒ąĄč鹊ąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ ą▒čŗą╗ ąĘą░ą╗ąĖčé ąĖ
ą┐čĆąŠą┐ąĖčéą░ąĮ ą┐ąŠč湥čĆąĮąĄą▓čłąĄą╣ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮąŠą╣ ą║čĆąŠą▓čīčÄ.
ą×ąĮ ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ąĮąĄčćą░čÅąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠčüčéąĖ ąĮą░ ą▒ą░ąĘąĄ
čüąĄą╣čćą░čü ąĘą░ąĮčÅčéčŗ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗą╝ ąĘą░čüč鹊ą╗čīąĄą╝, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ.
ąóąĄą╗ąŠ ą£ąĖą╗ąĖ ą╗ąĄąČą░ą╗ąŠ ąĮą░ čüč鹊ą┐ą║ąĄ ą┐ąŠą┤ą┤ąŠąĮąŠą▓ ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ą║ąĖčĆą┐ąĖčćą░, ą║ą░ą║ ąĮą░
ą┐ąŠčüčéą░ą╝ąĄąĮč鹥. ą¤ąŠ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā ąĘą░ą▓čæčĆąĮčāč鹊ąĄ ą▓ ą╝ąŠą║čĆčŗą╣ ą┐ąŠą┤ąŠą┤ąĄčÅą╗čīąĮąĖą║, ąŠąĮąŠ
ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ąĖą╝ ąĖ čēčāą┐ą╗čŗą╝; čüą▓ąĄč湥ąĮąĖąĄ čüą╝ąĄčĆčéąĖ ą┤ąŠą▓ą╗ąĄą╗ąŠ ą▓ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ
ąĖ ą╝ąĄčłą░ą╗ąŠ ą┤čŗčłą░čéčī. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ąĮą░čłčæą╗ ąĄčæ ą╗ąĄą┤čÅąĮčāčÄ ą║ąĖčüčéčī čā ą┐ąŠą┤ą▒ąŠčĆąŠą┤ą║ą░, čüą║ąŠą╝ą║ą░ą╗
č鹊ąĮąĄąĮčīą║ąĖąĄ ą┐ą░ą╗čīčåčŗ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╣ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮąŠą╣ čĆčāą║ąĄ ąĖ ąĘą░ą╝ąĄčĆ.
ą¢ąĖąĘąĮčī ąĄčēčæ čéą╗ąĄą╗ą░ ą▓ čŹč鹊ą╣ ą┐ą╗ąŠčéąĖ, čģąŠčéčÅ ąŠąĮą░
čāą╝ąĄčĆą╗ą░ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čćą░čüąŠą▓ ąĮą░ąĘą░ą┤, čćč鹊 ąĖ ą║ąŠąĮčüčéą░čéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣
ą▓čĆą░čć. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéąĖ ąĖ ąĮąĄąŠą┐čŗčéąĮąŠčüčéąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĖ ŌĆö ąĮąĄ
ąĮą░čüčéčāą┐ą░ą╗ąŠ čéčĆčāą┐ąĮąŠą│ąŠ ąŠą║ąŠč湥ąĮąĄąĮąĖčÅ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą║čĆąŠą▓čī ąĄčēčæ ąĮąĄ čüą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī
ą▓ čüąŠčüčāą┤ą░čģ, ąĮąĄ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┐ąĄčćčæąĮą║čā, ąĖ ą╝čŗčłčåčŗ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅą╗ąĖ ą┐čĆąĄąČąĮčÄčÄ
菹╗ą░čüčéąĖčćąĮąŠčüčéčī, ą┤ąŠą┐ąĖą▓ą░čÅ ąŠčüčéą░čéą║ąĖ ąČąĖąĘąĮąĄąĮąĮąŠą╣ čüąĖą╗čŗ ąĖąĘ čŹč鹊ą╣ ą║čĆąŠą▓ąĖ, ą║ąŠčüč鹥ą╣ ąĖ
ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮąŠčćąĮąĖą║ą░, ą║ą░ą║ čĆą░čüč鹥ąĮąĖčÅ ą┤ąŠą┐ąĖą▓ą░čÄčé ą╝ąĄą╗čīčćą░ą╣čłąĖąĄ čćą░čüčéąĖčåčŗ ą▓ą╗ą░ą│ąĖ ą▓
ąĘą░čüčāčłą╗ąĖą▓čāčÄ ą┐ąŠčĆčā.
ąś ą▓čŗąČąĖą▓ą░čÄčé, ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÅ
ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ąĄčéčüčÅ ą▓ ąĘąŠą╗čāŌĆ”
ą¤ą╗ąŠčéčī ąĮąĄ ą▒čŗą╗ą░ ąĄčēčæ ą▒ąĄąĘą▓ąŠąĘą▓čĆą░čéąĮąŠ
čāčéčĆą░č湥ąĮąĮąŠą╣, ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ą░ ąĮą░ ą▓ąŠčüą║čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ą▓ąĖčéą░čÄčēą░čÅ
ąĮą░ą┤ č鹥ą╗ąŠą╝ ą┤čāčłą░ ą┐čĆąŠčÅą▓ąĖą╗ą░ ą║ čŹč鹊ą╝čā ą▓ąŠą╗čÄ.
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčüč鹊čÅą╗ ąĮą░ą┤ ą£ąĖą╗ąĄą╣ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ
ą╝ąĖąĮčāčé ŌĆö ą┤čāčłą░ čĆąĄčÅą╗ą░ ą┐ąŠą┤ ą┐ąŠč鹊ą╗ą║ąŠą╝ ┬½čłą░ą╣ą▒čŗ┬╗, čåąĄą┐ą╗čÅčÅčüčī ąĘą░ ą╝čÅčüąĮčŗąĄ ą║čĆčÄčćčīčÅ,
ąĖ č鹊ąĮčćą░ą╣čłą░čÅ čüą▓čÅąĘčāčÄčēą░čÅ čåąĄą┐ąŠčćą║ą░, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēą░čÅ ąČąĄą╝čćčāąČąĮčāčÄ ąĮąĖčéčī, ŌĆö
ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ąĄčæ ą║ąŠčĆąĄčłąŠą║, ąĄčēčæ ą║ą░čüą░ą╗čüčÅ ą┐ą╗ąŠčéąĖ ą▓ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮąŠą│ąŠ
čüą┐ą╗ąĄč鹥ąĮąĖčÅ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ ą┐čāčéčī ą║ ąŠčéčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÄ. ąØąŠ čāčéą╗ą░čÅ, ąĖčüčüąŠčģčłą░čÅ
čüą║ąŠčĆą╗čāą┐ą░ ŌĆö č鹊 ą▒ąĖčłčī, č鹥ą╗ąŠ, ąĮąĄ ą▓čŗčĆą░ąČą░ą╗ąŠ ąĮąĖ ą╝ą░ą╗ąĄą╣čłąĄą╣ ąŠčģąŠčéčŗ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čéčī
ą▒ąĖąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ.
ą×ąĮą░ čāą╝ąĄčĆą╗ą░ ąĮąĄ ąŠčé ą▓ąŠčüą┐ą░ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą╗čæą│ą║ąĖčģ, ąĖ
ąĮąĄ ąŠčé ą┤čĆčāą│ąŠą╣ č鹥ą╗ąĄčüąĮąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĖ; ą┤ąĖą░ą│ąĮąŠąĘ ą▒čŗą╗ ąĖąĮąŠą╣ ąĖ ą▓ąĄčüčīą╝ą░
čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčæąĮąĮčŗą╣ ą▓ č鹥ą║čāčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ, čģąŠčéčÅ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ čéčĆą░ą║č鹊ą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖ ąĮąĄ
ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą▓ą░ą╗čüčÅ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮąŠą╣. ąĪą╝ąĄčĆčéčī ąĮą░čüčéčāą┐ąĖą╗ą░ ąĖąĘ‑ąĘą░ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą│ąŠ
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄčćąĖčÅ ą╝ąĄąČą┤čā ą┤čāčłąŠą╣ ąĖ č鹥ą╗ąŠą╝, ąĮąĄ čüąŠą▓ą╝ąĄčüčéąĖą╝čŗą╝ čü ąČąĖąĘąĮčīčÄ.
ŌĆö ąØąĄ čüčéą░ąĮčā ą▒čāą┤ąĖčéčī č鹥ą▒čÅ, čüą┐ąĖ, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąŠąĮ ąĖ ą▓čŗčłąĄą╗, ąĘą░ą┐ąĄčĆąĄą▓ ą┤ą▓ąĄčĆčī, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą┤ąŠą╝ąŠą╣.
ąś čāąČąĄ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą▓čŗčüąŠą║ąŠąĄ ą║čĆčŗą╗čīčåąŠ,
ą║ąŠą│ą┤ą░ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąŠąĘą╗ąŠą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą╗ą░ą╣ ąøčÄčéčŗ ąĖ ą│čāą╗ ą┐čĆąŠą▓ąŠą╗ąŠą║ąĖ, ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣
čüą║ąŠą╗čīąĘąĖą╗ą░ čüąŠą▒ą░čćčīčÅ čåąĄą┐čī. ąÜąŠą│ąŠ‑č鹊 ąĮąŠčüąĖą╗ąŠ ąĮąŠčćčīčÄ ą┐ąŠ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą▒ą░ąĘčŗ ŌĆö
ąŠą▓čćą░čĆą║ą░ čüą▓ąŠą╣ čģą╗ąĄą▒ ąŠčéčĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░ą╗ą░ č湥čüčéąĮąŠ, ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čüčéą▓ čü ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ ąĮąĄ
ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ąĖ ąĮąĖą║ąŠą╝čā ąĮąĄ ą┤ąŠą▓ąĄčĆčÅą╗ą░, ą║čĆąŠą╝ąĄ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ŌĆö čüčéą░čĆąĖą║ą░
ą¤čĆąŠą║ąŠčäčīąĄą▓ą░, ąĖ čĆą░ą▒ąŠč鹊ą┤ą░č鹥ą╗čÅ ąĀą░ąČąĮąŠą│ąŠ.
ą×ąĮ čüą▒ąĄąČą░ą╗ čü ą║čĆčŗą╗čīčåą░, ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÅčüčī ą▓
ąŠą▒čĆą░čéąĮčāčÄ čüč鹊čĆąŠąĮčā, ąĖ čéčāčé ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ┬½čłą░ą╣ą▒čŗ┬╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║čāčÄ čäąĖą│čāčĆčā ŌĆö
ą║č鹊‑č鹊 ą║ąŠą▓čŗčĆčÅą╗čüčÅ čü ąĘą░ą╝ą║ąŠą╝ ąĮą░ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ. ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čģą╝ąĄą╗čī ąĮą░ ą▒čĆą░čéčīąĄą▓
ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓čŗčģ ą┐ąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ąĮąĄ čéą░ą║, ą║ą░ą║ čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī, ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čüąĮą░ ąĖ
čāč鹥賹ĄąĮąĖčÅ ą▓ čüą║ąŠčĆą▒ąĖ ąĄčēčæ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ąĘčÅą╗ąŠ ąĘą░ čüąĄčĆą┤čåąĄ ą│ąŠčĆąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ čŹč鹊 ą▒čŗą╗
ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą£ą░ą║čü ŌĆö čüčéą░čĆčłąĖą╣ čāą╝ąĄą╗ čüą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čéčī čüą▓ąŠąĖ ą┐ąŠčĆčŗą▓čŗ ąĖ čćčāą▓čüčéą▓ą░.
ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ čü ą╝čŗčüą╗čīčÄ
ąŠčéą▓ąĄčüčéąĖ ą┐ą░čĆąĮčÅ ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĖ ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą┐ąŠ ą┤čāčłą░ą╝, ąĮąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ čéą░ą╝, čā ┬½čłą░ą╣ą▒čŗ┬╗,
ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ, čüą┤ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣
ą║čĆąĖą║, ąĖ ą▓ č鹊čé ąČąĄ ą╝ąĖą│ ą▓čüąĄ ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ąŠ. ąÜąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ą▒ąĄąČą░ą╗, ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą╝čÅčüąĮąŠą│ąŠ
čüą║ą╗ą░ą┤ą░ ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖ ąĘą░ą╝ąŠą║ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąĘą░ą║čĆčŗčéčŗą╝, čāčüą╗čŗčłą░čéčī ąČąĄ č鹊ą┐ąŠčé
ąĮąŠą│ ą╝ąĄčłą░ą╗ čÅčĆąŠčüčéąĮčŗą╣ ą╗ą░ą╣ ąøčÄčéčŗ. ąóą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčÅą▓, ą║č鹊 ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ ąĖ
čćč鹊 ąĘą┤ąĄčüčī ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ, ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüąĮčÅą╗ čåąĄą┐čī čü ą┐čĆąŠą▓ąŠą╗ąŠą║ąĖ ąĖ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ą╗ ąŠą▓čćą░čĆą║čā
ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ┬½čłą░ą╣ą▒čŗ┬╗: ąĮąĄč湥ą│ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗą╝ ą┐ą░čåą░ąĮą░ą╝ čģąŠą┤ąĖčéčī ąĮąŠčćčīčÄ ą║ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣, ą┤ą░ąČąĄ
ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮą░ ŌĆö ą▓ąŠąĘą╗čÄą▒ą╗ąĄąĮąĮą░čÅŌĆ”
ąÆąŠąĘą▓čĆą░čéąĖą▓čłąĖčüčī ą┤ąŠą╝ąŠą╣, ąŠąĮ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗ ąĮą░
ą║čĆčŗą╗čīčåąĄ ą£ąŠą╗čćčāąĮą░, čüąĖą┤čÅčēąĄą│ąŠ čā ą┤ą▓ąĄčĆąĖ.
ŌĆö ąØčā, ą░ č鹥ą┐ąĄčĆčī čćč鹊? ŌĆö ąĮąĄą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ą£čŗ ąČąĄ ąŠą▒ąŠ ą▓čüąĄą╝ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖčüčī.
ąÆąŠą╗ą║ ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ ą▓ąĘčÅą╗ ąĄą│ąŠ ąĘą░ čĆčāą║ą░ą▓ ąĖ
čüąŠą╝ą║ąĮčāą╗ č湥ą╗čÄčüčéąĖ, ą┤ą░ą▓ą░čÅ ą┐ąŠąĮčÅčéčī, čćč鹊 ąĮą░čüčéčĆąŠąĄąĮ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ. ą×ąĮ ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ
ą▓čŗą┤ąĄčĆąĮčāčéčī čĆčāą║ąĖ ąĖąĘ ą┐ą░čüčéąĖ ŌĆö ąĘą▓ąĄčĆčī ąĮąĄ ąŠčéą┐čāčüčéąĖą╗, ą╝ą░ą╗ąŠ č鹊ą│ąŠ, ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ ą║
čüąĄą▒ąĄ.
ŌĆö ąÜą░ą║ čŹč鹊 ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čéčī?.. ąóčŗ ąČąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗, čÅ
ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗, ąĮąĄ ąĘą░čüčéą░ą╗ ąČąĖą▓čāčÄ. ą×ąĮą░ čāą╝ąĄčĆą╗ą░. ą» ąĘąĮą░čÄ, ą▓čŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┤čĆčāąĘčīčÅą╝ąĖŌĆ” ąØčā
ąĖ čćč鹊? ą£ąĮąĄ č鹊ąČąĄ ąĄčæ ąČą░ą╗čīŌĆ” ąØąŠ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąŠąĮą░ ą▒čŗ ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ą╗ą░ ąČąĖčéčī ą▓ čŹč鹊ą╝
ą╝ąĖčĆąĄ. ąś ą▓ ą╗ąĄčüčā ą▒čŗ ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ą╗ą░, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ŌĆö č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║.
ą£ąŠą╗čćčāąĮ ą▓čŗčüą╗čāčłą░ą╗ ąĄą│ąŠ, ąĮąĄ ą▓čŗą┐čāčüą║ą░čÅ
čĆčāą║ą░ą▓ą░, ąĖ čüąĮąŠą▓ą░ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ čü ą║čĆčŗą╗čīčåą░.
ŌĆö ą¦č鹊 čéčŗ čģąŠč湥čłčī? ŌĆö čāąČąĄ čĆą░čüčüąĄčĆą┤ąĖą╗čüčÅ
ąĀą░ąČąĮčŗą╣. ŌĆö ą» ąČąĄ čüą║ą░ąĘą░ą╗, ąŠąĮą░ čāą╝ąĄčĆą╗ą░! ąĢą╣ ąĮąĄ ąĮą░čłą╗ąŠčüčī ą╝ąĄčüčéą░, ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčłčī?
ą¢ąĖčéčī čüčĆąĄą┤ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ŌĆö ąĘąĮą░čćąĖčé ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░čéčīčüčÅ. ąóąŠčĆą│ąŠą▓ą░čéčī ą┤čāčłąŠą╣ ąĖ č鹥ą╗ąŠą╝. ąÉ
ąĘą┤ąĄčüčī ąŠąĮą░ čüą║ąŠčĆąŠ ą▒čŗ ąŠąĘą▓ąĄčĆąĄą╗ą░. ąÆąŠčé čéą░ą║, ą▒čĆą░čé. ąĪą╝ąĄčĆčéčī ą┤ą╗čÅ ąĮąĄčæ ŌĆö
čüą┐ą░čüąĄąĮąĖąĄŌĆ”
ąŻą▓ąĖą┤ąĄą▓ ą▓ ąŠčéą▓ąĄčé ąČčæčüčéą║čāčÄ ąĘąĄą╗ąĄąĮčī ą▓
ą▓ąŠą╗čćčīąĖčģ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ, ąŠąĮ ą▓čüą║ąĖą┐ąĄą╗, ą▓čŗčĆą▓ą░ą╗ čĆčāą║čā, ąŠčüčéą░ą▓ąĖą▓ ą▓ ą┐ą░čüčéąĖ ą║ą╗ąŠą║
ą║ą░ą╝čāčäą╗čÅąČąĮąŠą╣ ą║čāčĆčéą║ąĖ.
ŌĆö ąóčŗ ąĘą▓ąĄčĆčī, ą┐ąŠąĮčÅą╗?! ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĘą▓ąĄčĆčī! ąś ąĮąĄ
čüą╝ąĄą╣ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ą╝ąĄčłąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║čāčÄ ąČąĖąĘąĮčī! ąś ą▓ čüą╝ąĄčĆčéčī č鹊ąČąĄ! ąÉ čéčŗ
čāąČąĄ čĆą░ąĘ ą▓ą╝ąĄčłą░ą╗čüčÅ!.. ąÆ ą╗ąĄčü. ąśą┤ąĖ ą▓ ą╗ąĄčü ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╣čüčÅ ąĮą░ ą│ą╗ą░ąĘą░!
ąÆąŠą╗ą║ čüą║ą╗ąŠąĮąĖą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąŠąČą░ą║ąŠą╝,
ą┐ąŠą┤ąČą░ą╗ čģą▓ąŠčüčé ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüčéčāą┐ąĖą╗ č湥čĆąĄąĘ ą┐ąŠčĆąŠą│, ąŠą▒ąĖąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠčģąŠą┤ą║ąŠą╣
čüą┐čāčüčéąĖą╗čüčÅ čü ą║čĆčŗą╗čīčåą░ ąĖ č鹊čéčćą░čü ąČąĄ čüą║čĆčŗą╗čüčÅ ą▓ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥. ą¤ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĄą│ąŠ
ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčĆčŗą▓ąŠą╝ ąŠčéčćą░čÅąĮąĖčÅ, ą░ ąĘąĮą░čćąĖčé, čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéąĖ, ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ čüąŠč湥čéą░čÄčēąĄą╣čüčÅ čü
ą▓ąŠą╗čćčīąĄą╣ ąČąĖąĘąĮčīčÄ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ čāč湥čüčéčī, čćč鹊 ą£ąŠą╗čćčāąĮ ą┐ąŠčćčéąĖ čü čüą░ą╝ąŠą│ąŠ
čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ ąĖ ą▓ą┐ąĖčéčŗą▓ą░ą╗ ąĮąĄ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮčŗą╣, ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ąŠą▒čĆą░ąĘ ąČąĖąĘąĮąĖ
ąĖ, ąĮą░ą┤ąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ą┐ąĄčĆąĄąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĮąĄ ą╗čāčćčłąĖąĄ ąĄą│ąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéčī
ą│čāą▒ąĖą╗ą░ ą▓čüąĄčģ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠ, ąĘą▓ąĄčĆąĄą╣ ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣. ąØąŠ ąŠčéą┐čāčēąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮą░ ą▓ąŠą╗čÄ, ąŠąĮ
ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐čĆą░ą▓ą░ ąĮą░ čćčāą▓čüčéą▓ą░ ŌĆö ąĖąĮą░č湥 ąĄą│ąŠ ąČą┤ą░ą╗ ą▒čŗ čéą░ą║ąŠą╣ ąČąĄ
ą┐ąĄčćą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą║ąŠąĮąĄčå, ą║ą░ą║ ąĖ ą┤ąĄą▓ąĖčåčā čüąŠ čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗą╝ ąĖ čĆąĄą┤ą║ąĖą╝ ąĖą╝ąĄąĮąĄą╝ ą£ąĖą╗ąĖčéąĖąĮą░ŌĆ”
ąÆąĖąĘąĖčé ą£ąŠą╗čćčāąĮą░ čĆą░ąĘąŠąĘą╗ąĖą╗ ąĖ ąŠą▒ąĄčüą║čāčĆą░ąČąĖą╗
ąĄą│ąŠ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ, ąĖ čćč鹊ą▒čŗ ąŠčéą▓ą╗ąĄčćčīčüčÅ ąŠčé ą╝čŗčüą╗ąĄą╣, ą▓čŗąĘčŗą▓ą░čÄčēąĖčģ
ą┤ąĖčüą│ą░čĆą╝ąŠąĮąĖčÄ, ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüčéą░ą╗ ą┤čāą╝ą░čéčī ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüč鹊čÅčēąĄą╝ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ąĄ ąĖ čüčĆą░ąĘčā ąĘą░ą▒čŗą╗
ąŠą▒ąŠ ą▓čüąĄą╝. ąŚą░ą╗ąŠąČąĖą▓ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ ąĮą░ ąĘą░čüąŠą▓, ąŠąĮ ą▓ąŠčłčæą╗ ąĮą░ ą┐ąŠą▓ąĄčéčī ąĖ, ąĮąĄ ąĘą░ąČąĖą│ą░čÅ
čüą▓ąĄčéą░, čüčéą░ą╗ ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī čüčéą░ąĮąŠą║ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ. ąöą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī čüąŠą▓čüąĄą╝
ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ŌĆö ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī ąĖ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčü ąĮą░ čüč鹊čĆąŠąČąŠą║,
č湥ą╝‑č鹊 ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēąĖą╣ čłąĄą┐čéą░ą╗ąŠ ą▓ čĆčāąČąĄą╣ąĮąŠą╝ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ąĄ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ čüą║ąŠą▓ą░čéčī
čüąĄą▒čÅ ą┐ąŠ čĆčāą║ą░ą╝ ąĖ ąĮąŠą│ą░ą╝. ą×čüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ čāąČąĄ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ąŠčéąĮąŠčüąĖą╗ąŠčüčī ą║ ą┤ąĄą┤ąŠą▓čüą║ąŠą╣
č鹥čģąĮąĖą║ąĄ ąĖ ąĘą░ą▓ąĖčüąĄą╗ąŠ ąŠčé ą▓ąŠą╗ąĖ ąĖ čüą░ą╝ąŠąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĖ. ąØąĄčģąĖčéčĆąŠąĄ čŹč鹊
čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ąŠ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą▓ąŠąĘą▓čŗčüąĖčéčī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī ąĖ ą▓ą▓ąĄčüčéąĖ ąĄą│ąŠ ą▓
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ą░, ąĮąŠ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖčéčīčüčÅ ą▓ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄ ą║ą░ąĘąĮąĖ ŌĆö ą┐ąŠą┐čĆąŠčüčéčā
čĆą░ąĘąŠčĆą▓ą░čéčī ąĮą░ čćą░čüčéąĖ.
ą×čüąĮąŠą▓ąĮą░čÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║ą░ ą║ ą▓ąĘą╗čæčéčā ą┐čĆąŠčģąŠą┤ąĖą╗ą░
ą┤ąĮčæą╝, ą┐čĆąĖ čüą▓ąĄč鹥 čüąŠą╗ąĮčåą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ ą▓ą┐ąĖčéčŗą▓ą░ą╗ ąĄą│ąŠ 菹ĮąĄčĆą│ąĖčÄ. ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣
ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝, č鹊čćąĮąĄąĄ, ą║ąŠčüčéčÅą║, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ čüąŠą▒ąŠą╣ čüą░ą╝čāčÄ čüąŠą▓ąĄčĆčłčæąĮąĮčāčÄ
čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮčāčÄ ą▒ą░čéą░čĆąĄčÄ, čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčāčÄ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čéčī ą╝ąŠčēąĮąĄą╣čłąĖą╣ ąĘą░čĆčÅą┤. ąśąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ,
čüą░ą╝ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĘą░ą▒čŗą╗ ąŠą▒ čŹč鹊ą╝, čģąŠčéčÅ ąĖąĮčéčāąĖčéąĖą▓ąĮąŠ ą▓čüąĄ ąĄčēčæ čéčÅąĮčāą╗čüčÅ ą║
čüąŠą╗ąĮčåčā, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ ąĖ čüčéą░čĆ ąĖ ą╝ą╗ą░ą┤ ŌĆö ą▓čüąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĘą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąĘą░ą▓ą░ą╗ąĖąĮą║ąĖ,
ą▓čŗąĄąĘąČą░ą╗ąĖ ą║ ą╝ąŠčĆčÄ, ąĮą░ ą┐ą╗čÅąČąĖ ąĖ ą▒ąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ čéčÅąĮčāą╗ąĖ ą▓ čüąĄą▒čÅ ą╝ąĖą╗ą╗ąĖąŠąĮčŗ
ą▓ąŠą╗čīčé, ąĄčüą╗ąĖ čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮčāčÄ čŹąĮąĄčĆą│ąĖčÄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĖąĘą╝ąĄčĆčÅčéčī ą║ą░ą║ 菹╗ąĄą║čéčĆąĖč湥čüą║čāčÄ.
ąæąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā 菹ĮąĄčĆą│ąĖčÅ čŹčéą░ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮąĄą▓ąŠčüčéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠ
ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ą▒čŗą╗ą░ čāčéčĆą░č湥ąĮą░ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī ą▓čŗčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ą░čéčī ąĄčæ ąĖ
čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčī ąĄčÄ.
ą¦č鹊ą▒čŗ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčéčī ą┐čĆąĄą┤čüčéą░čĆč鹊ą▓ąŠą│ąŠ
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ, čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ą░ą▒čüčéčĆą░ą│ąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąŠčé ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ,
ąŠčéą║ą╗čÄčćąĖčéčīčüčÅ ąŠčé ą▓čüąĄą│ąŠ, čćč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą░ąČąĮčŗą╝, ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąĄčēčæ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ
ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖą╣ ąĮą░ąĘą░ą┤, ąĖąĘą▒ą░ą▓ąĖčéčīčüčÅ ąŠčé ąĘąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ. ą×ą┤ąĮąĖą╝ čüą╗ąŠą▓ąŠą╝, čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖčéčī č鹊,
č湥ą│ąŠ ą▓ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąČąĖąĘąĮąĖ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ŌĆö čāą╣čéąĖ ąŠčé čüąĄą▒čÅ, ą║ą░ą║ čŹč鹊
ą┤ąĄą╗ą░čÄčé ą╝ąŠąĮą░čģąĖ, čćč鹊ą▒čŗ čüą╗čāąČąĖčéčī ąæąŠą│čā. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā čüčéą░čĆčŗčģ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮčēąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠ
ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ, ąĘą░ą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą╣ ąĄčēčæ ąŠčéčåąŠą╝ ąĪąĄčĆą│ąĖąĄą╝, ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĖąĮąŠą║ą░ą╝ąĖ, č鹊
ąĄčüčéčī čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčŗą╝ąĖ ą║ ąĖąĮąŠą╣, ą▒čŗčéąĖą╣ąĮąŠą╣, ąČąĖąĘąĮąĖ.
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą║ą░ąČą┤čŗąĄ čéčĆąĖ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ą░ ą║ čŹč鹊ą╝čā
čüčéą░ąĮą║čā ą│čĆčāąĘ čāą╝ąĄąĮčīčłą░ą╗čüčÅ ŌĆö ąĖąĘ ą╝ąĄčłą║ąŠą▓ ą▓čŗą┐čāčüą║ą░ą╗čüčÅ ą┐ąĄčüąŠą║. ąóčĆąĄąĮą░ąČčæčĆ ą╝ąŠąČąĮąŠ
ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░ąĘą▒ąĖčĆą░čéčī ąĖ ą┐čĆčÅčéą░čéčī ą▓ čüčāčģąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊 ą┐ąŠčüą╗ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║ ąŠą┐čāčüč鹥čÄčé ą▓čüąĄ
ą╝ąĄčłą║ąĖ ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą░čĆą░ą║ąĄ ąĮą░čćąĮčæčé ą▓ąĘą┤čŗą╝ą░čéčīčüčÅ ąĮą░ą┤ ąĘąĄą╝ą╗čæą╣ ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüąŠą▓ ąĖ ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╝ ąČąĄą╗ą░ąĄą╝ąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹥ŌĆ”
ą¤ąŠą║ą░ ąĄčēčæ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą▒čŗą╗ ąĮą░ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ą┐čāčéąĖ ąĖ
ąĮą░ ą║ą░ąČą┤ąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ą▓ąĄčĆčæą▓ą║ąĖ ą▓ąĖčüąĄą╗ąŠ ą┐ąŠ čéčĆąĖ čåąĄąĮčéąĮąĄčĆą░ čĆąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĄčüą║ą░. ąÉ
ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┤ąŠ ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮą║ą░ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī čüąŠą▓čüąĄą╝ ą╝ą░ą╗ąŠ ŌĆö čćčāčéčī ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čéčĆąĄčģ
ąĮąĄą┤ąĄą╗čī, ąĄčüą╗ąĖ ąĮąĄ čüčćąĖčéą░čéčī ą┤ąŠčĆąŠą│čā ą┤ąŠ ąŻčĆąŠčćąĖčēą░ ą│ą┤ąĄ‑č鹊 ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ ąÆčÅčéčüą║ąĖčģ
ą¤ąŠą╗čÅąĮ.
ąöą╗ąĖąĮą░ ą▓ąĄčĆčæą▓ąŠą║ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ą░ ą╗ąĄąČą░čéčī ąĮą░
čüą┐ąĖąĮąĄ ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ąČąĖą▓ąŠč鹥, čĆą░čüą║ąĖąĮčāą▓ ąĘą▓ąĄąĘą┤ąŠą╣ čĆčāą║ąĖ ąĖ ąĮąŠą│ąĖ. ąÆčüčÅą║ąŠąĄ
ąĮąĄąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠąĄ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄ ąĖą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą╝čŗčłąĄčćąĮą░čÅ čüčāą┤ąŠčĆąŠą│ą░ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čüąŠčĆą▓ą░čéčī čü
čłąĄą┐čéą░ą╗ą░ ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüąŠą▓, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ čüčĆą░ą▒ąŠčéą░čÄčé ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ, čĆą░ąĘčĆčŗą▓ą░čÅ
ąĮą░ čćą░čüčéąĖ ąĮąĄą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ č鹥ą╗ąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąŠąĮ ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄ čłąĄą▓ąĄą╗ąĖą╗čüčÅ, ąĖ
ą╗ąĖčłčī ąĖąĘčĆąĄą┤ą║ą░ ąŠčé čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮąŠą│ąŠ čüą┐ą╗ąĄč鹥ąĮąĖčÅ ą║ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠčüčéčÅą╝ ą┐čĆąŠą▒ąĄą│ą░ą╗ą░ ą╗čæą│ą║ą░čÅ
ą║ąŠąĮą▓čāą╗čīčüąĖą▓ąĮą░čÅ ą┤čĆąŠąČčī, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēą░čÅ ą┐ąŠą┤čæčĆą│ąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ 菹╗ąĄą║čéčĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ č鹊ą║ąŠą╝.
ąś č湥ą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖ čćą░čēąĄ ą┐čĆąŠą▒ąĄą│ą░ą╗ąŠ čŹčéąĖčģ 菹ĮąĄčĆą│ąĄčéąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╗ąĮ, č鹥ą╝ čüąĖą╗čīąĮąĄąĄ
čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą╝čŗčłčåčŗ, ą║čĆąĄą┐č湥 čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąĖčüčī čüčāčüčéą░ą▓ąĮčŗąĄ čüą▓čÅąĘą║ąĖ ąĖ ąČąĖą╗čŗ, ąĖ
ą║ą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĖąĘ ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮąŠčćąĮąĖą║ą░ ąĖ ą╝ąŠąĘą│ąŠą▓čŗčģ ą║ąŠčüč鹥ą╣ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ č鹥čćčī čĆčāč湥ą╣ą║ąĖ
čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮąŠą╣ 菹ĮąĄčĆą│ąĖąĖ, ą▒čĆąĄąĮąĮą░čÅ ą┐ą╗ąŠčéčī č鹥čĆčÅą╗ą░ ą▓ąĄčü.
ąóąŠ, čćč鹊 ą╝ąŠąĮą░čģ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą░ą╗ ą┐ąŠčüčéą░ą╝ąĖ ąĖ
ą╝ąŠą╗ąĖčéą▓ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠąĄą┤ąĖąĮčēąĖą║ ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ ąĘą░ čüčćčæčé 菹ĮąĄčĆą│ąĖąĖ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ą░,
ąĮą░ą┐ąĖčéčŗą▓ą░čÅčüčī ąĄčÄ ąĖ čĆą░ą▓ąĮąŠą╝ąĄčĆąĮąŠ čĆą░čüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅčÅ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝čā čüą║ąĄą╗ąĄčéčā, ą▓ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ
ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÅ ą╝ą░ą│ąĮąĖčéąĮčŗąĄ čüąĖą╗ąŠą▓čŗąĄ ą╗ąĖąĮąĖąĖ.
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ,
čüąŠą┐čĆąĖą║ą░čüą░čÅčüčī čü č鹥ą╗ąŠą╝, ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ čüą▓ąĄčéąĖčéčīčüčÅ, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą║ąŠąĮčéčāčĆąĮčāčÄ ą░čāčĆčā, ąĖ
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮą░, čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░čÅčüčī, ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ą░ ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą║ąŠą║ąŠąĮ, ą░čĆą░ą║ąĄ čĆąĄąĘą║ąŠ
ąŠčéčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓čüąĄą╣ ą┐ą╗ąŠčüą║ąŠčüčéčīčÄ č鹥ą╗ą░ ąŠčé ąŠą┐ąŠčĆčŗ ąĖ ą▓ąĘą╗ąĄčéą░ą╗, ąĮąĄčüąŠą╝čŗą╣
ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąĄčüą░ą╝ąĖ.
ąśą╗ąĖ ą┐ąŠą┤čŖčæą╝ąĮąŠą╣ čüąĖą╗ąŠą╣ ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāč鹊ą│ąŠ
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗ą░ŌĆ”
ąĪąĄą╣čćą░čü ąĀą░ąČąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą╗ąĄąČą░čéčī ą▒ąŠą╗ąĄąĄ
ą┐ąŠą╗čāčćą░čüą░, ą┐čĆąĄąČą┤ąĄ č湥ą╝ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥 ąŠąĮ ąĮą░čćą░ą╗ ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ąŠč湥čĆčéą░ąĮąĖąĄ
čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą│čĆčāą┤ąĖ. ą×čüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄčéčī ąĘąĄą╝ąĮąŠąĄ
ą┐čĆąĖčéčÅąČąĄąĮąĖąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖąĘą┤ą░ą╗ąĄą║ą░, ąĖąĘ ą╝ąĖčĆą░, čāčłąĄą┤čłąĄą│ąŠ ą▓ ąĮąĄą▒čŗčéąĖąĄ, ą▓ąŠčĆą▓ą░ą╗čüčÅ
ą┤čāčłąĄčĆą░ąĘą┤ąĖčĆą░čÄčēąĖą╣ ą▓ąŠą┐ą╗čī. ąóą░ą║ ą║čĆąĖčćą░čé čüą╝ąĄčĆč鹥ą╗čīąĮąŠ čĆą░ąĮąĄąĮąĮčŗąĄ čéčĆą░ą▓ąŠčÅą┤ąĮčŗąĄ,
ąĖą▒ąŠ čģąĖčēąĮąĖą║ąĖ čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čāą╝ąĖčĆą░čÄčé ą╝ąŠą╗čćą░.
ąÆąŠąĘą▓čĆą░čé ą║ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą▒čŗą╗
čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝, ąĮą░ą║ąŠą┐ą╗ąĄąĮąĮą░čÅ čŹąĮąĄčĆą│ąĖčÅ čāčłą╗ą░ ą▓ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü
ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗą┤ąŠčģąŠą╝, ąĮą░ ą╝ąĖą│ ą▓čŗčüą▓ąĄčéąĖą▓ č湥čĆą┤ą░čćąĮčŗąĄ ą▒ą░ą╗ą║ąĖ. ąóąŠčéčćą░čü
ąĘą░ą┐ą░čģą╗ąŠ ą┤čŗą╝ąŠą╝: ą┤ąĄą╗ą░čéčī ┬½čģąŠą╗ąŠčüč鹊ą╣┬╗ ą▓čŗčģą╗ąŠą┐ 菹ĮąĄčĆą│ąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą┐ą░čüąĮąŠŌĆ”
ąÆąŠą┐ą╗čī ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĖą╗čüčÅ, ąĮąŠ č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ
ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠ, čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ąĘą░ čüč鹥ąĮąŠą╣ ŌĆö č鹊čüą║čāčÄčēąĖą╣, ąĘąŠą▓čāčēąĖą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü ŌĆö ąĖ čüą╗ąĄą┤ąŠą╝
ą┤ąŠą╗ą│ąĖą╣ ąŠčéčćą░čÅąĮąĮčŗą╣ čüčéčāą║ ą▓ ą┤ą▓ąĄčĆčī. ą¤ąŠą║ą░ ąĀą░ąČąĮčŗą╣ čüąĮąĖą╝ą░ą╗ ą┐čāčéčŗ, ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣
ąóčĆą░ą┐ąĄąĘąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéčāčćą░ą╗ ąĖ ą║čĆąĖčćą░ą╗ ąĖčüčüčéčāą┐ą╗čæąĮąĮąŠ, ą▒ąĄąĘąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąŠčćąĮąŠ, ąĖ ą│ąŠąĮčćą░ą║ąĖ ą▓
ą▓ąŠą╗čīąĄčĆąĄ, čĆąĄą░ą│ąĖčĆčāčÄčēąĖąĄ ąĮą░ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čłąŠčĆąŠčģ ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮąŠąĄ ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ,
ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąĮąŠąĄ ą╝ąŠą╗čćą░ąĮąĖąĄ.
ąöąŠąČą┤čī ąĮą░ čāą╗ąĖčåąĄ čĆą░ąĘąŠčłčæą╗čüčÅ ą▓ąŠą▓čüčÄ. ą£ą░ą║čü
ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ ą╝ąŠą║čĆąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą│ąŠ ąĘą▓ąĄčĆčÅ, ą┐ąŠč鹥čĆčÅą▓čłąĄą│ąŠ čüą▓ąŠčÄ ąĮąŠčĆčā.
ŌĆö ąÆčģąŠą┤ąĖ, ŌĆö čĆą░ąĘčĆąĄčłąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ą¤ą░čĆąĄąĮčī ą┐ąĄčĆąĄčüčéčāą┐ąĖą╗ ą┐ąŠčĆąŠą│ ąĖ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ,
ąĮąĄ ąĘąĮą░čÅ, ą║čāą┤ą░ ąĖą┤čéąĖ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╝ ą╝čĆą░ą║ąĄ. ą¤čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą▓ąĄčüčéąĖ ąĄą│ąŠ ąĘą░ čĆčāą║čā, ą░
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ ą┤ąŠą╝ąĄ ąĘą░ą│ąŠčĆąĄą╗čüčÅ čüą▓ąĄčé, ąŠąĮ ąĘą░ą║čĆčŗą╗čüčÅ čĆčāą║ąŠą╣ ąĖ ą┐čĆąĖą╗ąĖą┐ ą║ čüč鹥ąĮąĄ. ąØą░
ą▒ą╗ąĄą┤ąĮąŠą╝, ą▓čŗčéčÅąĮčāč鹊ą╝ ą╗ąĖčåąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠą┤ąĮąĖ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗąĄ ąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▒ąĄąĘčāą╝ąĮčŗąĄ
ą│ą╗ą░ąĘą░. ąĀą░ąČąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤ą░ą╗ ąĄą╝čā ą╝ąĖčüą║čā čü ąŠčüčéą░čéą║ą░ą╝ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤čæąĮąĮąŠą│ąŠ čģą╝ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ
ą╝čæą┤ą░, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą£ą░ą║čü čüąŠą┐čĆąŠčéąĖą▓ą╗čÅą╗čüčÅ, ą▓čŗčüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ čĆčāą║ąĖ:
ŌĆö ąØąĄčé! ąØąĄ ą▒čāą┤čā! ąØąĄ čģąŠčćčā! ąÆąĖąĮąŠ ąĮąĄ
ą┐ąŠą╝ąŠą│ą░ąĄčé!.. ąĪčéą░ąĮąĄčé ąĄčēčæ čģčāąČąĄ, čÅ ąĘąĮą░čÄ.
ŌĆö ąŁč鹊 ąĮąĄ ą▓ąĖąĮąŠ, ą┐ąŠą┐ąĄą╣. ąŁč鹊 ąĮą░ą┐ąĖč鹊ą║,
ą┤ą░čÄčēąĖą╣ čüąĖą╗čŗ.
ŌĆö ąĪąĮą░ą┤ąŠą▒čīąĄ? ąøąĄą║ą░čĆčüčéą▓ąŠ?..
ŌĆö ą£ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī ąĖ čéą░ą║ŌĆ”
ą×ąĮ ą▓ąĘčÅą╗ ą╝ąĖčüą║čā, ą┐ąŠąĮčÄčģą░ą╗. ą×čéčģą╗ąĄą▒ąĮčāą▓,
ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ą╗ ąĮą░ ą▓ą║čāčü ąĖ ą▓čŗą┐ąĖą╗ ąĘą░ą╗ą┐ąŠą╝.
ŌĆö ąŁč鹊 čéčŗ čģąŠą┤ąĖą╗ ą║ ┬½čłą░ą╣ą▒ąĄ┬╗ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ? ŌĆö
čüčéčĆąŠą│ąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĀą░ąČąĮčŗą╣.
ŌĆö ąØąĄčé, čÅ ąĮąĄ čģąŠą┤ąĖą╗, ŌĆö ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊
ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą£ą░ą║čü.
ŌĆö ąÉ ą║č鹊 čģąŠą┤ąĖą╗?.
ŌĆö ąØąĄ ąĘąĮą░čÄŌĆ” ą» ą╗ąĄąČą░ą╗ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ.
ŌĆö ąōą┤ąĄ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ?
ŌĆö ąØąĄ ąĘąĮą░čÄŌĆ”
ŌĆö ąÉ čćč鹊 čéčŗ ąĘąĮą░ąĄčłčī?
ŌĆö ąŚąĮą░čÄ, čćč鹊 ą▒ąĄą┤ą░ ą┐čĆąĖčłą╗ą░, ą┤čÅą┤čÅ ąĪą╗ą░ą▓ą░, ŌĆö
čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠą▒čĆąĄčćčæąĮąĮąŠ. ŌĆö ą» ą┐ąŠą│ąĖą▒ą░čÄ.
ŌĆö ąöąĄčƹȹĖčüčī, čéčŗ ą╝čāąČčćąĖąĮą░, ŌĆö ąŠąĮ čüąĖą╗ąŠą╣
čāčüą░ą┤ąĖą╗ ą┐ą░čĆąĮčÅ ąĮą░ čüą║ą░ą╝ąĄą╣ą║čā. ŌĆö ą¤čĆąĖą▓čŗą║ą░ą╣. ąśąĮąŠą│ą┤ą░ ąČąĖąĘąĮčī ą▒čīčæčé ą▒ąŠą╗čīąĮąĄąĄ.
ŌĆö ąæąŠą╗čīąĮąĄąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé. ą» ą╗čÄą▒ą╗čÄ ąĄčæ. ą£čŗ čü
ą£ą░ą║čüąŠą╝ ąĄčæ ą╗čÄą▒ąĖą╝ŌĆ” ąöčÅą┤čÅ ąĪą╗ą░ą▓ą░, ą░ čéčŗ č鹊ąČąĄ čüčćąĖčéą░ąĄčłčī, ą╝čŗ ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░čéčŗ?
ŌĆö ąØąĄčé, čÅ čéą░ą║ ąĮąĄ čüčćąĖčéą░čÄ, ŌĆö ąĘą░ą▓ąĄčĆąĖą╗
ąŠąĮ. ŌĆö ąØąŠ ą┐ąŠč湥ą╝čā ą╝ąĮąĄ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ? ąÜąŠą│ą┤ą░ ąĮą░čłą╗ąĖ ąĄčæ ą▓ ą╗ąĄčüčā? ąÉ ą▓ąĄą┤čī
ąĄčēčæ ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą╝ ą│ąŠą┤čā ąĮą░čłą╗ąĖ, ą▓ąĄčĆąĮąŠ? |