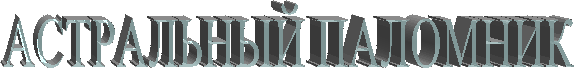ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▒ąŠą│ąĖ čüą┐čÅčé

OCR Sergius: s_sergius@pisem.net
http://www.aldebaran.ru/
┬½ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▒ąŠą│ąĖ čüą┐čÅčé┬╗: ą×ą╗ą╝ą░‑ą¤čĆąĄčüčü; ą£ąŠčüą║ą▓ą░;
2003
ISBN 5‑224‑04541‑ąź
ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ
ąŻ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆą░
ą┐ąŠą│ąĖą▒ą░ąĄčé čüčŗąĮ. ąĪ čŹč鹊ą╣ ąĮąĄą╗ąĄą┐ąŠą╣ čĆą░ąĮąĮąĄą╣ čüą╝ąĄčĆčéčīčÄ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠą╗ąŠčüą░
ąĮąĄčüčćą░čüčéąĖą╣ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ ą┐čĆąŠąĖą│čĆą░ą▓čłąĄą│ąŠ ąĮąŠą▓čŗąĄ ą▓čŗą▒ąŠčĆčŗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą╗ąĖčłčī ą▓
čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ąČąĖąĘąĮąĖ ą┐čĆąŠą▒čāąĄčé ą┐ąŠąĮčÅčéčī ąĄčæ čüą╝čŗčüą╗, ą┐ąŠčüčéąĖčćčī čüą░ą╝ąŠą│ąŠ čüąĄą▒čÅ ąĖ
ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĖčģ, ąŠčåąĄąĮąĖčéčī ą╝ąĄčĆčā ąĖ čéčÅąČąĄčüčéčī ą│čĆąĄčģąŠą▓.
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▒ąŠą│ąĖ čüą┐čÅčé
1
ąÆąŠčé čāąČąĄ ą▓č鹊čĆąŠą╣
ą╝ąĄčüčÅčå, ą┐ąŠčćčéąĖ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą▓ąĄč湥čĆ, čĆąŠą▓ąĮąŠ ą▓ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąĄ ą┤ąĄčüčÅč鹊ą│ąŠ, ąŠąĮ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ ą║
ą┤ąĄą▓čÅčéąĖčŹčéą░ąČąĮąŠą╝čā ą┤ąŠą╝čā ąĮą░ ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ čāą╗ąĖčåąĄ ąĖ, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░čÅčüčī, čüč鹊čÅą╗ ąĮą░
ą┤čĆčāą│ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ, ą╝ąĄąČą┤čā ąŠčüąĄąĮąĮąĖčģ, čģąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗčģ ą╗ąĖą┐. ą£ąĄčüč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▒ąĄąĘą╗čÄą┤ąĮąŠąĄ,
ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čüą┐ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą╝ąĖą║čĆąŠčĆą░ą╣ąŠąĮ, ą│ą┤ąĄ ąČąĖč鹥ą╗ąĖ ą║ čŹč鹊ą╝čā čćą░čüčā čüąĖą┤čÅčé ą┐ąŠ
ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆą░ą╝ ąĖ ą╝ąĖą╝ąŠ ą┐čĆąŠčüą║ą░ą║ąĖą▓ą░čÄčé ą╗ąĖčłčī čĆąĄą┤ą║ąĖąĄ ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖ, ąŠą▒ą┤ą░ą▓ą░čÅ
ą▓ąŠą┤čÅąĮąŠą╣ ą┐čŗą╗čīčÄ. ążąŠąĮą░čĆąĖ ą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ č湥čĆąĄąĘ ąŠą┤ąĖąĮ, ąĖ ąŠąĮ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄ
ąĘą░ą▒ąŠčéąĖą╗čüčÅ, čćč鹊 ąĄą│ąŠ ą╝ąŠą│čāčé čāąĘąĮą░čéčī, ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ ą▓ąŠčĆąŠčéąĮąĖą║ą░, ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ
ą╝ą░čüą║ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗čüčÅ, čüč鹊čÅą╗ čü ąŠą▒ąĮą░ąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą╝ąĖąĮčāčé ą┤ąĄčüčÅčéčī, ą│ą╗čÅą┤čÅ č鹊 ąĮą░
ą║čĆąŠą╝ą║čā ą┐ą╗ąŠčüą║ąŠą╣ ą║čĆčŗčłąĖ, č鹊 ąĮą░ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╣ ąČąĄą╗ąĄąĘąŠą▒ąĄč鹊ąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠąĘčŗčĆąĄą║ ą┐ąŠą┤čŖąĄąĘą┤ą░,
ą▒čāą┤č鹊 čüąŠą▓ąĄčĆčłą░čÅ ą┐čĆčŗąČąŠą║. ą×ąĮ ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čéčī ąĖ ąĮąĄ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗, čćč鹊
ąĘą┤ąĄčüčī ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ, ąĮąŠ čÅą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗, ą║ą░ą║ ą▓čüčÅą║ąĖą╣ čĆą░ąĘ ąŠą▒čĆčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ
ą┤čāčłą░, ąĘą░čģą▓ą░čéčŗą▓ą░ąĄčé ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄ, ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą║čĆąĖą║ą░ ą▓čŗčĆčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąĄąĘąĘą▓čāčćąĮčŗą╣,
ą░čüčéą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖą╣ čüč鹊ąĮ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮą░ą┐čĆąŠčćčī čüą░ą┤čÅčéčüčÅ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓čŗąĄ čüą▓čÅąĘą║ąĖ.
ŌĆö ą» čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝
ą┐ąŠąĘą┤ąĮąŠ čĆąŠą┤ąĖą╗čüčÅ, ŌĆö ą┐čĆąŠ čüąĄą▒čÅ ą║čĆąĖčćą░ą╗ ąŠąĮ, ŌĆö čćč鹊ą▒čŗ ąČąĖčéčī čü ą▓ą░ą╝ąĖ, ą╗čÄą┤ąĖŌĆ”
ąĢčüą╗ąĖ ą▓ čéą░ą║ąŠą╣
ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ą║ąŠą╗ąĄčü ą▓ ą╗ąĖčåąŠ ą╗ąĄč鹥ą╗ ą┐ą╗ąĄą▓ąŠą║, ąŠąĮ ą╝ąŠą╗čćą░ ąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╝ąŠ
čāčéąĖčĆą░ą╗čüčÅ, čüąĮąŠą▓ą░ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą▓ą▓ąĄčĆčģ, ąĘą░ą╝ąĖčĆą░ą╗ čéą░ą╝ ąĖ
ąŠčéč鹊ą╗ą║ąĮčāą▓čłąĖčüčī, ą╗ąĄč鹥ą╗ ą▓ąĮąĖąĘ.
ąśąĘ čéą░ą║ąŠą│ąŠ
ą╝čāčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ, čüą░ą╝ąŠąĖčüčéčÅąĘą░čÄčēąĄą│ąŠ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ąĄą│ąŠ ą▓čŗą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąźą░ą╝ąĘą░čé,
ąĮąĄąĘčĆąĖą╝ąŠ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ ą▓čüąĄ čŹč鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą│ą┤ąĄ‑č鹊 čüą╗ąĄą▓ą░ ąĖ čüąĘą░ą┤ąĖ.
ŌĆö ąÉąĮą░č鹊ą╗ąĖą╣
ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓ąĖčć, ą┐ąŠčĆą░ ąĄčģą░čéčī, ŌĆö ą▒čāą▒ąĮąĖą╗ ąŠąĮ ą▓ čāčģąŠ ąŠą┤ąĮčā ąĖ čéčā ąČąĄ čäčĆą░ąĘčā. ŌĆö
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąÆąĖą║č鹊čĆąŠą▓ąĮą░ ą▒čāą┤ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░čéčī.
ąÆčüčÅą║ąĖą╣ čĆą░ąĘ ąĮą░
ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą╝ąĖą│ ąĄą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčü ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅčéąĮčŗą╝, ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ą│ąĮčāčüą░ą▓ąŠ
ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆčēąĖčåą║ąĖą╝, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čā ąĮąĄą│ąŠ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čüąĖą┤ąĄą╗ą░ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ ą╝čŗčüą╗čī
ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĖčéčīčüčÅ ąŠčé ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ą░ ą╗ąĖčćąĮąŠą╣ ąŠčģčĆą░ąĮčŗ ŌĆö ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą┤ąĄčƹȹ░čéčī čĆčÅą┤ąŠą╝
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čćą░čüč鹊 čĆą░ąĘą┤čĆą░ąČą░ąĄčé, ą▓čŗą▓ąŠą┤ąĖčé ąĖąĘ čüąĄą▒čÅ ąĖ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé
ąŠčéą▓čĆą░čéąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čĆą░ąĘčāą╝ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┐ąŠą▒ąĄąČą┤ą░ą╗ ą▒čŗčüčéčĆąĄąĄ, č湥ą╝ čüąŠąĘčĆąĄą▓ą░ą╗ąŠ
ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ: ąźą░ą╝ąĘą░čé čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ ąĘą░ ąĮąĖą╝ č鹥ąĮčīčÄ,
ąĮąĄą╝ą░ą╗ąŠ čüą╗čŗčłą░ą╗ ąĖ ąĘąĮą░ą╗, ąĖ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĖąĘ č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ čéą░ą╣ąĮąŠą│ąŠ
čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ą░ čü ą▓ąŠčüč鹊čćąĮčŗą╝, ą╗čāą║ą░ą▓čŗą╝ ąĖ ąĖąĘąŠčēčĆąĄąĮąĮčŗą╝ čāą╝ąŠą╝. ąźąŠč湥čłčī ąĮąĄ čģąŠč湥čłčī,
ą░ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĖą▓ą╗ąĄą║ą░čéčī ą║ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąĖą╝ ą╗ąĖčćąĮčŗą╝ ąĖ čüą╗čāąČąĄą▒ąĮčŗą╝ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░ą╝,
ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąŠąĮ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą│ąŠč鹊ą▓ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī. ąóą░ą║ čćč鹊 ąĖąĘą▒ą░ą▓ąĖčéčīčüčÅ ąŠčé
ąĮąĄą│ąŠ ą▒ąĄąĘ ą▓ąĄčüą║ąŠą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮčŗ, č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĖąĘ‑ąĘą░ čéą░ą║ąĖčģ ą▓ąŠčé ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖą╣ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅąĘąĮąĖ,
čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠčüčī ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ. ąś ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ čŹčéąĖ ą╝ąĄą╗ą║ąĖąĄ, ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ
ąĘąĄčĆąĮą░ ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ, ąĖ ąŠąĮ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗, čćč鹊
ą║ąŠą│ą┤ą░‑ąĮąĖą▒čāą┤čī, ą▓ ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠą╣ ą┐ąĄčĆčüą┐ąĄą║čéąĖą▓ąĄ ąŠąĮąĖ ą┐čĆąŠčĆą░čüčéčāčé ą▓čüąĄ čĆą░ąĘąŠą╝, ą║ą░ą║
ąŠąĘąĖą╝ą░čÅ čĆąŠąČčī, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ čāąČąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠŌĆ”
ąØąĄ ą┐čĆąŠčĆąŠčüą╗ąĖ, ąĮąĄ
čāčüą┐ąĄą╗ąĖ, ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ čĆąĄąĘą║ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖą╗ąĖčüčī, ąĖ ąŠąĮ čüąĄą╣čćą░čü čü
čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĖąĄą╝ ą┤čāą╝ą░ą╗, čćč鹊 čüą║ąŠčĆąŠ ąĖąĘą▒ą░ą▓ąĖčéčüčÅ ąŠčé ąźą░ą╝ąĘą░čéą░ ąĮą░ą▓čüąĄą│ą┤ą░
ą┐ąŠą╝ąĖą╝ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą▓ąŠą╗ąĖ.
ąØą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖąĄ ąŠ
ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮčŗ č鹊ąČąĄ ąĮąĖčćčāčéčī ąĮąĄ čéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗ąŠ ąĖ ąĮąĄ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠ
čüąŠčüčéčĆą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ, ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ąŠąĮ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą▓ą░ą╗ ą▓ čüąĄą▒ąĄ ą╝čüčéąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā
ą┐čāą│ą░čÄčēąĄąĄ čćčāą▓čüčéą▓ąŠ. ą¤čāčüčéčī čģąŠčéčī ą▓čüčÄ ąĮąŠčćčī čüąĖą┤ąĖčé ąĖ ąČą┤ąĄčé, ą┐čāčüčéčī ą╝ąĄč湥čéčüčÅ ą┐ąŠ
ą┐čāčüč鹊ą╝čā ą┤ąŠą╝čā ąĖą╗ąĖ čĆąĄą▓ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĘą░ą┐ąĄčĆč鹊ą╣ ąĖ ąŠą┐ąĄčćą░čéą░ąĮąĮąŠą╣ ą┤ą▓ąĄčĆčīčÄ ąĪą░čłąĖ, ąĖ
ą┐ąŠč鹊ą╝, ąĮą░ą┐ą╗ą░ą║ą░ą▓čłą░čÅčüčÅ, ą║čĆą░čüąĮąŠąĮąŠčüą░čÅ ąĖ ąČą░ą╗ą║ą░čÅ, ą▓ ąŠą┤ąĖąĮąŠčćą║čā ą┐čīąĄčé
ą▓ą░ą╗ąĄčĆčīčÅąĮą║čā ąĮą░ą┐ąŠą┐ąŠą╗ą░ą╝ čü ą║ąŠąĮčīčÅą║ąŠą╝ ąĖ, ą┐čīčÅąĮą░čÅ, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé čüą░ą╝ą░ čü čüąŠą▒ąŠą╣.
ąÆąŠąĘą▓čĆą░čēą░čÅčüčī ą┐ąŠ
ą▓ąĄč湥čĆą░ą╝ čü ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ čāą╗ąĖčåčŗ, ąŠąĮ ąĘą░čüčéą░ą▓ą░ą╗ ąČąĄąĮčā č鹊 ą▓ ą┐ąŠą╗čāą▒ąĄąĘčāą╝ąĮąŠą╝
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮą░ čćąĖčéą░ą╗ą░ čüčéąĖčģąĖ, ą▒čĆąŠą┤čÅ ą┐ąŠ ąĘą░ą╗čā čü ąĘą░ą║čĆčŗčéčŗą╝ąĖ
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, č鹊 čüą┐čÅčēąĄą╣ ą▓ ąĮąĄą┐ąŠčéčĆąĄą▒ąĮąŠą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤ąĖ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆą░ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą┐čīčÄčēąĄą╣
ą▓ąŠą┤ą║čā ą▓ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗ąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĘą░ą▓ąĄčĆčłą░ą╗ąĖ čĆąĄčüčéą░ą▓čĆą░čåąĖčÄ
čüčéą░čĆąĖąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ą░ą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą▒ąŠčĆą░. ąś ąĮąĖ čĆą░ąĘčā ąĮąĖčćč鹊 ąĮąĄ ą▓ąŠčĆąŠčģąĮčāą╗ąŠčüčī, ąĮąĄ
ą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗ąŠ ą▓ ą┤čāčłąĄ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čāąČąĄ čĆąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą┐ąŠą┤čüą┐čāą┤ąĮą░čÅ
ą╝čŗčüą╗čī, čćč鹊 ą▓čüąĄą╝čā čŹč鹊ą╝čā ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 č鹊ąČąĄ ą┐čĆąĖą┤ąĄčé ą║ąŠąĮąĄčå.
ąś ąŠąĮą░ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░
čŹč鹊, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▓ čüąĄą▒čÅ, ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ą░ ąŠą▒ąĖąČąĄąĮąĮąŠ,
ąČąĄčüčéą║ąŠ ąĖ čāą│čĆąŠąČą░čÄčēąĄ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▒čŗą▓čłąĄą╝čā ą╝čāąČčā:
ŌĆö ą£ąŠąČąĄčłčī ąĮąĄ
ą▓ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░čéčīčüčÅ, ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣. ą» čüą║ąŠčĆąŠ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠąČčā č鹥ą▒čÅ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÄ ą▓ ą┐ąŠą║ąŠąĄ.
ą¤ąŠč鹥čĆą┐ąĖ ąĄčēąĄ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ.
ąÆ čŹč鹊čé čĆą░ąĘ ąźą░ą╝ąĘą░čé
ą┐ąŠčéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĮčīčłąĄ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĄčēąĄ ą┤ąĮąĄą╝ ą┐ąŠčłąĄą╗ čüąĮąĄą│ čü ą┤ąŠąČą┤ąĄą╝, ą░
ąĘąŠąĮčéąĖą║ą░ ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ąĖ čüč鹊čÅčéčī ą▓ čéą░ą║čāčÄ ą┐ąŠą│ąŠą┤čā čü ąĮąĄą┐ąŠą║čĆčŗč鹊ą╣ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣
ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘąĮąŠą▒ą║ąŠ, ąĮąŠ ąĖ ąŠą┐ą░čüąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čīčÅ, ąŠ č湥ą╝ ąĖ ą┐čĆąŠą│čāąĮą┤ąŠčüąĖą╗
č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī.
ŌĆö ąöą░ą╣ ąĘą░ą║čāčĆąĖčéčī, ŌĆö
ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣.
ŌĆö ąØąĄ ą║čāčĆčÄ,
ąÉąĮą░č鹊ą╗ąĖą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓ąĖčć, ŌĆö ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ č鹊čé. ŌĆö ąÆčŗ ąĘąĮą░ąĄč鹥, ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ŌĆ”
ŌĆö ąØčā čéą░ą║ ąĮą░ą╣ą┤ąĖ
čüąĖą│ą░čĆąĄčé! ą¤ąŠą╣ą┤ąĖ ą║čāą┐ąĖ, čüčéčĆąĄą╗čīąĮąĖ čā ą┐čĆąŠčģąŠąČąĖčģ!
ąóąĄą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī
ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗čüčÅ ą▓ čłčéą░čéąĮąŠą╝, č鹊 ąĄčüčéčī čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čéčÅąĮčāą╗
ą▓čĆąĄą╝čÅ.
ŌĆö ąÜą░ą║ čŹč鹊 ŌĆö
čüčéčĆąĄą╗čīąĮąĖ?
ŌĆö ąóčŗ čćč鹊, ąĮąĄ
čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗ ąĮą░ čāą╗ąĖčåąĄ ąĘą░ą║čāčĆąĖčéčī?
ą¦čāčéą║ąĖą╣ ą║
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÄ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ąźą░ą╝ąĘą░čé ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ą│ąĮąĄą▓ ąĖ ą╝ąŠą╗čćą░ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą║
ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠą╣, čüą▓ąĄčéčÅčēąĄą╣čüčÅ č鹊čĆą│ąŠą▓ąŠą╣ ą┐ą░ą╗ą░čéą║ąĄ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ.
ąś ą▓ čŹč鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ
ą│ą┤ąĄ‑č鹊 ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ ąĘą░ą┤čĆąĄą▒ąĄąĘąČą░ą╗ čĆą░čüą┐ąĄą▓ąĮčŗą╣ čüčéą░čĆčāčłąĄčćąĖą╣ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą║:
ŌĆö ąÉ čćč鹊, ą▒ą░čéčÄčłą║ą░,
čéčÅąĮąĄčé ąĮą░ čŹč鹊 ą╝ąĄčüč鹊? ąØąĄ ąČąĄą╗ą░ąĄčłčī, ą┤ą░ ąĮąŠą│ąĖ ą▓ąĄą┤čāčé?
ą£ąĖą╝ąŠą╗ąĄčéąĮčŗąĄ čŹčéąĖ
čüą╗ąŠą▓ą░ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĮąĄ ą║ą░čüą░čéčīčüčÅ ąĄą│ąŠ, ąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ą╝ąĖą│ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ
čćčāą▓čüčéą▓ąŠ, ą▒čāą┤č鹊 ą│ąŠą╗ąŠčü ąĘą▓čāčćąĖčé ą▓ ąĮąĄą╝ čüą░ą╝ąŠą╝, ąĖ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąŠąĮ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ,
ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čéą░ą║ ą▓čüąĄ ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ŌĆö ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗, ą░ čłąĄą╗ čüčÄą┤ą░.
ąØąĄą▓ąĘčĆą░čćąĮą░čÅ,
čüčüčāčéčāą╗ąĄąĮąĮą░čÅ ą▒ą░ą▒čāą╗čīą║ą░ čüč鹊čÅą╗ą░ ą▓ ą┤ą▓čāčģ čłą░ą│ą░čģ ąĖ ąĘą░ą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗ą░ ąĄą╝čā ą▓ ą╗ąĖčåąŠ.
ąĪčéą░čĆąĄąĮčīą║ąŠąĄ ąĘąĖą╝ąĮąĄąĄ ą┐ą░ą╗čīč鹊 čü čłą░ą╗ąĄą▓čŗą╝ čåąĖą│ąĄą╣ą║ąŠą▓čŗą╝ ą▓ąŠčĆąŠčéąĮąĖą║ąŠą╝, č鹥ą╝ąĮčŗą╣
ą┐ą╗ą░č鹊ą║ ąĖ čüą▓ąĄčĆčģčā ŌĆö ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąŠč鹥čĆčÅą▓čłą░čÅ č乊čĆą╝čā ąĖ ą▓čŗč鹥čĆčéą░čÅ ą║čāąĮčīčÅ čłą░ą┐ą║ą░.
ąÜą░ąČąĄčéčüčÅ, ą▓ čĆčāą║ą░čģ ąĄčēąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą┤ą░ą╝čüą║ą░čÅ čüčāą╝ąŠčćą║ą░ ąĖą╗ąĖ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮą░čÅ
čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠčłąĄą╗ą║ą░, ąĮąŠ čüą▓ąĄčĆąĮčāčéą░čÅ ąĖ ą┐čĆąĖąČą░čéą░čÅ ą╗ąŠą║č鹥ą╝ ą║ ą▒ąŠą║čā.
ąóą░ą║ąĖčģ čüčéą░čĆčāčłąĄą║
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą┐ąŠą▓ąĖą┤ą░ą╗ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊, ąĖčüą║čĆąĄąĮąĮąĄ ąČąĄą╗ą░čÅ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī, ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅą╗
čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ čćą░čüčŗ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┤ąĮčÅ ąĖ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ ą┤ąŠ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą┐ąŠą║ą░ ą▓
ą░ą┤ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆą░čåąĖčÄ ąĮąĄ čģą╗čŗąĮčāą╗ ą╝ąŠčēąĮčŗą╣ ą┐ąŠč鹊ą║ ąŠą▒ąĄąĘą┤ąŠą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąĄąĮčüąĖąŠąĮąĄčĆąŠą▓, ąĖ
ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ ą┤ąŠčłą╗ąŠ ą┤ąŠ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ, čćč鹊 ą┤ąĄą╗ąŠ čŹč鹊 ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠąĄ. ą×čüčćą░čüčéą╗ąĖą▓ąĖčéčī ą▓čüąĄčģ
ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ ąĘą░ą┐ąĖčüčŗą▓ą░čéčī ąĖ ą┐čāčüą║ą░čéčī ą▓
ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé ą╗ąĖčłčī ąĘą░čüą╗čāąČąĄąĮąĮčŗčģ, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗčģ ą▓ąĄč鹥čĆą░ąĮąŠą▓ ąĖą╗ąĖ ąĖčģ ą▓ą┤ąŠą▓. ąĪčéą░čĆąŠčüčéčī
ą┤ąĄą╗ą░ą╗ą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠčģąŠąČąĖą╝ąĖ, čćč鹊 ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą┐ą╗ąŠčģąŠ čĆą░ąĘą╗ąĖčćą░ą╗ ąĖčģ, ą║ą░ą║,
ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą║ąĖčéą░ą╣čåąĄą▓ ąĖą╗ąĖ čÅą┐ąŠąĮčåąĄą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮąŠą╝čā ą│ą╗ą░ąĘčā ą▓čüąĄą│ą┤ą░
ą║ą░ąČčāčéčüčÅ ąĮą░ ąŠą┤ąĮąŠ ą╗ąĖčåąŠ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čāąĘąĮą░čéčī ą▒ą░ą▒čāą╗čīą║čā, ą┤ą░ ąĄčēąĄ ąĖ ą▓ ąŠčüąĄąĮąĮąĄą╝
ą┐ąŠą╗čāą╝čĆą░ą║ąĄ, ąŠąĮ ąĮąĄ ą╝ąŠą│.
ąÉ ąŠąĮą░ čāąĘąĮą░ą╗ą░ ąĄą│ąŠ,
ą╝ą░ą╗ąŠ č鹊ą│ąŠ, ąĄą╣ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, čćč鹊 čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┤ąĄą▓čÅčéąĖčŹčéą░ąČąĮąŠą│ąŠ ą┤ąŠą╝ą░
ąĮą░ą┐čĆąŠčéąĖą▓. ąś ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ, ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ą░, ą▓čŗą▒čĆą░ą╗ą░ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąźą░ą╝ąĘą░čé
ąŠčüčéą░ą▓ąĖčé ą┐ąŠčüčéŌĆ”
ŌĆö ąóčÅąĮąĄčé, ŌĆö
ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ ąŠąĮ. ŌĆö ąØąŠą│ąĖ ą▓ąĄą┤čāčéŌĆ”
ŌĆö ą¤ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ ą▒čŗ,
ą╝ąŠąČąĄčé, ą┤čāčłą░ ąĮąĄ čćąĖčüčéą░? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ą░ ą▓ą║čĆą░ą┤čćąĖą▓ąŠ. ŌĆö ą£ąŠąČąĄčé, ą┐ąŠą║ą░čÅąĮąĖčÅ
ą┐čĆąŠčüąĖčé? ąóčŗ ą▓ąĄą┤čī, ą▒ą░čéčÄčłą║ą░, č鹊 ą▓ą▓ąĄčĆčģ, č鹊 ą▓ąĮąĖąĘ ąĘčŗčĆą║ą░ąĄčłčī, ą▒čāą┤č鹊 čüą░ą╝
čüą║ą░ą║ą░ąĮčāčéčī ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆąĖą▓ą░ąĄčłčīčüčÅ. ąöą░ ą▓čŗčłąĄ ą┐čāą┐ą║ą░ ąĮąĄ ą┐čĆčŗą│ąĮąĄčłčī.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąŠčēčāčéąĖą╗
č鹊ą╗č湊ą║ ąĮąĄą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ą░, ąĖ ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ąŠčé ą▒ą╗ą░ąČąĄąĮąĮąŠą╣ ą▒ą░ą▒ą║ąĖ
ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ą┐ąŠą╣čéąĖ ą▓ą┤ąŠą╗čī čāą╗ąĖčåčŗ, ą║ ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĘą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéą║ąŠą╝ ą╝ą░čłąĖąĮąĄ.
ąÜčĆąĖą║ąĮąĄčé čćč鹊 ą▓čüą╗ąĄą┤ ŌĆö ąĖ ą┐čāčüčéčī, ą║čĆčāą│ąŠą╝ ąĮąĖ ą┤čāčłąĖ, ą┤ą░ ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī čüčéą░ą╗ąŠ
ą║ą░ą║‑č鹊 ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ: čüą╗čāčģąĖ ą┐ąŠ ą│ąŠčĆąŠą┤čā ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī čüą░ą╝čŗąĄ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ, ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ
ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ čāčüą╗čŗčłąĖčłčīŌĆ”
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮąĄ čāčłąĄą╗ ąĖ
ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, ą╗ąĖčłčī ą║ąĄą┐ą║čā ąĮą░čéčÅąĮčāą╗ ąĮą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā.
ŌĆö ąĪą║ą░ąČąĖ ąĄčēąĄ, čŹč鹊
čÅ č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ čü ą║čĆčŗčłąĖ, ŌĆö ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠąĮ ąŠčéčĆčŗą▓ąĖčüč鹊, ą▓čŗąĖčüą║ąĖą▓ą░čÅ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝
ąźą░ą╝ąĘą░čéą░. ŌĆö ąś čģąŠąČčā čüčÄą┤ą░, ą║ą░ą║ čāą▒ąĖą╣čåą░ ą║ ą╝ąĄčüčéčā ą┐čĆąĄčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ.
ŌĆö ąØą░ą┐čĆą░čüą╗ąĖąĮčŗ ąĮąĄ
čüą║ą░ąČčā, ąĮąĄ ą▓ąŠąĘčīą╝čā ą│čĆąĄčģą░ ąĮą░ ą┤čāčłčā. ą£ąĮąĄ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą╗ą│ą░čéčī, čü ą▓ą░čü ąæąŠąČąĄąĮčīą║ą░
ąŠą┤ąĖąĮ čĆą░ąĘ čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ąĄčé, ą░ čü ą╝ąĄąĮčÅ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą┤ąĄąĮčī.
ąóąŠą╗čīą║ąŠ čüąĄą╣čćą░čü
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čüąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖą╗, čćč鹊 ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮąĖą╝ ą┐čüąĖčģąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║. ąÆąŠčé
ąĖ ą│čĆąĖą╝ą░čüąĮąĖčćą░ąĄčé ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ, ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ čéčĆčÅčüąĄčéčüčÅŌĆ”
ŌĆö ąśą┤ąĖ ą┤ąŠą╝ąŠą╣, ŌĆö
ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąóąĄą▒čÅ, ą┐ąŠą┤ąĖ, ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗ąĖ, čćą░čü ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖą╣ŌĆ”
ŌĆö ąÉ čéčŗ ąĮąĄ
ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤čāą╣! ŌĆö ąŠą▒ąŠčĆą▓ą░ą╗ą░ čüčéą░čĆčāčģą░. ŌĆö ąÆčüąĄ, ąŠčéą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ. ąÆąŠąĮ ą║ą░ą║ č鹥ą▒čÅ
čĆą░čüčćąĖčģą▓ąŠčüčéąĖą╗ąĖ! ąÜą░ą║ ą┐ąĄčéčāčģ čēąĖą┐ą░ąĮčŗą╣ ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖą╗!
ąÆąĖą┤ąĖą╝ąŠ, ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░
ąĖąĘ č鹥čģ ą▓ąĄčćąĮąŠ ąŠą▒ąĖąČąĄąĮąĮčŗčģ, ą▒ąĄąĘčāč鹥賹Įčŗčģ ąĖ ąŠą▒ąŠąĘą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ąŠ ą┤čāčłąĄą▓ąĮąŠą│ąŠ čüčĆčŗą▓ą░
ą┐ąĄąĮčüąĖąŠąĮąĄčĆąŠą▓, ąŠą▒ąŠą▒čĆą░ąĮąĮčŗčģ ąĘą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą┤ąĄčüčÅčéąĖą╗ąĄčéąĖąĄ ą┤ąŠ ąĮąĖčéą║ąĖ, ąŠčéč湥ą│ąŠ čü
ąĮąĖą╝ąĖ čāąČąĄ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░čéčī.
ŌĆö ąóąĄą▒ąĄ čćč鹊
ąĮčāąČąĮąŠ‑č鹊, ą▒ą░ą▒čāčłą║ą░? ŌĆö ą╝ąĖčĆąĮąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣, ą▓čŗąĖčüą║ąĖą▓ą░čÅ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ
ąźą░ą╝ąĘą░čéą░. ŌĆö ąĪą║ą░ąČąĖ, čÅ ą┐ąŠą╝ąŠą│čā.
ŌĆö ąØąĄčé, ą▒ą░čéčÄčłą║ą░,
čéčŗ čüąĄą▒ąĄ ą┐ąŠą╝ąŠą│ąĖ, ŌĆö ąĘą░čÅą▓ąĖą╗ą░ ąŠąĮą░, ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÅčüčī čĆą▓ą░ąĮąŠą╣ čĆčāą║ą░ą▓ąĖčćą║ąŠą╣ ąŠčé
ą▓ąĄčéčĆą░. ŌĆö ą£ąĮąĄ‑č鹊 čāąČ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ąĮčāąČąĮąŠ. ąØąĄ ąĮą░ čŹč鹊čé ą┤ąŠą╝ č鹥ą▒ąĄ ą▒čŗ čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī,
ą░ ąĮą░ ą┐ąŠą╝čŗčüą╗čŗ ąĖ ą┤ąĄą╗ą░ čüą▓ąŠąĖ. ąØąĄčāąČč鹊 ąĖ ą│ąŠčĆąĄ ąĮąĄ ą▓čĆą░ąĘčāą╝ąĖą╗ąŠ? ąÆąĄą┤čī čŹč鹊
ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ č鹥ą▒ąĄ č湥čĆąĄąĘ čĆąĄą▒ąĄąĮą║ą░! ą×ąĮ ą▓ąĄą┤čī ąĮą░čü č湥čĆąĄąĘ ą┤ąĄč鹥ą╣ čāčćąĖčé,
č湥čĆąĄąĘ ąĮąĖčģ ąĖ ąĮą░ą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé. ąæąŠą│‑č鹊 ą┐ąŠą║ą░čĆą░ą╗, ą▒čāą┤č鹊 ą▓ąŠčĆą░ ŌĆö ą┐čĆą░ą▓čāčÄ čĆčāą║čā
ąŠčéčüąĄą║. ąØąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĄčłčī, ąĮąĄ ąĖčüą║čāą┐ąĖčłčī ą│čĆąĄčģą░, ą▓ąĄą┤čī ąĖ ą╗ąĄą▓čāčÄ ąŠčéčĆčāą▒ąĖčé! ąŚą░ą╝čāąČ
ą┤ąŠčćą║čā ą▓čŗą┤ą░ą╗ ąĘą░ą│čĆą░ąĮąĖčåčā, čéą░ą║ ą▓ąĄą┤čī ąĖ čéą░ą╝ ąĮą░čüčéąĖą│ąĮąĄčé ąĄą│ąŠ ą┤ąĄčüąĮąĖčåą░!
ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ
ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĄčĆąĮčāą╗ąŠ ąŠčé ąĘąĮąŠą▒čÅčēąĄą│ąŠ čüčéčĆą░čģą░ ąĖ ąŠą╝ąĄčƹʹĄąĮąĖčÅ: čéą░ą║ąŠą│ąŠ ąĄą╝čā ąĮąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ
ąĄčēąĄ ąĮąĖ ąĘą░ ą│ą╗ą░ąĘą░, ąĮąĖ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ, ąĮąĖ ą▓čüą╗ąĄą┤! ąØą░ ą╝ąĖąĮčāčéčā ąŠąĮ ąŠčēčāčéąĖą╗ ą┐ąŠą╗ąĮčāčÄ
ą▒ąĄąĘąĘą░čēąĖčéąĮąŠčüčéčī ą┐ąĄčĆąĄą┤ čŹč鹊ą╣ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣ čüčéą░čĆčāčģąŠą╣, ą▒čĆąŠčüą░čÄčēąĄą╣ ąĮąĄą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗąĄ,
čćčāą┤ąŠą▓ąĖčēąĮčŗąĄ ąŠą▒ą▓ąĖąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖ čāą│čĆąŠąĘčŗ. ąØąĖč湥ą│ąŠ čüčĆą░ąĘčā ąŠčéą▓ąĄčéąĖčéčī ąĮąĄ čüą╝ąŠą│, ą╗ąĖčłčī
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ čćčāąČąĖą╝ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝:
ŌĆö ą¦č鹊 ąČąĄ čÅ
čüą┤ąĄą╗ą░ą╗, ą▒ą░ą▒čāčłą║ą░? ąŻą▒ąĖą╗ ą║ąŠą│ąŠ, čćč鹊 ą╗ąĖ?
ŌĆö ąøą░ą┤ąĮąŠ ą▒čŗ, čāą▒ąĖą╗,
ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ąĖ čüą┐čĆąŠčü č鹊ą│ą┤ą░. ąÆąĄą┤čī ąĮą░ ą╝čāą║ąĖ čüą╝ąĄčĆčéąĮčŗąĄ ą┐ąŠčüą╗ą░ą╗ čüčéą░čĆąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░.
ąś ąĮąĄ čćčāąČąŠą│ąŠ ŌĆö ą┐čĆąĄą┤ą║ą░ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ, čüčĆąŠą┤ąĮąĖą║ą░ ą║čĆąŠą▓ąĮąŠą│ąŠ. ąĪą▓čÅč鹊ą│ąŠ čüčéą░čĆčåą░ ąŠą▒čĆąĄą║
ąĮą░ ą│ąĄąĄąĮąĮčā ąŠą│ąĮąĄąĮąĮčā!
ą×ąĮ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčÅą╗
ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ čüą╗ąŠą▓, ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆąŠčüąĖą╗:
ŌĆö ąÜą░ą║ąŠą│ąŠ čüčéą░čĆčåą░?
ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ čÅ čéą░ą║ąŠą│ąŠ!
ŌĆö ąŚąĮą░ąĄčłčī! ąś ą▓ąŠčé
čüą▓ąĄčĆčłąĖą╗ąŠčüčī! ą¤čĆąĖčłąĄą╗ čćą░čü čĆą░čüą┐ą╗ą░čéčŗ! ąöąŠčĆąŠą│ąŠ čü č鹥ą▒čÅ ą▓ąĘčÅą╗ ąōąŠčüą┐ąŠą┤čī!
ą×ąĮ ąŠčéčłą░čéąĮčāą╗čüčÅ, ą░
čüčéą░čĆčāčģą░ ą┐ąŠčéčĆčÅčüą╗ą░ čüčāą╝ą║ąŠą╣ ąĖ ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗ą░ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąĮąĖąĘą║ąĖą╝ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝:
ŌĆö ąśčēąĖ ąæąŠą│ą░, ą░ ąĮąĄ
ą▓ą╗ą░čüčéąĖ, ąĖčĆąŠą┤! ą¤ąŠą┤ąĖ ą┐ąŠą║ą░ą╣čüčÅ!
ŌĆö ąŚą░ čćč鹊
ą┐ąŠą║ą░čÅčéčīčüčÅ, ą▒ą░ą▒čāčłą║ą░? ŌĆö čāąČąĄ ą▓čüą╗ąĄą┤ ąĄą╣ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣.
ąĪčéą░čĆčāčģą░ ą▒čāą┤č鹊 ąĮąĄ
čāčüą╗čŗčłą░ą╗ą░ ąĖ ąĘą░ą║ąŠą▓čŗą╗čÅą╗ą░ ąĮą░ąĖčüą║ąŠčüąŠą║ č湥čĆąĄąĘ čāą╗ąĖčåčā, ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā č鹊čĆą│ąŠą▓ąŠą╣
ą┐ą░ą╗ą░čéą║ąĖ, ąŠčüčéą░ą▓ąĖą▓ ąĄą│ąŠ ą▓ čüą╗ąŠąČąĮąŠą╝, ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ
ąĘą░ą╝ąĄčłą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░, ąŠčåąĄą┐ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąĮąĄą│ąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ.
ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ
č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī, ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ ą║ąŠą╗ąŠčéąĖą╗ąŠ, ąĖ čŹč鹊 ąĮąĄ čāčüą║ąŠą╗čīąĘąĮčāą╗ąŠ ąŠčé ą│ą╗ą░ąĘ
ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ č湥ą║ąĖčüčéą░.
ŌĆö ą¦č鹊 čü ą▓ą░ą╝ąĖ? ŌĆö
ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĄąĮąĮąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ, ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░čÅ ą┐ą░čćą║čā čüąĖą│ą░čĆąĄčé ąĖ ąĘą░ąČąĖą│ą░ą╗ą║čā.
ŌĆö ąØąĖč湥ą│ąŠ,
ąĘą░ą╝ąĄčĆąĘ, ŌĆö ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ ąŠąĮ, ąĮąĄ ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╣ čćč鹊‑ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī. ŌĆö ąóąĄą▒čÅ ąĘą░
čüą╝ąĄčĆčéčīčÄ ą┐ąŠčüčŗą╗ą░čéčīŌĆ”
ŌĆö ąóą░ą╝ ąŠč湥čĆąĄą┤čī. ŌĆö
ąźą░ą╝ąĘą░čé čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖą┤ąĖčĆčćąĖą▓ąŠ, ą▒čāą┤č鹊 ąĖčüą║ą░ą╗ ąĮąĄą║ąĖą╣ ą▓ąĮąĄčłąĮąĖą╣ ąĖąĘčŖčÅąĮ
ą▓ č鹥ą╗ąĄ. ŌĆö ą¦č鹊 čéčāčé ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ, ąÉąĮą░č鹊ą╗ąĖą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓ąĖčć?
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣
čĆą░čüą┐ąĄčćą░čéą░ą╗ ą┐ą░čćą║čā, ą┐čĆčÅčćą░čüčī ąŠčé ą▓ąĄčéčĆą░, ą┐čĆąĖą║čāčĆąĖą╗ čüąĖą│ą░čĆąĄčéčā, ąĖ ąŠčé ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣
ąĘą░čéčÅąČą║ąĖ ąĘą░ą║čĆčāąČąĖą╗ą░čüčī ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░. ą×ąĮ ąĮąĄ ą║čāčĆąĖą╗ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ čāąČąĄ ą╗ąĄčé
ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī, ą░ čéą░ą║, ą▒ą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĮą░ ąŠčģąŠč鹥,
ąĮą░ čĆą░ą┤ąŠčüčéčÅčģ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčéčüčéčĆąĄą╗ąĖą▓ą░ą╗ ąĘą▓ąĄčĆčÅ. ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, ąĖ ą▓čŗą┐ąĖą▓ą░ą╗ ąŠčé ą┤čāčłąĖ
č鹊ąČąĄ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā čüą╗čāčćą░čÄ, čü ąĄą│ąĄčĆčÅą╝ąĖ, ąŠčé ą▓ąŠčüč鹊čĆą│ą░ ąĖ ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ. ąś
ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ŌĆö ąŠčé ą│ąŠčĆčÅ.
ŌĆö ąĪčéą░čĆčāčģčā čüąĄą╣čćą░čü
ą▓ąĖą┤ąĄą╗? ŌĆö ą╝ąĄąČą┤čā ą┐čĆąŠčćąĖą╝ ą┐ąŠąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠąĮ.
ŌĆö ąÜą░ą║čāčÄ
čüčéą░čĆčāčģčā? ŌĆö čā č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ ą▒čŗą╗ą░ ą┤čāčĆąĮą░čÅ ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ą░ ŌĆö ą▓čüąĄ
ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░čéčī, čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą▓čŗąĖą│čĆčŗą▓ą░čÅ ą┐ą░čāąĘčā, čćč鹊ą▒čŗ
ą┐čĆąŠą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░čéčī čüąĖčéčāą░čåąĖčÄ ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ.
ąŁčéą░ ąĮąĄąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĖą╝ą░čÅ
čģąĖčéčĆąŠčüčéčī ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą▒ąĄčüąĖą╗ą░ ąĖ ąŠą▒ąĄąĘąŠčĆčāąČąĖą▓ą░ą╗ą░. ą¤ąŠ č鹊ą╣ ąČąĄ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣
č鹥čĆą┐ąĄčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą░ą╝ąĄčĆąĖą║ą░ąĮčüą║ąŠąĄ ą║ąĖąĮąŠ ąĖ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčāčÄ ą┤čĆą░ą╝ą░čéčāčĆą│ąĖčÄ, ą│ą┤ąĄ
ą┐čāčüč鹊ą▓ą░čéčŗąĄ ą┤ąĖą░ą╗ąŠą│ąĖ čüčéčĆąŠąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą╝ ą▓čŗą╝ą░čéčŗą▓ą░čÄčēąĄą╝ ą┤čāčłčā
ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ąĮąĖąĖ, ą▒čāą┤č鹊 čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčī ą│ą╗čāčģąĖąĄ ąĖ ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓čŗąĄ. ąØąŠ ąĄčüą╗ąĖ
č鹥ą╗ąĄą▓ąĖąĘąŠčĆ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗą║ą╗čÄčćąĖčéčī, ą░ čüąŠ čüą┐ąĄą║čéą░ą║ą╗čÅ čāą╣čéąĖ, č鹊 čü ąźą░ą╝ąĘą░č鹊ą╝ ąĮąĖč湥ą│ąŠ
čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą░ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░ąĮąĖčÄ čŹč鹊čé ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘąĄčå ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą╗ąĄąČą░ą╗.
ŌĆö ą×ąĮą░ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ą░čüčī
č鹥ą▒ąĄ ąĮą░ą▓čüčéčĆąĄčćčā, ŌĆö čāčüčéą░ą╗ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ ąŠąĮ.
ŌĆö ąÆčüčéčĆąĄčéąĖą╗ą░čüčī, ŌĆö
ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ č鹥ą╗ąŠčģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆö ąōąŠčĆą▒ą░čéą░čÅ, čü ą║ąŠčłąĄą╗ą║ąŠą╣ŌĆ”
ŌĆö ąØčā ąĖ ą╗ą░ą┤ąĮąŠ.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąŠčéčłą▓čŗčĆąĮčāą╗
čüąĖą│ą░čĆąĄčéčā ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗ ą║ ą╝ą░čłąĖąĮąĄ. ąÜčĆčāą┐ąĮą░čÅ, ąĮąĄčĆą▓ąĮą░čÅ ą┤čĆąŠąČčī ą┐ąŠąĮąĄą╝ąĮąŠą│čā
čāą╗ąĄą│ą╗ą░čüčī, ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą╗ąĖčłčī ąĖąĘčĆąĄą┤ą║ą░ ą┐ąŠčéčĆčÅčģąĖą▓ą░ą╗ąŠ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĖ ą▓ą┐čĆčÅą╝čī ąŠčé
ąŠąĘąĮąŠą▒ą░. ąÜą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠąĮ ąĄčēąĄ ąŠčéą║čĆąĄčēąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠčé ąĮą░ą▓čÅąĘčćąĖą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘą░
ą┐ąŠą╗ąŠčāą╝ąĮąŠą╣ ą▒ą░ą▒ą║ąĖ, čüčéą░čĆą░ą╗čüčÅ ąĮąĄ ą┤čāą╝ą░čéčī ąĮą░ą┤ č鹥ą╝ ą▒čĆąĄą┤ąŠą╝, čćč鹊 ąŠąĮą░ ąĮąĄčüą╗ą░, ąĖ
ąŠčéą▓ą╗ąĄą║ą░ą╗čüčÅ čüąĖčÄą╝ąĖąĮčāčéąĮčŗą╝ąĖ ąŠčēčāčēąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą╣, čüčŗčĆąŠą╣ ąŠčüąĄąĮąĖ, ąĮąŠ čüč鹊ąĖą╗ąŠ
ąŠą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ ą▓ č鹥ą┐ą╗ąŠą╝ čüą░ą╗ąŠąĮąĄ ą┤ąČąĖą┐ą░, ą║ą░ą║ ą▓ąĮąŠą▓čī ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠčéąĖą╗ąŠ ąĖ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī
čüčéąĖčüąĮčāčéčī ą▓čŗą▒ąĖą▓ą░čÄčēąĖąĄ č湥č湥čéą║čā ąĘčāą▒čŗ.
ŌĆö ą¦č鹊 čü ą▓ą░ą╝ąĖ? ŌĆö
ąĘą░čéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗čüčÅ ąźą░ą╝ąĘą░čé. ŌĆö ąøąĖčåą░ ąĮąĄčé.
ŌĆö ąÜą░ąČąĄčéčüčÅ,
ą┐čĆąŠčüčéčāą┤ąĖą╗čüčÅ. ŌĆö ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąŠą▒ąĮčÅą╗ čüąĄą▒čÅ ąĖ ąĮą░ą┐čĆčÅą│čüčÅ. ŌĆö ąóąĄą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░ŌĆ” ąöą░ą▓ą░ą╣
ą┤ąŠą╝ąŠą╣.
ŌĆö ą£ąŠąČąĄčé, ą▓čĆą░čćčā
ą┐ąŠą║ą░ąĘą░čéčīčüčÅ?
ŌĆö ąöąŠą╝ąŠą╣!
ąöąŠčĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮčŗą╣
ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčüą║ąĖą╣ ąŠčüąŠą▒ąĮčÅą║ ą┐ąŠ ąĄą│ąŠ ąČąĄ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ąŠčéčĆąĄčüčéą░ą▓čĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĄčēąĄ
č湥čéčŗčĆąĄ ą│ąŠą┤ą░ ąĮą░ąĘą░ą┤, ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąČąĖą╗, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ąĮą░ ą║ą░ąĘąĄąĮąĮąŠą╣
ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąĄ čü ąĖąĮč鹥čĆčīąĄčĆą░ą╝ąĖ ą┤ąĄą▓čÅčéąĮą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░, čü ą║ą░ąĘąĄąĮąĮąŠą╣, ą┐ą░ą▓ą╗ąŠą▓čüą║ąĖčģ
ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮ, ą╝ąĄą▒ąĄą╗čīčÄ, ąĖ ą▓čüąĄ čŹč鹊 ąĄą╝čā ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąŠ čüą░ą╝čŗą╣ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╣
ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą╝čāąĘąĄą╣, ąĮąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą┤ąŠą╝. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, ą▒čŗą╗ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĄą╝čā čéą░ą║ąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĄčēąĄą╣ ąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ąŠčüčī, ąĖ ąŠąĮ ą┤ą░ąČąĄ čāčüą┐ąĄą╗
ą┐ąŠčćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī, ą║ą░ą║ čüčéąĖą╗čī ą▒čŗčéą░ ŌĆö ą░čĆčģąĖč鹥ą║čéčāčĆčŗ, ą║čĆą░čüąŠą║, čāą▒čĆą░ąĮčüčéą▓ą░,
ą╝ąĄą▒ąĄą╗ąĖ, ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé ą┤ąĖą║č鹊ą▓ą░čéčī čüčéąĖą╗čī ą▒čŗčéąĖčÅ. ą¤ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ,
ą╝ąĄčüčÅčåą░ čéčĆąĖ čüą░ą╝ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣, ąĖ ą║ą░ą║ ą▓čŗčÅčüąĮąĖą╗ąŠčüčī ą┐ąŠąĘąČąĄ, ą▓čüčÅ čüąĄą╝čīčÅ, ąĮą░čćą░ą╗ąĖ
ąČąĖčéčī ąĮąĄč鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ, čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąĄąĮąĮąŠ ąĖ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝, čü ąŠą▒ąŠčüčéčĆąĄąĮąĮčŗą╝ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą╝
ąĘą░ą▒ąŠčéčŗ ąĖ ąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą┤čĆčāą│ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą┤čĆčāą│ąŠą╝.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüčćą░čüčéą╗ąĖą▓ąŠąĄ
čŹč鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ čéą░ą║ ąČąĄ ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ą┐ąŠ ąĮąĄčÅčüąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄą│ąŠ
ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗ąŠčüčī, ą▓čüąĄ ąŠą┐čÅčéčī čüčéą░ą╗ąŠ ą║ą░ą║ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, čüčāąĄčéą╗ąĖą▓ąŠ,
čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ, ąĖ ąŠąĮ ąĮąĄą┤ąĄą╗čÅą╝ąĖ ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĪą░čłčā ąĖ ąČąĄąĮčā, ąĖą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ
čüą┐čÅčēąĖą╝ąĖ, ą░ čüčéą░čĆčłą░čÅ, ą£ą░čłą░, čāąČąĄ ąČąĖą╗ą░ čā ą╝čāąČą░ ą▓ ąÜąŠčāą▓ą░ą╗ąĄ. ąØąŠ čüčéčĆą░ąĮąĮąŠąĄ
ą┤ąĄą╗ąŠ, ąÜą░čéčÅ, ą┐ąŠč鹊ą╝čüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮą║ą░ ąĖąĘ ąĪą░ą╝ą░čĆčüą║ąŠą╣ ą│čāą▒ąĄčĆąĮąĖąĖ, ą┤ąŠčćčī
ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą░č鹊čĆą░ ąĖ ą┤ąŠčÅčĆą║ąĖ, ąĘą░ čŹč鹊čé ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗ą░čüčī ą▓ ą▒ą░čĆčŗąĮčÄ
čüąŠ ą▓čüąĄą╝ąĖ ą▓čŗč鹥ą║ą░čÄčēąĖą╝ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅą╝ąĖ. ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čüč鹥ąĮčŗ ą▓ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčüą║ąŠą╝
ąŠčüąŠą▒ąĮčÅą║ąĄ, ą╝ąĄą▒ąĄą╗čī, ą║ą░ą╝ąĖąĮčŗ, ą╗ąĄą┐ąĮčŗąĄ čāąĘąŠčĆčŗ ŌĆö ą▓čüąĄ, ą▓ą┐ą╗ąŠčéčī ą┤ąŠ čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗčģ
ą┤ą▓ąĄčĆąĮčŗčģ čĆčāč湥ą║ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░čüą║ą▓ąŠąĘčī ą┐čĆąŠą┐ąĖčéą░ąĮąŠ ą▒ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┤čāčģąŠą╝. ąĪąĮą░čćą░ą╗ą░
ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ą░čüčī ą┤ąŠą╝čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖčåą░, ą┐ąŠč鹊ą╝ ą║čāčģą░čĆą║ą░, ą░ ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĘą░ čüč湥čé ą╝čāąĘąĄčÅ ąČąĄąĮą░
ą▓čŗčģą╗ąŠą┐ąŠčéą░ą╗ą░ čüąĄą▒ąĄ ą┤ą▓ąŠčĆąĮąĖą║ą░‑čüą░ą┤ąŠą▓ąĮąĖą║ą░, ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĮąĄ ą▓čŗą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ąĖ ą▓čüčÄ
ą┐čĆąĖčüą╗čāą│čā ą▓čŗą│ąĮą░ą╗. ąÜą░čéčÅ ąĮąĄ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ą░ čü ąĮąĖą╝ čĆąŠą▓ąĮąŠ čéčĆąĖ ą╝ąĄčüčÅčåą░, ąČąĖą╗ąĖ
ą▓ ąĮąĄčāą▒čĆą░ąĮąĮąŠą╝ ą┤ąŠą╝ąĄ, ą┐ąĖčéą░ą╗ąĖčüčī ą▓ čüč鹊ą╗ąŠą▓čŗčģ ąĮą░ čĆą░ą▒ąŠč鹥, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ,
ąĮąĄą▓ąĘąĖčĆą░čÅ ąĮąĖ ąĮą░ čćč鹊, ąČąĄąĮą░ ąĘą░ą▓ąĄą╗ą░ ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅčēčāčÄ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĮąĖčåčā ą┐ąŠ ą┤ąŠą╝čā. ą×ąĮ
ą┐ą╗čÄąĮčāą╗ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ą╗ ąŠą▒čĆą░čēą░čéčī ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą▓čüąĄ ąČąĖč鹥ą╣čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ.
ą¤ąŠąČą░ą╗čāą╣, čü č鹥čģ
ą┐ąŠčĆ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ąĮąĄą╗čÄą▒ąŠą▓čī ą║ čŹč鹊ą╝čā ą┤ąŠą╝čā, čüą┐ąŠčĆą░ą┤ąĖč湥čüą║ąĖ
ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░čÅčüčī ą▓ ąĮąĄąĮą░ą▓ąĖčüčéčī, ąĖ ą║ą░ą║‑č鹊 ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ ąĖ
ą┐ąŠą╗čāčłčāčéą╗ąĖą▓ąŠ ąŠąĮ ą┐ąŠąČą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆčā ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĮąŠą│ąŠ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ
ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░, ą║ą░ą║ čéčĆčāą┤ąĮąŠ ąĖ ąĮąĄą╗ąĄą┐ąŠ ąČąĖčéčī ą▓ ą╝čāąĘąĄąĄ, ąĖ ąĮąĄ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčī ą╗ąĖ
ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčüą║ąĖą╣ ąŠčüąŠą▒ąĮčÅą║ ąĮą░ąĘą░ą┤, ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąĖ ą░čĆčģąĖč鹥ą║čéčāčĆčŗ.
ąóąĄą┐ąĄčĆčī, ą┐ąŠčüą╗ąĄ
ą┐čĆąŠąĖą│čĆą░ąĮąĮčŗčģ ą▓čŗą▒ąŠčĆąŠą▓, ąŠąĮ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ čüčŖąĄčģą░čéčī ąŠčéčüčÄą┤ą░ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░čéčī čŹč鹊čé
ą╝čāąĘąĄą╣ ą▓ąĮąŠą▓čī ąĖąĘą▒čĆą░ąĮąĮąŠą╝čā ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčā ąÜčĆčÄą║ąŠą▓čā.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüąĄą╣čćą░čü čā
ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ ąŠą▒čĆą░čéąĮąŠąĄ čćčāą▓čüčéą▓ąŠ: čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗą╣ ą┤ąŠą╝, ąŠą│ąŠčĆąŠąČąĄąĮąĮčŗą╣
ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ ą║ąĖčĆą┐ąĖčćąĮčŗą╝ ąĘą░ą▒ąŠčĆąŠą╝, ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéčīčÄ, ą│ą┤ąĄ ąĄą│ąŠ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ
ą┤ąŠčüčéą░ąĮąĄčé: čćčāą▓čüčéą▓ąŠ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąŠ ą┤ąĄčéčüą║ąĖąĄ čüčéčĆą░čģąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░
ą▒ąĄąČąĖčłčī č湥čĆąĄąĘ č鹥ą╝ąĮčŗąĄ čüąĄąĮąĖ ą▓ čüą▓ąĄčéą╗čāčÄ ąĖąĘą▒čā.
ą×čģčĆą░ąĮąĮąĖą║
čĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĖą╗ ą▓ąŠčĆąŠčéą░, ą┤ąČąĖą┐ ą▓čŖąĄčģą░ą╗ ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆ, ąĖ ąĘąĮąŠą▒čÅčēą░čÅ ąŠčüąĄąĮąĮčÅčÅ čāą╗ąĖčåą░ ąĮą░
ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą╝ąĖčĆąĄ. ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą▓čŗą▒čĆą░ą╗čüčÅ ąĖąĘ ą║ą░ą▒ąĖąĮčŗ,
ą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮąŠ ą╝ą░čģąĮčāą╗ ąźą░ą╝ąĘą░čéčā ąĖ čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą║ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆčā, čāčüčéčĆąŠąĄąĮąĮąŠą╝čā
ąĮą░ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ ą┤ą▓ąŠčĆą░ ŌĆö ąĘą░ čüąĄčéą║ąŠą╣ čāąČąĄ ą╝ąŠą╗ąĮąĖčÅą╝ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą▓ąĄ
čüą║čāą╗čÅčēąĖčģ čĆčŗąČąĖčģ ą╗ą░ą╣ą║ąĖ.
ą×ąĮ ą╗čÄą▒ąĖą╗ čüąŠą▒ą░ą║,
ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ąĖčģ ą▓čüčÄ ąČąĖąĘąĮčī, ąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čüą╗čāąČąĄą▒ąĮčŗčģ ąĖą╗ąĖ ą║ąŠą╝ąĮą░čéąĮčŗčģ, ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ
ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖčüčī ą▓čüąĄą│ąŠ ą┤ą▓ąĄ ŌĆö č湥čĆąĮčŗą╣ č鹥čĆčīąĄčĆ, ą┐ąŠą│ąĖą▒čłąĖą╣ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠą╗ąĄčüą░ą╝ąĖ
ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗čÅ, ąĖ čüą┤ąŠčģčłą░čÅ ąŠčé čüčéą░čĆąŠčüčéąĖ ą▒ąĄčüą┐ąŠčĆąŠą┤ąĮą░čÅ ą┤ą▓ąŠčĆąĮčÅą│ą░. ą×čüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ
ą┐čĆąŠąČąĖą╗ąĖ ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ čĆčÅą┤ąŠą╝, ąĮąŠ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮąŠą╝ ą╝ąĖčĆąĄ ąĖ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąĖčüčī
ą╗ąĖčłčī ą║ čüą╗čāčćą░čÄ. ąÜ ąŠčģąŠč鹥 ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą┐čĆąĖčüčéčĆą░čüčéąĖą╗čüčÅ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╗ąĄčé ą┤ąĄčüčÅčéčī ąĮą░ąĘą░ą┤,
ą┐ąŠč鹊ą╝čā čĆą░ąĮčīčłąĄ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīąĖčģ čüąŠą▒ą░ą║, ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĖčģ,
čüčćąĖčéą░ą╗ ą┐čāčüčéčŗą╝ąĖ ąĖ ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ąĖ. ąś ą╗ąĖčłčī ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą┐ąŠąĄčģą░ą╗ ą▓
ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ ą▒čŗą▓ą░ą╗čŗčģ čāčéčÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░ ą▓ąĄčüąĄąĮąĮąĖąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖą▓čŗ, ą┐ąŠčüčéčĆąĄą╗čÅą╗ ąŠčé ą┤čāčłąĖ ąĖąĘ
čćčāąČąŠą│ąŠ čĆčāąČčīčÅ, ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗, ą║ą░ą║ čüą┐ą░ąĮąĖąĄą╗čī ą╗ąŠą▓ą║ąŠ ą┤ąŠčüčéą░ąĄčé ą▒ąĖčéčŗčģ ą┐čéąĖčå ąĖąĘ
ą╗ąĄą┤čÅąĮąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ąĄčé ą▓ čĆčāą║ąĖ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░, čāą╝ąĖą╗ąĖą╗čüčÅ, ą▓ąŠčüčģąĖčéąĖą╗čüčÅ ąĖ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ą╗
čēąĄąĮą║ą░. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ąŠčģąŠčéčŗ ąĮą░ ą▒ą░čĆčüčāčćąĖąĮčŗčģ ąĮąŠčĆą░čģ ąŠąĮ ą║čāą┐ąĖą╗ čā ąĄą│ąĄčĆčÅ ą▓ąĘčĆąŠčüą╗ąŠą│ąŠ
č乊ą║čüč鹥čĆčīąĄčĆą░ ąĖ č鹊ąČąĄ ąĖčüą║čĆąĄąĮąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ą╗čüčÅ ą║ ąĮąĄą╝čā. ąĪą┐ą░ąĮąĖąĄą╗čī ą▒čŗą╗
ą▒ąĄčüčłą░ą▒ą░čłąĮąŠ ą╗ą░čüą║ąŠą▓čŗą╝, ą▓ąĄčĆčéą╗čÅą▓čŗą╝ ąĖ čéčĆčāčüąŠą▓ą░čéčŗą╝, č乊ą║ąĄ ąĮąĄą╗čÄą┤ąĖą╝čŗą╝,
čéčāą┐ąŠą▓ą░čéčŗą╝, čüą║ą╗ąŠąĮąĮčŗą╝ ą║ ą▒čĆąŠą┤čÅąČąĮąĖč湥čüčéą▓čā, ąĮąŠ ąĘą░č鹊 ą▒ąĄčüčüčéčĆą░čłąĮčŗą╝ ąĖ
ąŠčéčćą░čÅąĮąĮčŗą╝; ąŠą▒ą░ ąŠąĮąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░, ąČąĖą╗ąĖ ą▓ ą┤ąŠą╝ąĄ ąĮą░ ą║ąŠą▓čĆą░čģ, ą║ą░ą║
ą▒čŗ ą▓ą┐ąĖčüčŗą▓ą░čÅčüčī ą▓ ąĖąĮč鹥čĆčīąĄčĆ, ąĖ ą┤ą╗ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĮąĄ ą┐ąŠą╝čŗčłą╗čÅą╗ ąŠ
ą┤čĆčāą│ąĖčģ čüąŠą▒ą░ą║ą░čģ. ą¤ąŠą║ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčüčéčĆą░čüčéąĖą╗čüčÅ ą║ ąĘą▓ąĄčĆąŠą▓ąŠą╣ ąŠčģąŠč鹥 ąĖ ąĮąĄ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą▓
čĆą░ą▒ąŠč鹥 ą╗ą░ąĄą║. ą¤ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ ąĮą░ ąŠą▓čüą░čģ ąŠąĮ čüčéčĆąĄą╗čÅą╗ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ ąĄą│ąĄčĆčÅ ąĖ
ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąŠčģąŠčéą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī čāčüą┐ąĄčłąĮąŠą╣, ą░ ą▓ąŠčé ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ čāąČąĄ ą▒ąĖą╗ čü ą╗ą░ą▒ą░ąĘą░ ą▓
ąŠą┤ąĖąĮąŠčćą║čā ąĖ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĮą║ą░. ąŚą▓ąĄčĆčī čāą▒ąĄąČą░ą╗ čü ą┐ąŠą╗čÅ ą▓ ą│čāčüčéčāčÄ ą╗ąĄčüąĮčāčÄ
ą║čĆąŠą╝ą║čā, čéčĆąĄčēą░ą╗ čéą░ą╝ čćą░čēąĄą▒ąĮąĖą║ąŠą╝, ąĖ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą▓ ą░ąĘą░čĆč鹥 ą┐ąŠą╗ąĄąĘ ą▒čŗą╗ąŠ
ą┤ąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ą┐ąŠą┤čĆą░ąĮą║ą░, ąĮąŠ ąźą░ą╝ąĘą░čé ą▓čüčéą░ą╗ ą│čĆčāą┤čīčÄ ŌĆö ąĮąĄ ą┐čāčüčéąĖą╗ ąĖ čüą░ą╝ ąĮąĄ
ą┐ąŠčłąĄą╗. ąóąŠą│ą┤ą░ ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠ čĆą░čåąĖąĖ ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░, ąĮąŠ č鹊čé ą┐čĆąĖą┐ąŠąĘą┤ą░ą╗, ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗
čāąČąĄ ą▓ čüčāą╝ąĄčĆą║ą░čģ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čüąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ąĘą░čĆąŠčüą╗ąĖ čüčéą░ą╗ąŠ ąĄčēąĄ ąŠą┐ą░čüąĮąĄąĄ, ąĮąŠ ąĘą░č鹊
ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘ ą┤ą▓čāčģ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗčģ, ą┐čĆąŠą│ąŠąĮąĖčüčéčŗčģ ą║ąŠą▒ąĄą╗čīą║ąŠą▓, ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą║ą░ą║ ąĮą░čéą░čüą║ą░čéčī ą┐ąŠ
ą║čĆąŠą▓ą░ą▓ąŠą╝čā čüą╗ąĄą┤čā. ąĪą┐čāčēąĄąĮąĮčŗąĄ čü ą┐ąŠą▓ąŠą┤ą║ąŠą▓ ą╗ą░ą╣ą║ąĖ čéčāčé ąČąĄ ą▓ąĘčÅą╗ąĖ čüą╗ąĄą┤,
ą╝ąĄčéąĮčāą╗ąĖčüčī ą▓ ą╗ąĄčü ąĖ č湥čĆąĄąĘ ą╝ąĖąĮčāčéčā ąĮą░čćą░ą╗ąĖ ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠ čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĮąĖą║ąŠą╝čā ąĮąĄ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĖą╗ ą┤ąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ą┐ąŠą┤čĆą░ąĮą║ą░, ą▓ čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ
ąźą░ą╝ąĘą░čéą░ ąĖ ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░ čüą░ą╝ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ąĖ ą┤ąŠą▒ąĖą╗ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ čüąŠą▒ą░ą║. ąÉ č鹥,
ą▓ąĘą▓ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖ ą▓ąŠčüč鹊čƹȹĄąĮąĮčŗąĄ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ą░, ą║ąĖąĮčāą╗ąĖčüčī ą║ ąĮąĄą╝čā,
čüčéą░ą╗ąĖ ą╗ą░čüą║ą░čéčīčüčÅ, ą┐čĆčŗą│ą░čéčī ąĮą░ ą│čĆčāą┤čī ąĖ ą╗ąĖąĘą░čéčī čĆčāą║ąĖ. ąóąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ ąĄčēąĄ ąĮąĄ
ąĘąĮą░ą╗ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░ ą╗ą░ąĄą║ ąĖ čĆąĄčłąĖą╗, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ, ą║ą░ą║ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░,
ą▓ąŠąČą░ą║ą░ čüčéą░ąĖ, ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓čŗą┐ąĖą╗ąĖ ┬½ąĮą░ ą║čĆąŠą▓čÅčģ┬╗, ą┐čĆąĖąŠą▒ąĮčÅą╗ ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░ ąĖ
ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą┐ąŠ‑čüą▓ąŠą╣čüą║ąĖ ą┐ąŠą┤ą░čĆąĖčéčī ą║ąŠą▒ąĄą╗čīą║ąŠą▓. ąóąŠčé ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąĘą░ą╝ąĄčłą║ą░ą╗čüčÅ,
ąĘą░ą┤ąĄčĆą│ą░ą╗ ą┐ą╗ąĄčćą░ą╝ąĖ, ąĮąŠ čéčāčé ą▓ą╝ąĄčłą░ą╗čüčÅ ąźą░ą╝ąĘą░čé.
ŌĆö ą¤ąŠą┤ą░čĆąĖ,
ąÉąĮą░č鹊ą╗ąĖą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓ąĖčć ą┐čĆąŠčüąĖčé! ą×ąĮ ą▓ ą┤ąŠą╗ą│čā ąĮąĄ ąŠčüčéą░ąĮąĄčéčüčÅ.
ąóą░ą║ ąĖ čüčéą░ą╗ąĖ čŹčéąĖ
ą╗ą░ą╣ą║ąĖ ą╗čÄą▒ąĖą╝čŗą╝ąĖ ąĖ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ą░ą╝ąĖ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆą░: č乊ą║čüč鹥čĆčīąĄčĆ ą▓
ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ąČąĄ ą┤ąĄąĮčī ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ą▓ąĘčÅčéčī ą▓ąĄčĆčģ ąĮą░ą┤ ąĮąŠą▓ąĄąĮčīą║ąĖą╝ąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĘą▓ąĄčĆąŠą▓čŗąĄ
čüąŠą▒ą░ą║ąĖ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī čŹč鹊ą│ąŠ ąĮąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąĖ, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ąŠąĮ ą┐čĆąŠčüč鹊 čāčłąĄą╗ ąĖąĘ ą┤ąŠą╝ą░. ąÉ
čĆą░ąĘčŖąĄą▓čłąĖą╣čüčÅ ą║ąŠą╝ąĮą░čéąĮčŗą╣ čüą┐ą░ąĮąĖąĄą╗čī ąŠčé čĆąĄą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąĄčĆąĄą║čāčüą░ą╗ ą▓čüąĄčģ ą┤ąŠą╝ą░čłąĮąĖčģ ąĖ
ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠąĘą╗ąĖą╗čüčÅ, čćč鹊 ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī čüą▓ąĄčüčéąĖ ą║ ą▓ąĄč鹥čĆąĖąĮą░čĆą░ą╝ ąĖ čāčüčŗą┐ąĖčéčī.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĘą░ą▒čĆą░ą╗čüčÅ
ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆ ąĖ ą┐čĆąĖčüąĄą╗. ąÆąĘą╝ą░č鹥čĆąĄą▓čłąĖąĄ ą║ąŠą▒ąĄą╗ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗čÅą╗ąĖ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╣ čēąĄąĮčÅčćčīąĄą╣
ą╗ą░čüą║ąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ čéą║ąĮčāą╗ąĖčüčī ąĮąŠčüą░ą╝ąĖ ą▓ čēąĄą║ąĖ, ą┐ąŠč鹥čĆą╗ąĖčüčī ą╝ąŠčĆą┤ą░ą╝ąĖ ąŠ
ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ ąĖ ąĘą░ą▓ąĖą╗čÅą╗ąĖ čģą▓ąŠčüčéą░ą╝ąĖ. ą×ąĮąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ čĆčÅą┤ąŠą╝ čāąČąĄ čéčĆąĄčéąĖą╣ ą│ąŠą┤, ąĖ
č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠąĮ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘąĮą░ą╗ ą┐ąŠą▓ą░ą┤ą║ąĖ čŹčéąĖčģ ą┤ąŠą▒čĆąŠą┤čāčłąĮčŗčģ, ą▒ąĄąĘąĘą╗ąŠą▒ąĮčŗčģ ą║
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║čā čüąŠą▒ą░ą║, čćč鹊 ą▒čŗ čéą░ą╝ ąĮąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ, ąĮąŠ ą│ąŠč鹊ą▓čŗčģ ą┐čĆąĖąĘąĮą░čéčī ąĘą░
čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ą╗čÄą▒ąŠą│ąŠ, ą║č鹊 ą║ąŠčĆą╝ąĖčé ąĖ ą▒ąĄčĆąĄčé čü čüąŠą▒ąŠą╣ ąĮą░ ąĘą▓ąĄčĆčÅ. ąś č湥ą╝ ą▓čŗčłąĄ čā
ąĮąĖčģ ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīąĖ ą║ą░č湥čüčéą▓ą░, č鹥ą╝ ą▒ąĄąĘčĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąĄąĄ ąŠąĮąĖ, ą║č鹊 ąĖąĘ ą╗čÄą┤ąĄą╣ čüčéą░ąĮąĄčé
ą▓ąŠąČą░ą║ąŠą╝ čüčéą░ąĖ. ąÆąĮą░čćą░ą╗ąĄ čŹč鹊 ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ čłąŠą║ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĖ ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĄčēąĄ
ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčéčī ą║ čüč鹊ą╗čī ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą┤ą░ąČąĮąŠčüčéąĖ. ą×ąĮ ąŠčéą╗ąĖčćąĮąŠ ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗
ą┐čĆąĄą┤ą░ąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéčī čüą╗čāąČąĄą▒ąĮčŗčģ ą┐čüąŠą▓, č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ąōčĆąŠą╝ą░ ŌĆö č湥čĆąĮąŠą│ąŠ
č鹥čĆčīąĄčĆą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĘą░ą▒ąŠą╗ąĄą▓ą░ą╗, ąĄčüą╗ąĖ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĮą░ ą┤ąĄąĮčī ąĘą░ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓
ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą║ąĄ, ąŠčéą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ąĄčüčéčī ąĖ ą┐ąĖčéčī ą┤ąŠ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą┐ąŠą║ą░ ą▓ąĮąŠą▓čī ąĮąĄ
ą┐ąŠčćčāą▓čüčéą▓čāąĄčé ąĮą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ čģąŠąĘčÅą╣čüą║čāčÄ čĆčāą║čā. ąæčŗą╗ąŠ čéą░ą╣ąĮąŠąĄ ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąĖ
ą┐ąŠą│ąĖą▒‑č鹊 ąŠąĮ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą▓ąŠą╗ąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ ą┐ąŠą╗č鹊čĆą░ ą╝ąĄčüčÅčåą░ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ
ą┤ąŠą╝ą░, ą░ ąĪą░čłą░ ą▓čŗą▓ąĄą╗ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą│čāą╗čÅčéčī (č鹊ą│ą┤ą░ ąĄčēąĄ ąČąĖą╗ąĖ ą▓ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą╣
ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąĄ ąĮą░ ąźąĖą╝ą║ąŠą╝ą▒ąĖąĮą░č鹥) ąĖ ąĮąĄ čāą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ŌĆö ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ
ąōčĆąŠą╝ą░ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ ą║ąŠčé. ąÆčŗčĆą▓ą░ą╗ ą┐ąŠą▓ąŠą┤ąŠą║ ąĖąĘ čĆčāą║ ą┐ąŠą┤čĆąŠčüčéą║ą░, čĆą▓ą░ąĮčāą╗ č湥čĆąĄąĘ čāą╗ąĖčåčā
ąĖ čāą│ąŠą┤ąĖą╗ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠą╗ąĄčüą░ŌĆ”
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čüąČą░ą╗
ą║čāą╗ą░ą║ąĖ ąĖ čāčüąĖą╗ąĖąĄą╝ ą▓ąŠą╗ąĖ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ŌĆö ą┤ą░ą╗čīčłąĄ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ čüą╗čāčłą░čéčī
čćčāą▓čüčéą▓ą░, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĮąĖčéčī ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ čāąČąĄ ąŠą┐čÅčéčī ą┐čĆąĖą┐ą╗ąĄą╗ą░čüčī ą║ ąĪą░čłąĄ. ą×ąĮ
ą╝ąĄčģą░ąĮąĖčćąĮąŠ ą╗ą░čüą║ą░ą╗ ąĖ ą│ą╗ą░ą┤ąĖą╗ ą╗čÄą▒ąĖą╝čŗčģ čüąŠą▒ą░ą║, ąĖą│čĆą░ą╗ čü ąĮąĖą╝ąĖ, čéą░čüą║ą░čÅ ąĘą░
čģą▓ąŠčüčéčŗ ąĖ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░čÅ č鹥ą╝ čüą░ą╝čŗą╝ ą▓ąĄčüąĄą╗čŗą╣ ą▓ąĖąĘą│. ąÆ ąĘą░ą╝ą║ąĮčāč鹊ą╝ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ
ą▓ąŠą╗čīąĄčĆą░ ąŠąĮ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗čüčÅ, čüąŠą│čĆąĄą╗čüčÅ čüąŠą▒ą░čćčīąĖą╝ č鹥ą┐ą╗ąŠą╝ ąĖ ąĘą░ą▒čŗą╗
ą▒ąŠą╗čīąĮčāčÄ čüčéą░čĆčāčģčā ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą┤ąŠą╝ ąĮą░ ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ čāą╗ąĖčåąĄ. ąØąŠ čüč鹊ąĖą╗ąŠ ą▓čŗą╣čéąĖ ą▓ąŠ
ą┤ą▓ąŠčĆ ąĖ ąĘą░čéą▓ąŠčĆąĖčéčī ą┤ą▓ąĄčĆčī, ą║ą░ą║ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, ą▒čāą┤č鹊 ąĮą░ą▓ą░ąČą┤ąĄąĮąĖąĄ, ą▓ąĮąŠą▓čī
ą▓čüčéą░ą╗ą░ ą┤ąĄą▓čÅčéąĖčŹčéą░ąČąĮą░čÅ ą║ąŠčĆąŠą▒ą║ą░ čü ą║ą▓ą░ą┤čĆą░čéą░ą╝ąĖ čÅčĆą║ąĖčģ ąŠą║ąŠąĮ, ąĖ ą▓ą║čĆą░ą┤čćąĖą▓čŗą╣
čüčéą░čĆčāčłąĄčćąĖą╣ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą║ ą┐čĆąŠą┐ąĄą╗ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣:
ŌĆö ąÉ čćč鹊, ą▒ą░čéčÄčłą║ą░,
čéčÅąĮąĄčé ąĮą░ čŹč鹊 ą╝ąĄčüč鹊?ŌĆ”
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čāą╝ąĄą╗
ą▓ą╗ą░ą┤ąĄčéčī čüąŠą▒ąŠą╣, čüčćąĖčéą░ą╗ čüąĄą▒čÅ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čģą╗ą░ą┤ąĮąŠą║čĆąŠą▓ąĮčŗą╝, ą┐ąŠąĮčÅą╗, čćč鹊
čéą░ą║ąŠąĄ ąĮąĄą▓čĆą░čüč鹥ąĮąĖčÅ, ą│ą╗čÅą┤čÅ ąĮą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čüą╗ą░ą▒ąŠąĮąĄčĆą▓ąĮčŗčģ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖčå
ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéą░ ą┤ą░ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ čüą▓ąŠčÄ ąČąĄąĮčā, ąĖ ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ ą┐ąŠą┤ą┤ą░ą▓ą░čéčīčüčÅ
ąĖąĘą╗ąĖčłąĮąĖą╝ čćčāą▓čüčéą▓ą░ą╝, čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčŗą╝ ą▓ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čĆą░ąĘčĆčāčłąĖčéčī ą┐čüąĖčģąĖą║čā. ą×ąĮ
ą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ ą▓čüąĄ čŹčéąĖ ą┐ąŠą╗č鹊čĆą░ ą╝ąĄčüčÅčåą░, ąĘą░ąČąĖą╝ą░čÅ čüąĄą▒čÅ ą▓ ą║čāą╗ą░ą║, čģąŠčéčÅ
čäąĖąĘąĖč湥čüą║ąĖ ąŠčēčāčēą░ą╗, ą║ą░ą║ ą│ąŠčĆąĄ, ą▒čāą┤č鹊 ąĄą┤ą║ą░čÅ ą║ąĖčüą╗ąŠčéą░, čāąČąĄ ą┐ąŠčĆą░ąĘąĖą╗ąŠ ąĖ
ą░čéčĆąŠčäąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ čāčćą░čüč鹊ą║ ą╝ąŠąĘą│ą░, ąŠčéą▓ąĄčćą░čÄčēąĖą╣ ąĘą░ čüąĖą╗čā ą▓ąŠą╗ąĖ. ąś
ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ, čüčéą░čĆą░čÅčüčī ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą║ą░čüą░čéčīčüčÅ ą╝čŗčüą╗čīčÄ ą║
čüą╗čāčćąĖą▓čłąĄą╝čāčüčÅ, ąĖ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą┐ąŠą┤ąĄą╗ą░čéčī č鹊ą╗čīą║ąŠ čü ąĮąĄą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮčŗą╝
ą┐čĆąĖčéčÅąČąĄąĮąĖąĄą╝ ą║ ą┤ąŠą╝čā ąĮą░ ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ čāą╗ąĖčåąĄ. ąØąŠ ąĖ čŹč鹊 ą▒čŗ ąŠąĮ ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą╗,
ą┐ąĄčĆąĄą╝ąŠą╗ąŠą╗ ą▓ čüąĄą▒ąĄ ąĮąĄąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╝čŗąĄ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖčÅ, ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĄąĮąĮą░čÅ ą║ąŠčĆąŠčüčéą░
ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ ąŠčéą▓ą░ą╗ąĖą╗ą░čüčī ą▒čŗ čüą░ą╝ą░, ą┤ą░ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąĮąĄą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠ ąŠčéą║čāą┤ą░ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║čłą░čÅ
čüčéą░čĆčāčģą░ čüą║ąŠą▓čŗčĆąĮčāą╗ą░ ąĄąĄ čü čģąĖčĆčāčĆą│ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ąĄčüą┐ąŠčēą░ą┤ąĮąŠčüčéčīčÄ.
ą×ąĮ čüč鹊čÅą╗ ąĮą░
čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╝ąĄčüčéčīčÅ, č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ čćčāąČąŠą│ąŠ,
čüą╗čāčłą░ą╗ ą╗ą░ą╣ čüąŠą▒ą░ą║ ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆąĄ ąĖ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ąŠčēčāčēą░ą╗, ą▒čāą┤č鹊 ąĄą╝čā ąŠčéčĆčāą▒ąĖą╗ąĖ
ą┐čĆą░ą▓čāčÄ čĆčāą║čā: čćčāą▓čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ ą║ąĖčüčéčī, ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą╗ą░čüą║ą░ą▓čłą░čÅ čüąŠą▒ą░ą║,
ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąŠąĮąĄą╝ąĄą╗ą░, ąŠčćčāąČąĄą╗ą░, ą║ą░ą║ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé, ąĄčüą╗ąĖ ąŠčéą╗ąĄąČąĖčłčī ą▓ąŠ čüąĮąĄ.
ąĪč鹊čÅą╗, ą┤čāą╝ą░ą╗ ąĖ
ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą▓ą░ą╗čüčÅ čüąĄą▒ąĄ, čćč鹊 ą▓čüąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ čéą░ą║, čćč鹊 ąŠčé čüą┐ą░ąĮąĖąĄą╗čÅ ąĮąĄ ąŠąĮ ą┐čĆąĖčłąĄą╗
ą▓ ą▓ąŠčüč鹊čĆą│ ąĮą░ čāčéąĖąĮąŠą╣ ąŠčģąŠč鹥, ą░ ąĪą░čłą░, ąĖ čŹč鹊 ąŠąĮ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą║čāą┐ąĖčéčī čēąĄąĮą║ą░. ąś
ąŠąĮ ąČąĄ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓čŗąĮčāą┤ąĖą╗ ą▓ąĘčÅčéčī čā ąĄą│ąĄčĆčÅ č乊ą║čüč鹥čĆčīąĄčĆą░. ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ č鹊ą╗čīą║ąŠ
čĆą░ą┤ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĖčüčéčĆą░čüčéąĖčÄ čüčŗąĮą░ ą║ ąŠčģąŠč鹥 ąĖ ąČąĖą▓ąŠčéąĮčŗą╝, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā
ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüčćąĖčéą░ą╗, čćč鹊 ąĮą░ ąĪą░čłčā ą▒ąŠą╗čīčłąŠąĄ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖąĄ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé ąČąĄąĮą░ ąĖ čüčéą░čĆčłą░čÅ
ą┤ąŠčćčī, čćč鹊 ąŠąĮ ąĖąĘ‑ąĘą░ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮčŗčģ čĆą░ąĘčŖąĄąĘą┤ąŠą▓, ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ąŠą║ ą┤ą░ ąĖ čüą░ą╝ąŠą╣
čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ąŠčéčåą░ ą┐ąŠą╗čāčćą░ąĄčé ąČąĄąĮčüą║ąŠąĄ ą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░ąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĮą░čćąĖąĮą░čÅ čü ą┤ąĄčéčüą░ą┤ą░
ąĖ ą┤ąŠ čüčéą░čĆčłąĖčģ ą║ą╗ą░čüčüąŠą▓ čłą║ąŠą╗čŗ ąĄą│ąŠ ąŠą║čĆčāąČą░ą╗ąĖ ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ‑ą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░č鹥ą╗ąĖ,
ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ‑čāčćąĖč鹥ą╗čÅ ąĖ ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ‑čĆąĄą┐ąĄčéąĖč鹊čĆčŗ. ąś č鹥ą┐ąĄčĆčī č鹊, č湥ą╝ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĖą╗ąĖ
ąĄą│ąŠ, ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░ąĘą▒ą░ą▓ąĖčéčī ą╝čāąČčüą║ąĖą╝ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝, ą░ čćč鹊 ąĘą┤ąĄčüčī ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī
ą╗čāčćčłąĄ ąŠčģąŠčéčŗ, ą│ą┤ąĄ čćąĖčüč鹊 ą╝čāąČčüą║ąŠą╣ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓, ą│ą┤ąĄ čü ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ą▓ čĆčāą║ą░čģ
ąĮčāąČąĮąŠ ą┤ąŠą▒čŗčéčī ąĘą▓ąĄčĆčÅ? ąśčüą┐čŗčéą░čéčī čüčéčĆąĄčüčü, ąŠčēčāčéąĖčéčī ą░ą┤čĆąĄąĮą░ą╗ąĖąĮ ą▓ ą║čĆąŠą▓ąĖ,
ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░čéčī ą┐ąĄčĆąĄčłą░ą│ąĮčāčéčī č湥čĆąĄąĘ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čüčéčĆą░čģ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ ą╗ąĄčüąĮąŠą╣
ą║čĆąŠą╝ą║ąĄ ą╗ąĄąČąĖčé čĆą░ąĮąĄąĮčŗą╣ ąĘą▓ąĄčĆčī ąĖ ąĮą░ą┤ąŠ ąĖą┤čéąĖ ą┤ąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ąĄą│ąŠ, ą╗ąĄąĘčéčī ą▓
čüčāą╝ąĄčĆąĄčćąĮčŗąĄ ąĘą░čĆąŠčüą╗ąĖ ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąĖą║čĆčŗčéąĖčÅ ąĖ čüąŠą▒ą░ą║.
ąÆčüąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ čéą░ą║!
ąØąĄ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣, ą░ ąĪą░čłą░ čüčéčĆąĄą╗čÅą╗ č鹊ą│ą┤ą░ ą┐ąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÄ ąĖ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą┐ąŠą┤čĆą░ąĮą║ą░. ąŁč鹊
ąŠąĮ čĆą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖą┤čéąĖ ąĮą░ ą┤ąŠą▒ąŠčĆ, ąĖą▒ąŠ čā ąĮąĄą│ąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ ąĖ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ čĆą░ąĘ
čüą▓ąĄčéąĖą╗ąĖčüčī ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĖčüčéąĖąĮąĮčŗą╝ ą╝čāąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ąŠą│ąĮąĄą╝. ąś ąŠąĮąĖ ą▒čŗ ą┐ąŠčłą╗ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥,
ą┐ą╗ąĄč湊 ą║ ą┐ą╗ąĄčćčā ąĖą╗ąĖ čüą┐ąĖąĮą░ ą║ čüą┐ąĖąĮąĄ, ąĮąŠ ą▓ą╝ąĄčłą░ą╗čüčÅ ąźą░ą╝ąĘą░čé ŌĆö ąĮąĄ ą┐čāčüčéąĖą╗ ąĖ
čüą░ą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠčłąĄą╗. ąÜčĆąĖčćą░ą╗ ąĮą░ ą▓čüąĄ ą┐ąŠą╗ąĄ, ą│čĆčāą┤čīčÄ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐čāčéąĖ ąĖ ąĄčēąĄ
čüąŠą▓ąĄčüčéąĖą╗, ą╝ąŠą╗, čéčŗ ą║čāą┤ą░ čüčŗąĮą░ čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ č鹊ą╗ą║ą░ąĄčłčī? ąÉ ąĪą░čłčā ąĮčāąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ
ąĮą░čéą░čüą║ąĖą▓ą░čéčī ą┐ąŠ ą║čĆąŠą▓ą░ą▓ąŠą╝čā čüą╗ąĄą┤čā, ą║ą░ą║ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗčģ ą║ąŠą▒ąĄą╗čīą║ąŠą▓, č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĖąĮ
čĆą░ąĘ ą┤ą░čéčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąŠčéčĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ą┐ąŠ čĆą░ąĮąĄąĮąŠą╝čā ąĘą▓ąĄčĆčÄ, ąĖ ąŠąĮ ą▒čŗ čĆąŠą┤ąĖą╗čüčÅ
ą╝čāąČčćąĖąĮąŠą╣, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ą▒čŗ ąĮąĄ čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčīŌĆ”
ąÉ ą┐ąŠą║ą░ ąČą┤ą░ą╗ąĖ
ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░ čü čüąŠą▒ą░ą║ą░ą╝ąĖ, ąŠąĮ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠčĆąĄą╗, ąŠą▒ą▓čÅą╗, ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü, čģąŠčéčÅ čŹč鹊
ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ąĖ ą┤ąŠčüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ. ąś ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓čŗą┐ąĖą╗ čüąŠ ą▓čüąĄą╝ąĖ, ąĮąŠ čāąČąĄ
čüč鹥čüąĮčÅą╗čüčÅ ą┐ąŠąĘą┤čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣ čü ą┐ąŠą╗ąĄą╝, ą║čĆą░čüąĮąĄą╗, ą║ą░ą║ ą┤ąĄą▓ąĖčåą░, ąĖ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ
ą┤ąŠą▒čŗč鹊ą│ąŠ ąĘą▓ąĄčĆčÅ ąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╗ čüč鹊čĆąŠąĮąŠą╣. ąĪą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčģą▓ą░čéąĖą▓ ąĄą│ąŠ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĮąĄ čüąĄą╝ąĮą░ą┤čåą░čéąĖą╗ąĄčéąĮąĄą│ąŠ ą┐ą░čĆąĮčÅ, ą░ ą┐ąĄčĆąĄą┐čāą│ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ,
čĆą░čüč鹥čĆčÅąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ą░ą╗čīčćąĖčłą║čā čü ą▓ąŠą┐čĆąŠčüąŠą╝ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ŌĆö čćč鹊 čÅ ąĮą░čéą▓ąŠčĆąĖą╗?ŌĆ”
ąØąŠ ąĄčēąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░čüčī
ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ą░, ąĖą▒ąŠ ąĪą░čłąĄ ą┐ąŠąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ąĖčüčī ą╗ą░ą╣ą║ąĖ, ąĖ ąŠąĮ ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ ąĘą░ą│ąŠčĆąĄą╗čüčÅ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ
ąĮąĄ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ ąĮąĖ čüą╝ąĄą╗ąŠčüčéąĖ, ąĮąĖ ą╝čāąČąĄčüčéą▓ą░ čüą░ą╝ąŠą╝čā ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖčéčī ąĖčģ. ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣
ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗, čćč鹊 ą▓ąŠčé čéą░ą║, čüą▓ąŠąĄą╣ ą▓ą╗ą░čüčéčīčÄ ąĘą░ą▒ąĖčĆą░čéčī čā čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ą▓čŗą║ąŠčĆą╝ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ,
ą▓čŗą┐ąĄčüč鹊ą▓ą░ąĮąĮčŗčģ, ą║ č鹊ą╝čā ąČąĄ. č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ ą┤ąĄą╗ąĄ čüąŠą▒ą░ą║ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ąĮąĖ
ą┐ąŠ ą║ą░ą║ąĖą╝ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ą░ą╝ ąĖ ąĘą░ą║ąŠąĮą░ą╝. ą¤ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čģąŠč鹥ą╗ čüą┐ą░čüčéąĖ
ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, ąĖ čüčéą░ą╗ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤čā, ą╝ąŠą╗, ąĮąĄ ą┐ą╗ąŠčģąŠ ą▒čŗ čŹčéąĖčģ ą╗ą░ąĄą║
ą┐ąŠą┤ą░čĆąĖčéčī ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╝čā ąŠčģąŠčéąĮąĖą║čā, čćč鹊ą▒čŗ ąŠąĮ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ ąĖčüą┐čŗčéą░ą╗ ą╝ąĖą│ čüčćą░čüčéčīčÅ ąĖ
ąĮą░ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┐čĆąĖčüčéčĆą░čüčéąĖą╗čüčÅ ą║ ą╝čāąČčüą║ąŠą╝čā ąĘą░ąĮčÅčéąĖčÄ ŌĆö ą▓ ąŠą▒čēąĄą╝, ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮčŗąĄ, ąĮąĄ
ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮčŗąĄ čüą╗ąŠą▓ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘąĮąŠčüąĖą╗, ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą▒čŗčéčī čāą▒ąĄą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝.
ą×čģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ čüą╗čāčłą░ą╗ ąĖ ą╗ąĖčłčī ą╝ąŠčĆą│ą░ą╗, ąĮąĄ ąĘąĮą░čÅ, ą║ą░ą║ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčīčüčÅ ą║ čüč鹊ą╗čī
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą╣, ┬½ąĮąĄąĘą░ą║ąŠąĮąĮąŠą╣┬╗ ą┐čĆąŠčüčīą▒ąĄ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆą░, ąĖ čéčāčé ąŠą┐čÅčéčī ą▓ą╗ąĄąĘ
ąźą░ą╝ąĘą░čé. ą×č鹊ąĘą▓ą░ą╗ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠ, ą┐ąŠ‑ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčüą║ąĖ,
ą┤ąĄčüą║ą░čéčī, čćč鹊 ą│ąŠčüčéčÄ ą┐ąŠąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ąŠčüčī ŌĆö ą┐ąŠą┤ą░čĆąĖ, ą░ ąŠąĮ čāąČ ąŠčéą┤ą░čĆąĖčéčüčÅ, ąĮąĄ
ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčÅ. ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĖ ąŠčéą┤ą░čĆąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĘą░ ą║ąŠą▒ąĄą╗čīą║ąŠą▓ ą▓ąŠčé čāąČąĄ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠą┤ą░:
čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ąĮą░čłąĄą╗ čüą┐ąŠąĮčüąŠčĆą░ ąĖ ąĘą░čüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĄą│ąŠ čĆą░čüą║ąŠčłąĄą╗ąĖčéčīčüčÅ ąĮą░ ąĮąŠą▓čŗą╣ ┬½ąŻąÉąŚ┬╗
ą┤ą╗čÅ ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░, ą┐ąŠč鹊ą╝ ą┐čĆąĖą│ąĮą░ą╗ ąĄą╝čā ą║ąŠą╗ąĄčüąĮčŗą╣ čéčĆą░ą║č鹊čĆ. ąÉ čā ąŠčģąŠč鹊ą▓ąĄą┤ą░
ą░ą┐ą┐ąĄčéąĖčéčŗ ą╗ąĖčłčī čĆą░ąĘą│ąŠčĆą░čÄčéčüčÅ, ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĘą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗ čéčĆąĄą╗ąĄą▓ąŠčćąĮąĖą║ ąĖ ą┤ąĄą╗čÅąĮą║čā
čüčéčĆąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄčüą░, čćč鹊ą▒čŗ ąĘąĖą╝ąŠą╣, ą▓ ą╝ąĄąČčüąĄąĘąŠąĮčīąĄ, ą┐ąŠą┤ąĘą░čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ąĮą░ ą┐čĆąŠą┤ą░ąČąĄ
ą┤čĆąĄą▓ąĄčüąĖąĮčŗ ŌĆö ąĘą░čĆą┐ą╗ą░čéą░ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ą░čÅŌĆ”
ąöą░ ąĮą░ą┐ą╗ąĄą▓ą░čéčī ą▒čŗ
ąĮą░ ą▓čüąĄ, ą┐ąŠą╣ą┤ąĖ čŹčéąĖ čüąŠą▒ą░čćą║ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą╗čīąĘčā! ąØąĄ čüą┐ą░čüą╗ąĖ ąŠąĮąĖ ąĮąĖč湥ą│ąŠ, ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ
č鹊ą╣ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄąČčīąĄą╣ ąŠčģąŠčéčŗ ąĪą░čłą░ ąĘą░ą╝ą║ąĮčāą╗čüčÅ, ą┤ąŠą╗ą│ąŠ čģąŠą┤ąĖą╗ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖą▓čŗą╝, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝
ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐čĆąĖąĮąĄčü ąĖ čüą┤ą░ą╗ ąŠčéčåčā ą┤čĆąŠą▒ąŠą▓ąŠąĄ čĆčāąČčīąĄ ąĖ č湥čłčüą║ąĖą╣ ą║ą░čĆą░ą▒ąĖąĮ ┬½ąæčĆąĮąŠ┬╗,
ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ą┐ąŠą┤ą░čĆąŠą║ ąĖąĘ‑ąĘą░ čĆčāą▒ąĄąČą░. ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ą┤ąŠą▒ąĖčéčīčüčÅ
ą║ą░ą║ąĖčģ‑ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĄąĮąĖą╣, ą┤ąŠčüčéčāčćą░čéčīčüčÅ, ą░ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čā
ąĮąĖčģ ą▓ ą┤ąŠą╝ąĄ čüčéą░ą╗ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ąĮą░ ą▓ąĄčüčī ą╝ąĖčĆ čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆ ąÉą╗.
ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓, 菹┤ą░ą║ąĖą╣ ą▓ą░ą╗čīčÅąČąĮčŗą╣, čāčüą░čéčŗą╣ ą║ąŠčéčÅčĆą░‑ą▒ą░čĆąĖąĮ. ąÆą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ąĄ ąŠąĮ
ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ čü ą│čĆčāą┐ą┐ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║ąĖ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖąĘą▒ąĖčĆą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ
ą┐čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčéą░ ŌĆö ą┐ąŠą┤čĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ čüąĖą╗ąŠą╣ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čéą░ą╗ą░ąĮčéą░ ą┐čĆąŠą┐ąĖčģąĮčāčéčī ąĄą│ąŠ ąĮą░
ą▓čŗčüčłąĖą╣ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠčüčé ąĖ, ąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗čüčÅ
ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆčā. ąŚą░ąŠčćąĮąŠ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĘąĮą░ą╗ čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆą░, ą║ą░ą║ ąŠą▒ą╗čāą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ, ąĖ ąĮąĄ
č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠ čćą░čüčéąĖ č鹥ą░čéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣: ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ąČąĄąĮą░ ąĘą░ą║ą░ąĮčćąĖą▓ą░ą╗ą░ čā ąĮąĄą│ąŠ ąÆčŗčüčłąĖąĄ
čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆčüą║ąĖąĄ ą║čāčĆčüčŗ ą┐čĆąĖ ąÆąōąśąÜąĄ ąĖ ąĮą░ ą▓čüčÄ ąČąĖąĘąĮčī ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ą▓ąŠčüč鹊čƹȹĄąĮąĮąŠą╣
ą┐ąŠą║ą╗ąŠąĮąĮąĖčåąĄą╣.
ąĀą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ąÉą╗.
ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖą│ą╗ą░čłąĄąĮ ą▓ ą┤ąŠą╝, ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą╗ čüąĖą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ą┐ąĄčćą░čéą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┤ąĄč鹥ą╣,
ąĖ ąĄčēąĄ č鹊ą│ą┤ą░ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ ą╝ąĖą╝ąŠčģąŠą┤ąŠą╝, čćč鹊 ąŠčģąŠčéą░ ąĮą░ ą┐čéąĖčå ąĖ
ąĘą▓ąĄčĆąĄą╣ ŌĆö čŹč鹊 ą┐ą╗ąŠčģąŠ ąĖ ą┐čĆąĖ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą┐ąŠčģąŠąČąĄ ąĮą░
čāą▒ąĖą╣čüčéą▓ąŠ, ą░ čāčüčéčĆą░ąĖą▓ą░čéčī čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖčÅ, čāą▒ąĖą▓ą░čÅ, ŌĆö čŹč鹊 ąĮąĄčüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╝ąŠ čü
ą┐ąŠąĮčÅčéąĖąĄą╝ ą│čāą╝ą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ. ąŻ čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆą░ ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą░ąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮčŗčģ č鹥ąŠčĆąĖą╣, ąĮą░
ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ č鹊ą│ą┤ą░ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čēą░ą╗ ąŠčüąŠą▒ąŠą│ąŠ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ, ąŠčéąĮąŠčüčÅ ąĖčģ ą║
ą┤ąČąĄąĮčéą╗čīą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╝čā ąĮą░ą▒ąŠčĆčā čüą▓ąĄčéčüą║ąŠą│ąŠ ą╗čīą▓ą░. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąČąĄąĮą░ ąĖą╝ąĄą╗ą░ ąĖąĮąŠąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ
ąĖ, ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą║ą░ą┐ą░čéčī ąĮą░ ą╝ąŠąĘą│ąĖ ąĪą░čłąĖ. ąŻ ąĮąĄąĄ ą▓ č鹥 ą┤ąĮąĖ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ
ąĘą░ą╝čŗčüąĄą╗ ┬½ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖčéčī┬╗ ąĄą│ąŠ ąĮą░ ą░ą║č鹥čĆčüą║ąĖą╣ čäą░ą║čāą╗čīč鹥čé ąĖ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą▓
čüąĄą╝ąĖąĮą░čĆ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ąÉą╗. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ą░. ą×ąĮą░ ą▒čŗ ąĖ ą┤ąŠčćą║čā čāčüčéčĆąŠąĖą╗ą░ čéčāą┤ą░ ąČąĄ, ąĮąŠ
ą£ą░čłą░ čāąČąĄ ąĘą░ą║ą░ąĮčćąĖą▓ą░ą╗ą░ čÄčĆąĖą┤ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čäą░ą║čāą╗čīč鹥čé ą▓ ą╝ąĄčüčéąĮąŠą╝ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥č鹥 ąĖ
čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ą░čüčī čāąĄąĘąČą░čéčī ą║ ą╝čāąČčā ą▓ ążąĖąĮą╗čÅąĮą┤ąĖčÄ.
ąś ą▓ąŠčé ą║ąŠą│ą┤ą░
ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░čéčī, ąÉą╗. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą▓ąŠčüą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĖą╗čüčÅ ąĖ
ąĮą░čćą░ą╗ ąĖčüą║ą░čéčī ą║ąŠą╝ą┐čĆąŠą╝ąĖčüčüąĮčŗąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ, ą║ą░ą║ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ąĖąĘ ąĪą░čłąĖ ą░ą║č鹥čĆą░.
ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ čüą▓ąŠčÄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī, ą▒ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ čüą▓ąĄčéčüą║ąŠčüčéčī, ąČąĄąĮą░
čéą░ą║ ąĖ ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ąĮąĄąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĖą╝ąŠą╣ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖą░ą╗ą║ąŠą╣ ąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ą▓ąĘčÅčéčī ą▓
č鹊ą╗ą║, čćč鹊 ą▓čüąĄ čŹčéąĖ čüč鹊ą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ┬½čłčéčāčćą║ąĖ┬╗ čģąŠčĆąŠčłąĖ ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą┤čāčłąĮčŗ, ą║ąŠą│ą┤ą░
čüąĖą┤čÅčé čā č鹥ą▒čÅ ą▓ ą│ąŠčüčéčÅčģ ąĖ ą┐čīčÄčé ą▓ąŠą┤ą║čā. ąØąŠ čüč鹊ąĖčé ą╗ąĖčłčī ą┤ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ąĮąĄą║ąĖąĄ
ą░ą▒čüčéčĆą░ą║čéąĮčŗąĄ ąĮąĄčāą┤ąŠą▒čüčéą▓ą░ ą▓ ąĖčģ ąČąĖąĘąĮąĖ, č湥ą╝‑č鹊 ą┐ąŠčéčĆąĄą▓ąŠąČąĖčéčī ąĄąĄ ąĖą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ
ąĮą░čĆąĖčüąŠą▓ą░čéčī čéčĆąĄą▓ąŠą│čā ą▓ ą┐ąĄčĆčüą┐ąĄą║čéąĖą▓ąĄ, ą║ą░ą║ ąŠąĮąĖ čéčāčé ąČąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčé ąĖąĘčāčćą░čéčī
ą╝ąĄčüčéąĮčŗąĄ čĆąĄąĘąĄčĆą▓čŗ. ąś ą▓ąŠčé čü ą╗ąĄą│ą║ąŠą╣ čĆčāą║ąĖ ąÉą╗. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ą░ ąĖ ą┐čĆąĖ 菹ĮąĄčĆą│ąĖčćąĮąŠą╝
čüąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĖ ąČąĄąĮčŗ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮ ą▒čŗą╗ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą░čåąĖąĄą╣ čüčéčāą┤ąĖąĖ
ą┐čĆąĖ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĮąŠą╝ ą┤čĆą░ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąŠą╝ č鹥ą░čéčĆąĄ, ą║čāą┤ą░ ąĪą░čłčā ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖ ąĮą░ čāč湥ą▒čā.
ąĪ čŹč鹊ą│ąŠ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ ąĖ
ąĮą░čćą░ą╗čüčÅ ą┤ą▓čāčģą╗ąĄčéąĮąĖą╣ ą┐čāčéčī ąĮą░ ą║čĆčŗčłčā ą┤ąŠą╝ą░ ą┐ąŠ ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ čāą╗ąĖčåąĄ.
ąĪą░ą╝čŗčģ čĆą░ąĘąĮčŗčģ
ą▓ąĄčĆčüąĖą╣ ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčĆąĄč湥ą▓čŗčģ čüą╗čāčģąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠč湥ąĮčī ą╝ąĮąŠą│ąŠ, ą▓ą┐čĆąŠč湥ą╝, ą║ą░ą║
ąŠą▒ą▓ąĖąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čéą░ą║ ąĖ ąĘą░čēąĖčéąĮąĖą║ąŠą▓, ąĮąŠ čéą░ą║ ąĮąĖą║č鹊 č鹊ą╗ą║ąŠą╝ ąĖ ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗, ą┐ąŠč湥ą╝čā
ąĪą░čłą░ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ąĮą░ ą┤ąĄą▓čÅčéąĖčŹčéą░ąČą║čā ąĖ ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą▓ąĮąĖąĘ ąĮą░
ąČąĄą╗ąĄąĘąŠą▒ąĄč鹊ąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠąĘčŗčĆąĄą║ ą┐ąŠą┤čŖąĄąĘą┤ą░, ąĘą░čĆą░ąĮąĄąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą▓ ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ ą║ąŠčĆąŠčéą║čāčÄ
ąĘą░ą┐ąĖčüą║čā: ┬½ą» čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąŠ čĆąŠą┤ąĖą╗čüčÅ, čćč鹊ą▒ ąČąĖčéčī čü ą▓ą░ą╝ąĖ, ą╗čÄą┤ąĖ┬╗.
ąöą╗čÅ ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ ąĮąĄ
čüčāčēąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐čĆą░ą▓ą┤ąŠą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą╣ ą▓ąĄčĆčüąĖąĖ, ą║ą░ą║ ą▒čŗ ąĄą│ąŠ ąĮąĖ čāą▓ąĄčĆčÅą╗
ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą║čāčĆąŠčĆ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ąŠą╝ ąŻąÆąö, čćč鹊 čéčāčé ąĄčēąĄ ąĮčāąČąĮąŠ
čĆą░ąĘąŠą▒čĆą░čéčīčüčÅ, ąĮąĄ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąŠ, ąĪą░čłčā č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ąĖ čü ą║čĆčŗčłąĖ, ąĖą╝ąĖčéąĖčĆčāčÅ
čüą░ą╝ąŠčāą▒ąĖą╣čüčéą▓ąŠ, čü čåąĄą╗čīčÄ ąŠą┐ąŠčĆąŠčćąĖčéčī ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓čŗą▒ąŠčĆą░ą╝ąĖ ąĮą░ čéčĆąĄčéąĖą╣
čüčĆąŠą║.
ąś ą┐čĆą░ą▓ą┤ą░,
ąŠą┐ąŠčĆąŠčćąĖą╗ąĖ. ąĪčŗąĮ ą┐ąŠą│ąĖą▒ ąĘą░ ąĮąĄą┤ąĄą╗čÄ ą┤ąŠ ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąĖ čüčĆą░ąĘčā
čĆąĄąĘą║ąŠ čāą┐ą░ą╗ čĆąĄą╣čéąĖąĮą│ ą┐ąŠą┐čāą╗čÅčĆąĮąŠčüčéąĖ, ą░ ąČčāčĆąĮą░ą╗ąĖčüčéčŗ čüąŠą▒ą░čćčīąĖą╝ čćčāčéčīąĄą╝
ą┐ąŠčćčāčÅą╗ąĖ čĆą░ąĮąĄąĮąŠą│ąŠ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĄą│ąŠ ą║čĆąŠą▓ą░ą▓čŗą╣ čüą╗ąĄą┤ ąĘą▓ąĄčĆčÅ, ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ
ąĘą░ą║čĆčāčéąĖą╗ąĖ ą▓ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ąĄ ą╝ąĮąĄąĮąĖą╣ ąĖ čüčāąČą┤ąĄąĮąĖą╣. ąóąŠą│ą┤ą░ ąÜčĆčÄą║ąŠą▓ čģą╗ą░ą┤ąĮąŠą║čĆąŠą▓ąĮąŠ
ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ąĖ ą┤ąŠą▒čĆą░ą╗ ąĄą│ąŠ ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ą╗ą░čÄčēąĖčģ ą│ą░ąĘąĄčéąĮčŗčģ ą┐čüąŠą▓.
ą£ąĄčüčéąĮąŠąĄ ążąĪąæ
ą┐čĆąŠąĘčĆą░čćąĮąŠ ąĮą░ą╝ąĄą║ą░ą╗ąŠ, čćč鹊 ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąŠą┤ąĮąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ čāą▓ą╗ąĄą║čüčÅ
čüą░čéą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą╝ ąĖ ą▒ą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮą░čĆą║ąŠčéąĖą║ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▓ čüčéčāą┤ąĖąĖ ą┐čĆąĖ
ą┤čĆą░ą╝č鹥ą░čéčĆąĄ čüąŠą▒čĆą░ą╗ą░čüčī ąĮąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČąĮą░čÅ čéą░ą╗ą░ąĮčéą╗ąĖą▓ą░čÅ čŹą╗ąĖčéą░, ą░ ą▓čüčÅą║ą░čÅ
ąŠą║ąŠą╗ąŠč鹥ą░čéčĆą░ą╗čīąĮą░čÅ čłčāčłąĄčĆą░, č鹊čćąĮąĄąĄ, ą┤ąĄčéąĖ čŹč鹊ą╣ čłčāčłąĄčĆčŗ ŌĆö ą░ą║č鹥čĆąŠą▓, ą░ą║čéčĆąĖčü,
ąĮąĄ čüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĖčģčüčÅ čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆąŠą▓ ąĖ ą┐čĆąŠčćąĖčģ ąĮąĄą┐čĆąĖąĘąĮą░ąĮąĮčŗčģ ą│ąĄąĮąĖąĄą▓, ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝
ą┐ą╗ą░č湥čé ą┐čüąĖčģčāčłą║ą░, ąĖ čćč鹊 ą▓ čéą░ą║ąŠą╣ čüčĆąĄą┤ąĄ ąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čŗą╣ ą┐ą░čĆąĄąĮčī ąĖ ąĘą░
ą│ąŠą┤ čüąŠą╣ą┤ąĄčé čü čāą╝ą░. ąÉ ą┐ąĄą┤ą░ą│ąŠą│ąĖ, ą┐ąŠą┤ąŠą▒čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąÉą╗. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓čŗą╝ ąĖ
ą┐čĆąĖąĄąĘąČą░čÄčēąĖąĄ ąĖąĘ ą£ąŠčüą║ą▓čŗ čćąĖčéą░čéčī ą╗ąĄą║čåąĖąĖ ąĖ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčī 菹║ąĘą░ą╝ąĄąĮčŗ, ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ
ą┐ąŠą┤čéčÅą│ąĖą▓ą░čÅ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čüčéčāą┤ąĄąĮč鹊ą▓ ą┤ąŠ čāčĆąŠą▓ąĮčÅ čüč鹊ą╗ąĖčćąĮčŗčģ, ąĮąĄčüčāčé ąĖą╝
ą▓čüčÅą║čāčÄ ąĄčĆąĄčüčī, ąŠčĆąĖąĄąĮčéąĖčĆčāčÄčé ąĮą░ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗąĄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą┐čĆąŠą┐ąŠą▓ąĄą┤čāčÄčé čéą░ą║čāčÄ
čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čā ą╗ąĖčćąĮąŠčüčéąĖ: ą╝ąŠą╗, č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐čĆą░ą▓ąŠ ą┐ąŠą║ąŠąĮčćąĖčéčī čü čüąŠą▒ąŠą╣, ąĄčüą╗ąĖ
č鹊ą│ąŠ ąĘą░čģąŠč湥čé. ąś ąĄčüą╗ąĖ ąŠąĮ, ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣, čüąŠą╝ąĮąĄą▓ą░ąĄčéčüčÅ ą▓ čŹč鹊ą╝, č鹊 ąĄą╝čā ą╝ąŠąČąĮąŠ
ą┤ą░čéčī ą┐ąŠčüą╗čāčłą░čéčī ąŠą┐ąĄčĆą░čéąĖą▓ąĮčāčÄ ąĘą░ą┐ąĖčüčī ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą╣ ą╗ąĄą║čåąĖąĖ.
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣
čüąŠą│ą╗ą░čłą░ą╗čüčÅ ąĖ čü ąĘą░ą║ąŠąĮąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, ąĖ čüąŠ čüą╗čāąČą▒ąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ, ąĮąŠ ąĮąĖą║ąŠą╝čā ąĮąĄ
ą▓ąĄčĆąĖą╗ ąĖ ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąČą░ą╗ąĄą╗ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╗ ąźą░ą╝ąĘą░čéą░ ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąĄą╗ ąĪą░čłčā
ąĮą░ čĆą░ąĮąĄąĮąŠą│ąŠ čģąĖčēąĮąĖą║ą░.
ą×ąĮ čüąĮčÅą╗ ą║ąĄą┐ą║čā,
čüąŠą▒čĆą░ą╗ čü ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣ ą║čĆčŗčłąĖ ą▓ąŠą╗čīąĄčĆą░ ą╝ąŠą║čĆčŗąĄ čüąĮąĄąČąĮčŗąĄ ą║čĆąŠčģąĖ, čĆą░čüč鹥čĆ ą╗ąĖčåąŠ,
ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĖ ą▓čüčéčĆčÅčģąĮčāą╗čüčÅ. ąöąĄą▓čÅčéąĖčŹčéą░ąČą║čā ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ čüąŠ
ą┤ą▓ąŠčĆą░, ąĮąŠ ą┤čĆčāą│čāčÄ, ą┐čĆąŠą╗ąĄčéą░čĆčüą║čāčÄ, ą║čĆčāą┐ąĮąŠą▒ą╗ąŠčćąĮčāčÄ ąĖ ą▓ ąĘą░čĆąĄčćąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ
ą│ąŠčĆąŠą┤ą░, čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠčģąŠąČčāčÄ ąĮą░ čéčā, čćč鹊 čüč鹊čÅą╗ą░ ąĮą░ ą║ąĖčĆą┐ąĖčćąĮąŠą╣ ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣
čāą╗ąĖčåąĄ. ąś ąĮąĖą║ą░ą║ąĖčģ čüčāą╝ą░čüčłąĄą┤čłąĖčģ čüčéą░čĆčāčģ ąĘą┤ąĄčüčī ąĮąĄčé ąĖ ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé!
ąĪčéąĖčüąĮčāą▓ ą║čāą╗ą░ą║ąĖ ąĖ
ąĘčāą▒čŗ, ąŠąĮ ą┐ąŠčłąĄą╗ ą║ ą┤ąŠą╝čā ąĖ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĮą░ ą┐ą░čĆą░ą┤ąĮąŠą╝ ą║čĆčŗą╗čīčåąĄ ąČąĄąĮčā. ąÜą░čéčÅ ą▒čŗą╗ą░
čéąĖčģą░čÅ, čéčĆąĄąĘą▓ą░čÅ, čü čćąĖčüčéčŗą╝, ąĮąĄ ąĘą░ą┐ą╗ą░ą║ą░ąĮąĮčŗą╝ ą╗ąĖčåąŠą╝ ąĖ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝
ąĮąĄąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą╝ ŌĆö ą┤čŗą╝čÅčēąĄą╣čüčÅ čüąĖą│ą░čĆąĄč鹊ą╣ ą╝ąĄąČą┤čā
ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗčģ, č鹊ąĮą║ąĖčģ ą┐ą░ą╗čīčåąĄą▓.
ŌĆö ą¦č鹊 čéčŗ
ą▒čĆąŠą┤ąĖčłčī? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ą░ ą║ą░ą║ ąĮąĖ ą▓ č湥ą╝ ąĮąĄ ą▒čŗą▓ą░ą╗ąŠ. ŌĆö ąśą┤ąĖ ą┤ąŠą╝ąŠą╣.
ŌĆö ą£ą░čłąĄ ąĘą▓ąŠąĮąĖą╗ą░? ŌĆö
ą×ąĮ čüąĄą╗ ąĮą░ ą╝ąŠą║čĆčŗąĄ čüčéčāą┐ąĄąĮąĖ.
ŌĆö ą×ąĮą░ ąĘą▓ąŠąĮąĖą╗ą░
čüą░ą╝ą░ŌĆ”
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąŠčéąĮčÅą╗
čüąĖą│ą░čĆąĄčéčā čā ąČąĄąĮčŗ, ąĘą░čéčÅąĮčāą╗čüčÅ ąĖ čłą▓čŗčĆąĮčāą╗ ą▓ ą╗čāąČčā.
ŌĆö ąŻ ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄ ą▓
ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ?
ŌĆö ąÜą░ą║ąŠą╣ čéą░ą╝
ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║, ąĄčüą╗ąĖ ą┐ąŠą│ąĖą▒ ą▒čĆą░čé? ŌĆö ąÆ ą│ąŠą╗ąŠčüąĄ ąČąĄąĮčŗ čüčĆą░ąĘčā ą┐ąŠčüą╗čŗčłą░ą╗ąĖčüčī čüą╗ąĄąĘčŗ ąĖ,
ą┐ąŠąČą░ą╗čāą╣, ą▓ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ąĘą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠąĮ ą┐ąŠčćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ą║ ąĮąĄą╣ ąČą░ą╗ąŠčüčéčī.
ąöąŠčćčī ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą║
ą╝čāąČčā ą▓ ąÜąŠčāą▓ąŠą╗čā čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ąĮą░čüąĖą╗čīąĮąŠ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ąŠčģąŠčĆąŠąĮ ąĪą░čłąĖ ąŠąĮąĖ čü ąČąĄąĮąŠą╣
čĆąĄą▓ąĄą╗ąĖ čü čāčéčĆą░ ą┤ąŠ ąĮąŠčćąĖ, ą▒ąĄčüą┐čĆąĄčüčéą░ąĮąĮąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤čÅ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░, ąĖ čŹč鹊čé
čéčĆą░čāčĆąĮčŗą╣ čéą░ąĮą┤ąĄą╝ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī čĆą░ąĘąŠčĆą▓ą░čéčī ąĮą░ čéčĆąĄčéčīąĖ čüčāčéą║ąĖ, čćč鹊ą▒ ąĮąĄ čüąŠčłą╗ąĖ čü
čāą╝ą░. ąÆąŠąĘą╗ąĄ ┬½ą│ąŠčĆčÅč湥ą│ąŠ┬╗ čäąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ą░čĆąĮčÅ čüąŠ čüą╗ąŠąĮąŠą▓čīąĖą╝ čüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčéą▓ąĖąĄą╝ ą£ą░čłąĄ
ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ą╗čāčćčłąĄ, č湥ą╝ čü ą╝ą░č鹥čĆčīčÄ‑ąĮąĄą▓čĆą░čüč鹥ąĮąĖčćą║ąŠą╣.
ŌĆö ąöą░ą▓ą░ą╣
ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮąĖą╝, ŌĆö ą╝ąĖčĆąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ ąĖ ą┐čĆąĖąĮąĄčü ąĖąĘ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╣ č鹥ą╗ąĄč乊ąĮąĮčāčÄ
čéčĆčāą▒ą║čā.
ŌĆö ąŚą░č湥ą╝? ąóą░ą╝ čāąČąĄ
ąĮąŠčćčī!
ŌĆö ą£ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊
čģąŠč湥čéčüčÅ ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī čü ąĮąĄą╣.
ŌĆö ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą£ą░čłą░
čāčüąĮčāą╗ą░. ąØąĄ ąĮčāąČąĮąŠ ą▒čāą┤ąĖčéčī ąĖ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čéčī!
ŌĆö ąóąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆčÄ
čü ąÉčĆą▓ąĖąĄą╝.
ŌĆö ąóčŗ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ
čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ čü ąĮąĖą╝ŌĆ”
ŌĆö ąÉ čüąĄą╣čćą░čü
čģąŠčćčā! ŌĆö ąĮąĄ čüą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ ąŠąĮ:
ŌĆö ąóčŗ čćč鹊,
ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ąĄčłčī ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī čü ąĘčÅč鹥ą╝?
ŌĆö ąØąĄ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░čÄ,
ą┐ąŠąČą░ą╗čāą╣čüčéą░, ŌĆö ąÜą░čéčÅ čāąČąĄ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ąĮą░ čüą╗ąĄąĘčŗ. ŌĆö ąØąŠ ąŠąĮ ąĮąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé
ą┐ąŠ‑čĆčāčüčüą║ąĖ!
ąŚčÅčéčī
ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĖą░ą╗čīąĮąŠ ąĮąĄ čāčćąĖą╗ čÅąĘčŗą║ą░, ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĮąĖ čüą╗ąŠą▓ą░, čģąŠčéčÅ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠą┤ą░
ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ ą▓ ą│ąŠčüčéąĖ, čüąĖą┤ąĄą╗, ą║ą░ą║
čćčāčĆą║ą░, čģą╗ąŠą┐ą░čÅ ąŠčüč鹥ą║ą╗ąĄąĮąĄą▓čłąĖą╝ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ. ąØąŠ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą╗ąĄą│ą║ąŠąĄ
ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąÉčĆą▓ąĖą╣ ą╝ąĮąŠą│ąŠąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčé ąĖ čģąĖčéčĆąĖčé, ą┐čĆąĖą║ąĖą┤čŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊ą▒čŗ
ą┐ąŠčüą╗čāčłą░čéčī, ą║ą░ą║ ąŠ ąĮąĄą╝ ą▒čāą┤čāčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą▓ čüąĄą╝čīąĄ ą£ą░čłąĖ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĄąĄ
ą▓čŗčüąŠą║ąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ąŠč鹥čå, ąĖą▒ąŠ čüč鹊ąĖą╗ąŠ ąĄą╝čā ąŠčéą║čĆčŗčéčī čĆąŠčé, ą║ą░ą║ ąĘčÅčéčī
ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ ą┐čĆąĖčüą╗čāčłąĖą▓ą░čéčīčüčÅ.
ŌĆö ąŻčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčÅ! ŌĆö
ą▒čāčĆą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ. ŌĆö ąŚą▓ąŠąĮąĖčéčī ąĮąĄ ą▒čāą┤ąĄą╝.
ŌĆö ą¤ąŠą│ąŠą┤ąĖ! ŌĆö
čüą┐ąŠčģą▓ą░čéąĖą╗ą░čüčī ąÜą░čéčÅ. ŌĆö ą¤ąŠč湥ą╝čā č鹥ą▒ąĄ ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐čĆąĖčüą┐ąĖčćąĖą╗ąŠ ąĘą▓ąŠąĮąĖčéčī? ąóčŗ
čćč鹊‑ąĮąĖą▒čāą┤čī čüą╗čŗčłą░ą╗? ąŚąĮą░ąĄčłčī?
ąŻ ąĮąĄą│ąŠ čāąČąĄ ąĮąĄ
ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░čüčéčĆąŠąĄąĮąĖčÅ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░čéčī ąĄą╣ ąŠ ąĮąĄąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮąŠą╣ čüčéą░čĆčāčģąĄ, čģąŠčéčÅ ąĮą░
ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąĘą░čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą┤ąĄą╗ąĖčéčīčüčÅ čü ąČąĄąĮąŠą╣ ąĖ ąŠą▒čüčāą┤ąĖčéčī, ą┐ąŠč湥ą╝čā
čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ ąĄą╝čā ą╝ą░ą╗ąŠą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗąĄ ąĖ čüčéčĆą░čłąĮčŗąĄ
ąŠą▒ą▓ąĖąĮąĄąĮąĖčÅ.
ŌĆö ąØąĖč湥ą│ąŠ čÅ ąĮąĄ
čüą╗čŗčłą░ą╗, ŌĆö ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣. ŌĆö ą¤ąŠą╣ą┤ąĄą╝ čāąČąĖąĮą░čéčī, ą▓čŗą┐čīąĄą╝ ą┐ąŠ čĆčÄą╝ą║ąĄŌĆ”
ŌĆö ąóąŠą╗čÅ, čéčŗ čćč鹊‑č鹊
ąĮąĄ ą┤ąŠą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ąĄčłčī! ą× č湥ą╝ čéčŗ čģąŠč鹥ą╗ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī čü ą£ą░čłąĄą╣?
ŌĆö ąöą░ ąĮąĖ ąŠ č湥ą╝!
ŌĆö ąóąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠč湥ą╝čā
čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ąĄčłčī, ą▓čüąĄ ą╗ąĖ ą▓ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ? ąŻ ąĮąĄąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čćč鹊‑č鹊 čüą╗čāčćąĖčéčīčüčÅ?
ŌĆö ąØčā čü č湥ą│ąŠ čéčŗ
ą▓ąĘčÅą╗ą░?! ąĪ č湥ą│ąŠ?
ą×ąĮą░ ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗ą░
č鹥ą║čüč鹊ą╝ ąĖąĘ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą┐čīąĄčüčŗ:
ŌĆö ą£ą░č鹥čĆąĖąĮčüą║ąŠąĄ
čüąĄčĆą┤čåąĄ ąĮąĄ ąŠą▒ą╝ą░ąĮąĄčłčīŌĆ”
ŌĆö ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąĮą░
ąĪąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮąŠą╣ ą┐ąŠą┤ąŠčłą╗ą░ ą║ą░ą║ą░čÅ‑č鹊 čüčéą░čĆčāčģą░, ŌĆö ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ
ąŠąĮ. ŌĆö ąś ąĮą░ą┐čĆąŠčĆąŠčćąĖą╗ą░ŌĆ” ąÆ ąŠą▒čēąĄą╝, ą▓čüąĄ čŹč鹊 ąĄčĆčāąĮą┤ą░.
ŌĆö ą¤ąŠčüč鹊ą╣, čćč鹊 ąŠąĮą░
ąĮą░ą┐čĆąŠčĆąŠčćąĖą╗ą░?
ŌĆö ąöą░ ąŠąĮą░ ą▒ąŠą╗čīąĮą░čÅ,
čüčāą╝ą░čüčłąĄą┤čłą░čÅ! ąØąĄ čüč鹊ąĖčé ąŠą▒čĆą░čēą░čéčī ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅŌĆ”
ŌĆö ąŚą░ąĖą║ąĮčāą╗čüčÅ ŌĆö
ą┤ąŠčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╣! ą¦č鹊 čéčŗ čüą║čĆčŗą▓ą░ąĄčłčī ąŠčé ą╝ąĄąĮčÅ? ą× ą£ą░čłąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ą░?
ŌĆö ąØą░ą╝ ąĮčāąČąĮąŠ
ą▒ąĄčĆąĄčćčī ąĄąĄŌĆ”
ŌĆö ą×čé č湥ą│ąŠ?
ŌĆö ąóąŠą╗ą║ąŠą╝ ąĮąĄ
ą┐ąŠąĮčÅą╗. ąØąĄčüą╗ą░ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą▒čĆąĄą┤ŌĆ”
ŌĆö ąØą░ą╣ą┤ąĖ čŹčéčā
čüčéą░čĆčāčģčā ąĖ čüą┐čĆąŠčüąĖ! ąØąĄčāąČąĄą╗ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčłčī, ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą▓ą░ąČąĮąŠ?
ŌĆö ąźąŠčĆąŠčłąŠ, ąĮą░ą╣ą┤čā ąĖ
čüą┐čĆąŠčłčā! ŌĆö čĆą░čüčüąĄčĆą┤ąĖą╗čüčÅ ąŠąĮ. ŌĆö ąźą▓ą░čéąĖčé ąŠą▒ čŹč鹊ą╝!
ŌĆö ą¤ąŠč湥ą╝čā čéčŗ ąĮą░
ą╝ąĮąĄ čüčĆčŗą▓ą░ąĄčłčī ąĘą╗ąŠ? ą¤ąŠč湥ą╝čā ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║čĆąĖčćąĖčłčī ąĮą░ ą╝ąĄąĮčÅ?
ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣
ą┐čĆąŠą╝ąŠą╗čćą░ą╗, ą░ ąÜą░čéčÅ ą▓ąĮąŠą▓čī čüčéą░ą╗ą░ ą┐ą╗ą░ą║čüąĖą▓ąŠą╣ ąĖ ąČą░ą╗ą║ąŠą╣.
ŌĆö ą» č鹥ą┐ąĄčĆčī čüčéą░ąĮčā
ą┤čāą╝ą░čéčī ąŠ čéą▓ąŠąĖčģ čüą╗ąŠą▓ą░čģŌĆ” ąÜą░ą║ ą▒čŗ čü ą£ą░čłąĄą╣ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī.
ŌĆö ąöčāą╝ą░ą╣! ŌĆö ą▒čĆąŠčüąĖą╗
ąŠąĮ, ąŠčéą▓ąŠčĆčÅčÅ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ. ŌĆö ą£ąĮąĄ čāąČąĄ ąŠčéčüąĄą║ą╗ąĖ ą┐čĆą░ą▓čāčÄ čĆčāą║čāŌĆ”
ąŻ ąŚčāą▒ą░č鹊ą│ąŠ čÅąĘčŗą║
ą▒čŗ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą▓ą┐čĆčÅą╝čāčÄ ąŠą▒ą▓ąĖąĮąĖčéčī ąĄąĄ ą▓ č湥ą╝‑č鹊 ąĖą╗ąĖ čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ą▓čŗčüą║ą░ąĘą░čéčī
ą┐čĆąĄč鹥ąĮąĘąĖąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠąĮ čüčćąĖčéą░ą╗ ąČąĄąĮčā ą▓ąĖąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ, ąĖ
čüčćąĖčéą░ą╗ čéą░ą║ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ, ąĄčēąĄ ą┤ąŠ ą│ąĖą▒ąĄą╗ąĖ ąĪą░čłąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮą░ ą▓čéčÅąĮčāą╗ą░ čüčŗąĮą░ ą▓
č鹥ą░čéčĆą░ą╗čīąĮčāčÄ ą▒ąŠą│ąĄą╝ąĮčāčÄ ąČąĖąĘąĮčī ąĖ ąŠčéąĮčÅą╗ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÄčÄ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąŠą▒čāą┤ąĖčéčī
ą▓ ąĮąĄą╝ ą╝čāąČčüą║ąŠą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ. ąöą░, ąĘą┤ąĄčüčī ą╝ąĄą┤ą▓ąĄąČčīčÄ čāčüą╗čāą│čā ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ ąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąĖčéčŗą╣
ąÉą╗. ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓; ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą▒čŗ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čüąŠą│ąĮčāčéčī čāą┐čĆčÅą╝ąŠą│ąŠ, čüąĄą▒ąĄ
ąĮą░ čāą╝ąĄ, čüčŗąĮą░, ą░ čŹč鹊čé čĆąĄčüą┐ąĄą║čéą░ą▒ąĄą╗čīąĮčŗą╣, ą▓čüąĄą╝ąŠą│čāčēąĖą╣ ą▒ą░čĆąĖąĮ ąĖ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖčćąĮčŗą╣
ą░ą║č鹥čĆ ąĖą│čĆą░čÄčćąĖ čāą▒ąĄą┤ąĖą╗ ą┐ą░čĆąĮčÅ, čćč鹊 čā ąĮąĄą│ąŠ čÅą▓ąĮčŗą╣ čéą░ą╗ą░ąĮčé ą╗ąĖčåąĄą┤ąĄčÅ. ą¤čĆąŠčüč鹊
ą╝čāąČąĖą║ ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ ą▓ ą┐čĆąŠą▓ąĖąĮčåąĖčÄ, čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ąĖą╗čüčÅ, ą░ čéčāčé ąĄčēąĄ ą▓čüčéčĆąĄčéąĖą╗ čüą▓ąŠčÄ
čāč湥ąĮąĖčåčā, ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ čćč鹊‑č鹊 ąĖąĘ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠčüčéąĖ, ąĖ ąĄą╝čā ąĘą░čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą▒čŗčéčī
ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆąŠą┤ąĮčŗą╝. ąĀą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ąÜą░čéčÅ čåą▓ąĄą╗ą░ ąĖ ą┐ą░čģą╗ą░ ąŠčé
čĆą░ą┤ąŠčüčéąĖ, ą░ ąĪą░čłą░ čüą┤ą░ą╗ ą║ą░čĆą░ą▒ąĖąĮ ąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ą╗ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░čéčī čü ąŠčéčåąŠą╝,
ąĖ ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ąŠčģąŠčéčā, ąŠčéą║čĆčŗą╗ ą┤ą▓ąĄčĆčī ą║ ąĮąĄą╝čā ą▓
ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé, ą┐ąŠąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗, ą┐čĆąĖčüą╗ąŠąĮčÅčüčī ą║ ą║ąŠčüčÅą║čā, ąĖ ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ čäčĆą░ąĘčā, ą┐ąŠčćčéąĖ
čüą║ąŠą┐ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ čā čĆąĄąČąĖčüčüąĄčĆą░:
ŌĆö ąŻą▒ąĖą▓ą░čéčī ą┤ą╗čÅ
čĆą░ąĘą▓ą╗ąĄč湥ąĮąĖčÅ ŌĆö čüčĆąĄą┤ąĮąĄą▓ąĄą║ąŠą▓čīąĄ, ą┐ą░ą┐ą░.
ą¤ąŠč鹊ą╝ ąŠąĮ ą╝ąĮąŠą│ąŠ
čĆą░ąĘ ąČą░ą╗ąĄą╗, čćč鹊 ą▓ąĘą▓ąĖąĮčéąĖą╗čüčÅ ąĖ čüčĆą░ąĘčā ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą│čĆčāą▒ąŠ, ą┐ąŠ‑ą╝čāąČčüą║ąĖ,
ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čÅ, čćč鹊 ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ čüą╗čŗčłąĖčé, ąĮąŠ čüą┤ąĄčƹȹ░čéčīčüčÅ ąĮąĄ ą╝ąŠą│, ąĖą▒ąŠ ąĮąĄ č鹥čĆą┐ąĄą╗
ą╗ąĖčåąĄą╝ąĄčĆąĖčÅ, č鹥ą╝ ą┐ą░č湥 ąĘą░ąĘą▓čāčćą░ą▓čłąĄą│ąŠ ąĖąĘ čüčŗąĮąŠą▓čīąĖčģ čāčüčé.
ŌĆö ąóčŗ ą╝čÅčüąŠ ąĄčłčī? ŌĆö
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗.
ŌĆö ąöą░, čÅ
ą┐ą╗ąŠč鹊čÅą┤ąĮčŗą╣, ŌĆö ą┤ąĄčƹʹ║ąŠą▓ą░č鹊 ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ ąĪą░čłą░.
ŌĆö ąŚąĮą░čćąĖčé, ą║č鹊‑č鹊
ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ čāą▒ąĖčéčī ąČąĖą▓ąŠčéąĮąŠąĄ, ą░ čéčŗ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĄčüčéčī? ąÜč鹊‑č鹊 čĆąĄąČąĄčé ą│ąŠčĆą╗ąŠ, čüą┤ąĖčĆą░ąĄčé
čłą║čāčĆčā, ą┐ą░čćą║ą░ąĄčé čĆčāą║ąĖ ą▓ ą║čĆąŠą▓ąĖ, ą░ čéčŗ ą░ą║ą║čāčĆą░čéąĮąĄąĮčīą║ąŠ ą▓ąĖą╗ąŠčćą║ąŠą╣ ą║ąŠą▓čŗčĆčÅąĄčłčī
ąČą░čĆąĄąĮčāčÄ ą║ąŠčéą╗ąĄčéčā. ąś ąŠčüčéą░ąĄčłčīčüčÅ ą│čāą╝ą░ąĮąĖčüč鹊ą╝? ąóčŗ čćąĖčüčé ąĖ ą▒ąĄąĘą│čĆąĄčłąĄąĮ?
ŌĆö ąŁč鹊 ą┤ąĄą╝ą░ą│ąŠą│ąĖčÅ,
ą┐ą░ą┐ą░.
ŌĆö ąĢčüą╗ąĖ čŹč鹊
ą┤ąĄą╝ą░ą│ąŠą│ąĖčÅ ŌĆö ąĄčłčī ą╝ąŠčĆą║ąŠą▓ą║čā ąĖ čéčĆą░ą▓čā!
ąŻ čüčŗąĮą░ čāąČąĄ č鹊ą│ą┤ą░
ą▒čŗą╗ą░ ą╝ąĄčłą░ąĮąĖąĮą░ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ, čģąŠčéčÅ ąŠąĮ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░čćą░ą╗ čāčćąĖčéčīčüčÅ ą▓ čüčéčāą┤ąĖą╣,
ą┐čĆąĖč湥ą╝ ą╝ąĄčłą░ąĮąĖąĮą░ čü čÅčĆą║ąŠ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĮčŗą╝ čÄąĮąŠčłąĄčüą║ąĖą╝ ą╝ą░ą║čüąĖą╝ą░ą╗ąĖąĘą╝ąŠą╝ ąĖ
ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą░čéą░ą▓ąĖąĘą╝ą░ą╝ąĖ ą┤ąĄčéčüčéą▓ą░. ąÜąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čéą░ą║ąĖčģ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĖ
ąĄą╝ą║ąŠ ŌĆö ąĮąĄą┤ąŠčĆąŠčüą╗čī.
ŌĆö ą» ą▒čŗ čü
čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝ čüčéą░ą╗ ą▓ąĄą│ąĄčéą░čĆąĖą░ąĮčåąĄą╝, ŌĆö ą║ą░ą║‑č鹊 ą▓ą┤čĆčāą│ ą▒ąĄčüą┐ąŠą╝ąŠčēąĮąŠ
ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ ąĪą░čłą░. ŌĆö ąØąŠ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą╝ąŠąĘą│ą░ ąĮčāąČąĄąĮ ąČąĖą▓ąŠčéąĮčŗą╣ ą▒ąĄą╗ąŠą║. ąś ą┤ą╗čÅ
čĆąŠčüčéą░ ą╝čŗčłčå č鹊ąČąĄŌĆ”
ŌĆö ąÆ čéą░ą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ
čüąŠčüąĖ čéąĖčéčīą║čā! ŌĆö ą▓ čüąĄčĆą┤čåą░čģ ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗ ąŠąĮ, ąĖ čéčāčé ąĖąĘ‑ąĘą░ čüą┐ąĖąĮčŗ ąĪą░čłąĖ
ą▓čŗą▓ąĄčĆąĮčāą╗ą░čüčī ąÜą░čéčÅ.
ŌĆö ąóčŗ ą║ą░ą║
čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ąĄčłčī čü čüčŗąĮąŠą╝?ŌĆ”
ąóčāčé ąĖ čüą╗čāčćąĖą╗ą░čüčī
ąĖčģ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ, ąĮąĄ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮą░čÅ čü č鹥ą░čéčĆąŠą╝, čüąĄą╝ąĄą╣ąĮą░čÅ ą║čĆčāą┐ąĮą░čÅ čüčüąŠčĆą░, ąĄčēąĄ
ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĖčüą┐ąŠčĆčéąĖą▓čłą░čÅ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅ čü ąĪą░čłąĄą╣, ą░ ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, ąŠčéą┤ą░ą╗ąĖą▓čłą░čÅ ąĄą│ąŠ ąŠčé
ąŠčéčåą░. ąÆąĮąĄčłąĮąĄ čŹč鹊 ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī, ąĖ č湥čĆąĄąĘ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĮąĄą╣ ą▓čüąĄ
čāčéčĆčÅčüą╗ąŠčüčī, čüą│ą╗ą░ą┤ąĖą╗ąŠčüčī, ąĮąŠ ąĮąĄ čüą░ą╝ąŠ čüąŠą▒ąŠą╣, ą░ čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ č湥ą╗ąĮąŠčćąĮąŠą╣
ą┤ąĖą┐ą╗ąŠą╝ą░čéąĖąĖ ą£ą░čłąĖ, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ čéą░ą╣ąĮąŠ ą▒ąĄą│ą░ą╗ą░ ąŠčé ąŠčéčåą░ ą║ ą╝ą░č鹥čĆąĖ,
ąĘą░č鹥ą╝ ą║ ąĪą░čłąĄ ąĖ ąŠą▒čĆą░čéąĮąŠ. ąŻ ąĮąĄąĄ ą▒čŗą╗ ą┤ą░čĆ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ą░,
čāą╝ąĄčÄčēąĄą│ąŠ čüą│ą╗ą░ąČąĖą▓ą░čéčī čāą│ą╗čŗ, ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčī ą║ąŠą╝ą┐čĆąŠą╝ąĖčüčüčŗ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ąŠčéą▓čĆą░čēą░čéčī
ą▓ąŠą╣ąĮčŗ. ąØąŠ ą▓ąŠčé čćč鹊 ąŠąĮą░ ąĮą░čłą╗ą░ ą▓ čŹč鹊ą╝ čäąĖąĮčüą║ąŠą╝ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüą╝ąĄąĮąĄ, ąŠą▒ą╗ąĖą║ąŠą╝ ąĖ
čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąŠą╝ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēąĄą│ąŠ čéčāą┐ąŠą▓ą░č鹊ą│ąŠ, ąĮąŠ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠą╗ąĄąĘčéčī ą▓ ą╗čÄą▒čāčÄ
ąĮąŠčĆčā, č乊ą║čüč鹥čĆčīąĄčĆą░? ąÜą░ą║‑č鹊 ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą▓ąĄčĆąĖčéčī, čćč鹊 č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąĖ
ąČąĖąĘąĮčī ą▓ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐ąŠą╗čāčćąĮąŠą╣ ąĖ čéąĖčģąŠą╣ čüčéčĆą░ąĮąĄ ąĪčāąŠą╝ąĖŌĆ”
ą¤ąŠčüą╗ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą║ą░ą║
čüčŗąĮ ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąŠčé ąŠčģąŠčéčŗ, ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ąĖąĮč鹥čĆąĄčü ą║ ąĮąĄą╣ ą┐čĆąŠčÅą▓ąĖą╗ čüą░ą╝ ąÉą╗.
ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓.
ą×ą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ąŠąĮ
ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŚčāą▒ą░čéčŗą╣ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ąŠčéą║čĆčŗčéąĖąĄ ą▓ąĄčüąĄąĮąĮąĄą╣ ąŠčģąŠčéčŗ ąĖ ą▒čŗą╗ ą▓
čģąŠčĆąŠčłąĄą╝ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ ą┤čāčģą░. ąöą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą╝čāąČčćąĖąĮčŗ, ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ąĖčüą┐čŗčéą░ą▓čłąĄą│ąŠ
ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīčÄ čüčāą┤čīą▒čā ąĖ čćčāą▓čüčéą▓ą░ ą╗ąŠą▓čåą░, ą┤ąŠą▒čŗčéčćąĖą║ą░, č鹥 čüą░ą╝čŗąĄ čćčāą▓čüčéą▓ą░, čćč鹊
ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčé ąĄą│ąŠ ąŠčé ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ, čüą░ą╝ą░ ąŠčģąŠčéą░ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĮčīčłąĄ, č湥ą╝
ą▓čŗčģąŠą┤ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ ŌĆö čüąŠ čüą▒ąŠčĆąŠą▓, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąŠąĮąĖ čüčéą░ąĮąŠą▓čÅčéčüčÅ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ
čĆąĄą╗ąĖą│ąĖąŠąĘąĮčŗą╝ čĆąĖčéčāą░ą╗ąŠą╝. ąś ą▓ąŠčé ą┐ąŠąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą▓, ą║ą░ą║ ą│čāą▒ąĄčĆąĮą░č鹊čĆ
čüą▓čÅčēąĄąĮąĮąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓čāąĄčé čü ąŠą┤ąĄąČą┤ąŠą╣, ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüą░ą╝ąĖ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝, čŹč鹊čé čüą▓ąĄčéčüą║ąĖą╣
ą╗ąĄą▓ ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐ąŠąČąĄą╗ą░ą╗ čüčŖąĄąĘą┤ąĖčéčī čü ąŚčāą▒ą░čéčŗą╝ čģąŠčéčī čĆą░ąĘąŠą║, ą▒ąĄąĘ čĆčāąČčīčÅ, ąĖ ą╗ąĖčłčī
ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī, čćč鹊 ąČąĄ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą╝ą░ą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ąĄčüčéčī ą▓ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╝ ąĘą░ąĮčÅčéąĖąĖ ąĖ č湥ą╝
ąŠąĮąŠ ą┐čĆąĖčéčÅą│ąĖą▓ą░ąĄčé ą╗čÄą┤ąĄą╣. |