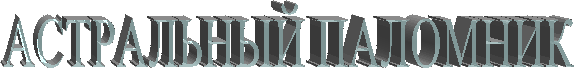|
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÜąŠą╗čīčåąŠ ┬½ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčŗ┬╗

http://leoslibrary.da.ru/
http://www.aldebaran.ru
┬½ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓. ąÜąŠą╗čīčåąŠ
┬½ą┐čĆąĖąĮčåąĄčüčüčŗ┬╗┬╗: ą×ą╗ą╝ą░‑ą¤čĆąĄčüčü; 2002
ISBN 5‑224‑03718‑2
ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĮąĄ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ŌĆō ą┐ąŠčćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗, ą║ą░ą║
ą┐ąŠ ą╗ąŠą┤ą║ąĄ čüą║čĆąĄą▒ąĄčé ą╝ąĄčéą░ą╗ą╗ ąĖ čĆąŠą│ą░čéą░čÅ ą░ą╗čīą┐ąĖąĮąĖčüčéčüą║ą░čÅ ą║ąŠčłą║ą░, čüą▓ą░ą╗ąĖą▓čłąĖčüčī čü
ąĮąŠčüąŠą▓ąŠą╣ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ą║ąĖ, ąĘą░čģą▓ą░čéčŗą▓ą░ąĄčé ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠąĄ čüąĖą┤ąĄąĮčīąĄ, ą░ ą▓č鹊čĆą░čÅ ą┐ąŠą╗ąĘąĄčé ą┐ąŠ
ą▒ąŠčĆčéčā ąĖ ąĖčēąĄčé, ąĘą░ čćč鹊 ą▒čŗ ąĘą░čåąĄą┐ąĖčéčīčüčÅ. ą×ąĮ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ čĆčŗą▓ąŠą║ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤, ąĮąŠ ą┐čāą╗ąĖ
ąĘą░ą▒ą░čĆą░ą▒ą░ąĮąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ ą║ąŠčĆą┐čāčüčā, ą┤čŗčĆčÅą▓čÅ ąĄą│ąŠ ąŠčé ąĮąŠčüą░ ą┤ąŠ ą║ąŠčĆą╝čŗ... ąÉ ą┐ąŠ čéčĆąŠčüčā,
čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░čÅ ąĄą│ąŠ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čüą║ąŠą╗čīąĘąĖą╗ąĖ ą║ą░ą╝čāčäą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ čü
ą▓ąŠčĆąŠčéąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮą░ čłąĄčÅčģ. ąśčģ ą║č鹊‑č鹊 ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░ą╗ čü ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓, ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░čÅ
ą┤čÄčĆą░ą╗čīą║čā ą▓ ą┤čāčĆčłą╗ą░ą│ ąĖ ąĮąĄ ą┤ą░ą▓ą░čÅ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮčā ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčīčüčÅ, ŌĆō ąŠąĮ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą╗ąĖčłčī
čĆčāą║ąĖ ą▓ č湥čĆąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆčćą░čéą║ą░čģ, čģą▓ą░čéą░čÄčēąĖčģ čéčĆąŠčü...
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉąøąĢąÜąĪąĢąĢąÆ
ąÜą×ąøą¼ą”ą× ą¤ąĀąśąØą”ąĢąĪąĪą½
* * *
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ čüčéą░čĆč鹊ą▓ą░ą╗ čü ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ
ą░čŹčĆąŠą┤čĆąŠą╝ą░ ą▓ ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ ąĮą░ ąĘą░ą║ą░č鹥 č湥čéą▓ąĄčĆč鹊ą│ąŠ ą╝ą░čÅ. ąĢčēąĄ ąĮąĄ čāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮą░čÅ,
ą▒ą╗ąĄą┤ąĮąŠą▓ą░čéą░čÅ ąĘąĄą╗ąĄąĮčī ą▓ą┤ąŠą╗čī ą▓ąĘą╗ąĄčéąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠčüčŗ čüą╗ąĖą╗ą░čüčī ą▓ąŠąĄą┤ąĖąĮąŠ,
ą▓čŗčüč鹥ą╗ąĖą╗ą░čüčī ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĮąĄąĘčĆąĄą╗čŗą╝ ąŠčéč鹥ąĮą║ąŠą╝ ąĖ ąŠč鹊čĆą▓ą░ą▓čłąĖčüčī, ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ
čüąĄčĆąĄčéčī, ą║ą░ą║ ą▓čüčæ, čćč鹊 ą▓ čéą░ą║ąĖąĄ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ, ą▓ č鹊ą╝
čćąĖčüą╗ąĄ ąĖ čüčéą░čĆąŠą╝ąŠą┤ąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ąŠčüą░čéčŗą╣ ą╝ąĄčłąŠą║, ą╝ąĄą╗čīą║ąĮčāą▓čłąĖą╣ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┐ąŠą╗čÅ.
ąÆąĄčüąĄąĮąĮąĖąĄ ą┐čĆąĖąĘčĆą░čćąĮčŗąĄ ą║čĆą░čüą║ąĖ čāą▓čÅą┤ą░ą╗ąĖ čéą░ą║ ą▒čŗčüčéčĆąŠ, čćč鹊 ą│ą╗ą░ąĘ ąĄą┤ą▓ą░ čāčüą┐ąĄą▓ą░ą╗
čüą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčīčüčÅ čü ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ čåą▓ąĄčéą░, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▒čŗą╗ čāąČąĄ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠčģą▓ą░č湥ąĮ
ą╗ą░ąĘčāčĆąĮčŗą╝ čüąĖčÅąĮąĖąĄą╝: ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ čĆą░ąĮąĮąĄąĄ, ą┐ąŠčćčéąĖ ą╗ąĄčéąĮąĄąĄ č鹥ą┐ą╗ąŠ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ,
čāą║čĆčŗč鹊ą╣ ą╝ąĮąŠą│ąŠčÅčĆčāčüąĮčŗą╝ąĖ čéčāčćą░ą╝ąĖ, ąĮąĄą▒ąŠ ąĘą░ ąĮąĖą╝ąĖ ąĄčēąĄ ąŠčéčüą▓ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ąŠ ą┐ąŠą╗čÅčĆąĮčŗą╝
čģąŠą╗ąŠą┤ąŠą╝ ąĖ ąĮą░ ą▓čŗčüąŠč鹥 ą┐čÅčéąĖčüąŠčé ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ ąŠčéą▒ąĖą╗ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆčā ą╝ąĖąĮčāčü
čéčĆąĖ.
ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ čüą░ą╝ąŠąĄ ą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠąĄ ąĖ
čāą┤ąĖą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ŌĆō ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ą▓ąĘą╗ąĄčéą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą╝ą░čłąĖąĮą░, ąĮą░ą▒čĆą░ą▓ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮčāčÄ ąĘąĄą╝ąĮčāčÄ
čüą║ąŠčĆąŠčüčéčī, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ąĄąĮą│čāčĆčā, ą┐čĆčŗą│ą░ąĄčé ą▓ą▓ąĄčĆčģ, ąĖ ąĮą░ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą╝ąĖą│ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░ąĄčé
ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ čćčāą▓čüčéą▓ąŠ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░. ąóčŗčüčÅčćčā čĆą░ąĘ ą▓ąĘą╗ąĄčéą░ą╣, ąĖ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąĘą░ą╝ąĖčĆą░ąĄčé
ą┤čāčłą░. ą¤ąŠč鹊ą╝, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ą▒ąĄčĆąĄčłčī ą▓čŗčüąŠčéčā ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÅ ąŠą▒čĆą░čéąĖčéčüčÅ ą▓
č鹊ą┐ąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║čāčÄ ą║ą░čĆčéčā, ą▓čüąĄ ąĖčüč湥ąĘą░ąĄčé ąĖ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ čüą║čāčćąĮąŠ.
ŌĆō ąØą░ą▒čĆą░ą╗ ą┤ąĄą▓čÅčéčī ą┐čÅčéčīčüąŠčé, ą║čāčĆčü ąĮą░
ą×čĆąŠą│, ŌĆō ąĘą░ą┐ąŠąĘą┤ą░ą╗ąŠ čüąŠąŠą▒čēąĖą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓. ŌĆō ą¤ąŠą┤ą┐ąĖčüą░ąĮąŠ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī ą▓ąŠčüąĄą╝čī.
ŌĆō ąÜą░ą║ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čé?
ŌĆō ąÉą┐ą┐ą░čĆą░čé ą┐čĆąĖą╗ąĖčćąĮčŗą╣, čéčÅą│ą░ ąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮą░čÅ.
ą¤ąŠą╝ąŠčēąĮąĖą║ąŠą╝ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅ ą┐ąŠą╗ąĄč鹊ą▓ ą▓ čŹč鹊čé ą▓ąĄč湥čĆ čüąĖą┤ąĄą╗ ą×ą╗ąĄą│ ą¢čāą║ąŠą▓,
ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄčēąĖą╣ ą▓čüąĄ čü ą┐ąŠą╗čāčüą╗ąŠą▓ą░, ą░ ąĮąĄčāčüčéą░ą▓ąĮąŠą╣ čÅąĘčŗą║ čĆą░ą┤ąĖąŠąŠą▒ą╝ąĄąĮą░ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓čā
ą┐čĆąŠčēą░ą╗čüčÅ.
ŌĆō ąØčā, ą▓ą░ą╗čÅą╣, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą▓ ąŠčéą▓ąĄčé ą×ą╗ąĄą│, ŌĆō
ą¤čĆąĖą▓ąĄčé ą┤ą░ą╗čīąĮąĖą╝ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝.
ą×ąĮ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ą║čāą┤ą░ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ
ą┐ąŠą│ąĮą░ą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā, ąĖ ą╝ąŠą│ ą╗ąĖčłčī ą┤ąŠą│ą░ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąŠ ą╝ą░čĆčłčĆčāč鹥.
ŌĆō ą£ąĮąĄ ąĄčēąĄ ą┤ąŠ čüčéčĆą░ąĮ, ą║ą░ą║ ą┤ąŠ ą╗čāąĮčŗ
ą┐ąĄčłą║ąŠą╝, ŌĆō ą┐čĆąŠą▓ąŠčĆčćą░ą╗ ąŠąĮ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄ ąŠčé ą▓ąĘą╗ąĄčéą░ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ
ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗ąŠčüčī ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčāąĘą║ąĖ, 菹┤ą░ą║ čĆą░ąĘ ą▓ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī ą┐čÅčéčī.
ąÜ ąĮąĖą╝ č鹊ąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčéčī,
ą║ą░ą║ ąĖ ą║ čćčāą▓čüčéą▓čā ą┐ąŠą╗ąĄčéą░. ą×ąĮ ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ąĘąĄą╝ąĮąŠąĄ ą┐čĆąĖčéčÅąČąĄąĮąĖąĄ čüąĄą╣čćą░čü
čĆą░čüą┐ą╗čÄčēąĖą▓ą░ąĄčé, čĆą░ąĘą╝ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčé ą╗ąĖčåąŠ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą│ąĄčĆą╝ąŠčłą╗ąĄą╝, ąĖ ąĮą░ą┤ąŠ
ą┐ąĄčĆąĄč鹥čĆą┐ąĄčéčī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé, ą┐ąŠą║ą░ čāčéą╗čŗą╣, čĆą░ąĮąĖą╝čŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣
ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮąĄčé ą║ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ. ą×ąĮ ąČą┤ą░ą╗ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą£ąśąō
ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄąĄčé ąĘą▓čāą║ąŠą▓ąŠą╣ ą▒ą░čĆčīąĄčĆ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮą░čüčéčāą┐ą░ą╗ąŠ ąŠą▒ą╗ąĄą│č湥ąĮąĖąĄ, ąĖ
čüą╗ąĄą┤ąĖą╗ ąĘą░ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ą╝ąĖ. ąŁč鹊čé ą▓ą░ąČąĮčŗą╣ čŹčéą░ą┐ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ą▒čŗą╗ čüą╝ąĄčłąŠąĮ ąĖ ą│ąŠčĆąĄą║ č鹥ą╝,
čćč鹊 ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ ą┤ąĄčéčüčéą▓ąŠ, č鹊čćąĮąĄąĄ, ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą┤ąŠčüąĄąĮąĮąĖąĄ
čüčéčĆą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą▒čŖąĄą▓čłąĖčüčī ąĮąĄ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĘčĆąĄą╗ąŠą╣ č湥čĆąĄą╝čāčģąŠą╣, ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ąĄčłčī
ą▓čüąĄ ą┐čĆąĄą╗ąĄčüčéąĖ čüčāčĆąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĖ ąĮąĄąŠčéą▓čĆą░čéąĖą╝ąŠą│ąŠ ąĘą░ą┐ąŠčĆą░: čĆąŠąČą░ ąŠčé ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ
ą║čĆą░čüąĮą░čÅ, ąĮąŠ čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ą┐čŗąČčīčüčÅ, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ąĘą░ą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╣ ą┤čŗčģą░ąĮąĖčÅ, ą║ą░ą║
ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą╝, č鹊ą╗ą║čā ąĮčā ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ! ąÉ čŹčéą░ čüą╗ą░ą┤ą║ą░čÅ, čüąŠą▒ą╗ą░ąĘąĮąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ
čÅą│ąŠą┤ą░ čĆąŠčüą╗ą░ ą▓čüčÄą┤čā, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą▓ą┤ąŠą╗čī čĆąĄą║ąĖ ą¤ąŠąČąĮąĖ, ąĖ ąĄąĄ, ą║ą░ą║ čćčāą┤ąŠ, ąČą┤ą░ą╗ąĖ
čü čüą░ą╝ąŠą╣ ą▓ąĄčüąĮčŗ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒ąĄčĆąĄą│ą░ ą┐ąŠą┤ąĄčĆą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąĄą╗čŗą╝, čćą░čĆčāčÄčēąĖą╝ čåą▓ąĄč鹊ą╝ ąĖ
čüčéą░čĆąĖą║ąĖ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ čüčéą░čĆčāčģą░ą╝ąĖ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé, ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĘą░ą╗ąĖ ąĮąŠčćą░ą╝ąĖ
ą┐ąŠą┤čŗčłą░čéčī čüą▓ąŠąĄą╣ čÄąĮąŠčüčéčīčÄ. ą¦ąĄą│ąŠ čāąČ ą▒čŗą╗ąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĮčÅą║ąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣
ą┤ąŠ čāčéčĆą░ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░ą╗ ą▓ ą▒ąĄą╗ąŠą║ąĖą┐ąĄąĮąĮčŗčģ ąĘą░čĆąŠčüą╗čÅčģ, ą┐ąŠ ąĮąĄą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÄ ąĖ
ą▒ąĄąĘąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čéą▓ąŠčĆčÅ ą╗čÄą▒ąŠą▓čī ąĖ ą│čĆąĄčģ.
ąóąŠ ąČąĄ čüą░ą╝ąŠąĄ ą┐ąŠč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą┤ ąŠčüąĄąĮčī,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄą┤ąŠąĘčĆąĄą╗čŗąĄ, ą║ą░ą║ č湥čĆąĄą╝čāčģą░, ą┤ąĄą▓čāčłą║ąĖ ą▒čĆčÄčģą░č鹥ą╗ąĖ ąĖ, čüą║čĆčŗą▓ą░čÅ ą┐ąŠąĘąŠčĆ,
ąĘą░č鹥ą▓ą░ą╗ąĖ čéą░ą╣ąĮąŠąĄ čüą▓ą░č鹊ą▓čüčéą▓ąŠ ąĖ čüą║ąŠčĆąŠč鹥čćąĮčāčÄ ąČąĄąĮąĖčéčīą▒čā, ąĖą╗ąĖ ŌĆō ąĖ čéą░ą║ąŠąĄ
čüą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī ŌĆō ą▒čĆąŠčüą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ąŠą╝čāčé ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣. ąÉ čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ą┤ą░ą▒čŗ čüą║čĆčŗčéčī
č湥čĆąĄą╝čāčģąŠą▓čŗą╣ ą│čĆąĄčģ, ą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ ą║ ą©ą░ą▒ą░ąĮąĖčģąĄ, ą¤ąŠąČąĮąĄąĮčüą║ąŠą╣ ąĘąĮą░čģą░čĆą║ąĄ, ąĖ ą┐ą░ą┤ą░ą╗ąĖ
ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ. ąæą░ą▒ą║ą░ čüčćąĖčéą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ č湥ą╝ ą┐ąŠą▓ąĖčéčāčģąŠą╣ ąĖ ąĮąĄ
ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ ą║ąŠą╗ą┤čāąĮčīąĄą╣, čģąŠčéčÅ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ čüąŠą▓ąĄčĆčłą░ą╗ą░ ąĮą░ą┤ ąĘą░ą╗ąĄč鹥ą▓čłąĖą╝ąĖ
ą┤ąĄą▓ą║ą░ą╝ąĖ ąĮąĄ čéą░ąĖąĮčüčéą▓ąŠ, ą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗čīąĮčŗą╣ ą░ą▒ąŠčĆčé,
čĆą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆčāčćąĮčŗą╝ ąĖąĮčüčéčĆčāą╝ąĄąĮč鹊ą╝ ŌĆō ą▓ąĄčĆąĄč鹥ąĮąŠą╝. ąóą░ą║
ą▓ąŠčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą╝ą░ą╗ąŠą╗ąĄčéąĮąĖą╣ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąŠą▒čŖąĄą┤ą░ą╗čüčÅ ąĮąĄąĘčĆąĄą╗ąŠą╣ č湥čĆąĄą╝čāčģąŠą╣ ąĖ čüčéčĆą░ą┤ą░ą╗
ąŠčé čéą░ą╣ąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą┐ąŠčĆą░, ąĖ, ą║ą░ą║ čüąŠą│čĆąĄčłąĖą▓čłą░čÅ ą┤ąĄą▓ą║ą░, ą┐ąŠą┤ąŠą╗ą│čā čģąŠą┤ąĖą╗
ąĘą░ą┤čāą╝čćąĖą▓čŗą╣, ą▒ą░ą▒ą║ą░ ą©ą░ą▒ą░ąĮąĖčģą░, ą║ą░ą║ ąĄąĄ ąĘą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ, ąĘą░ą╝ąĄčćą░ą╗ą░ čŹč鹊 ąĖ
čüą┐ą░čüą░ą╗ą░ ąŠčé ą┐ąŠąĘąŠčĆą░. ą×ąĮą░ ą▓ čéą░ą╣ąĮąĄ ąŠčé ą╝ą░čéčāčłą║ąĖ čāą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ąĄą│ąŠ ą▓ čüąŠčĆčéąĖčĆ ąĮą░
ą┐ąŠą▓ąĄčéąĖ ąĖ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ą░ ą▓ąĄčĆąĄč鹥ąĮąŠŌĆ”
ą¤ąĄčĆąĄą│čĆčāąĘą║ą░ ą▓ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╝ąĖčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░ ą▓čüąĄ
ą┤ąĄčéčüą║ąĖąĄ ąŠčēčāčēąĄąĮąĖčÅ, čéą░ą║ ąČąĄ ą┐čāčćąĖą╗ąŠ ą│ą╗ą░ąĘą░, ą║čĆą░čüąĮąĄą╗ą░ čĆąŠąČą░ ąĖ čéą░ą║ ą┤ą░ą▓ąĖą╗ąŠ ąĮą░
ąĘą░ą┤ąĮąĖą╣ ą┐čĆąŠčģąŠą┤, čćč鹊 ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ąŠą┐čÅčéčī ąĮą░ąĄą╗čüčÅ ą▒čāčĆąŠą╣ č湥čĆąĄą╝čāčģąĖ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ
ą▒ą░ą▒čāčłą║ąĖ čü ą▓ąĄčĆąĄč鹥ąĮąŠą╝ čĆčÅą┤ąŠą╝ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠŌĆ”
ąźą╗ąŠą┐ą║ą░ ąŠąĮ ąĮąĄ čāčüą╗čŗčłą░ą╗, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄą╗
ąĘą▓čāą║ąŠą▓ąŠą╣ ą▒ą░čĆčīąĄčĆ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ čāčłą░čģ ąĮą░ ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ č鹊ąĮą║ąŠ ąĘą░ą▓ąĖą▒čĆąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ
ąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ čüčĆą░ąĘčā ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ ąŠą▒ą╗ąĄą│č湥ąĮąĖąĄ. ąś ą╝ą░čłąĖąĮą░, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī, ą▓čŗą▒ąĖą▓čłąĖą╣
ąĘąĖą╝ąĮčÄčÄ ą┐čĆąŠą▒ą║čā, ą▓čĆą░ąĘ ą┐ąŠą╗ąĄą│čćą░ą╗ą░, ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗ą░ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠ: ŌĆō ąŻ‑čā‑čä!..
ŌĆō ąöąŠčüčéą░ą╗ ąĮąĄą▒ąĄčü, ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čé ą▓ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ, ŌĆō
ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ. ŌĆō ąÜčāčĆčü ŌĆō ą×čĆąŠą│. ąóčāčé ąĄčēąĄ čüąŠą╗ąĮčŗčłą║ąŠ ąĮą░ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮč鹥 ąĖ ąĮą░ą┤
ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣ ąĘą▓ąĄąĘą┤čŗ čüąĖčÅčÄčé. ąóčŗ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čéą░ą║ąŠąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗, č鹊ą▓ą░čĆąĖčē ą¢čāą║ąŠą▓?
ŌĆō ąÆąŠčé ą┤ąĖą║ąŠą▓ąĖąĮą░!.. ąÉ čā ąĮą░čü čüč鹥ą╝ąĮąĄą╗ąŠ, ŌĆō
čģčĆąĖą┐ąĮčāą╗ ą▒čŗą▓čłąĖą╣ ą┐ąĖą╗ąŠčé ą¢čāą║ąŠą▓. ŌĆō ąÜą░ąČąĄčéčüčÅ, ą┤ąŠąČą┤ąĖą║ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅŌĆ”
ŌĆō ąÉ čÅ ą▓ąĖąČčāŌĆ” ąĪą╗ąĄą▓ą░ ą║ą░ą║ą░čÅ‑č鹊 ąĘą▓ąĄąĘą┤ą░
ą│ąŠčĆąĖčé. ą£ąŠąČąĄčé, ąÆąĄąĮąĄčĆą░.
ŌĆō ąś čģčĆąĄąĮ čü ąĮąĄą╣, ą┐čāčüą║ą░ą╣ ą│ąŠčĆąĖčéŌĆ”
ŌĆō ąóčŗ ą╝ąĄąĮčÅ ą▓ąĖą┤ąĖčłčī? ąÜą░ą║ čÅ ą▓čŗą│ą╗čÅąČčā ąĮą░
菹║čĆą░ąĮąĄ?
ŌĆō ąÜąĖąĮąŠąĘą▓ąĄąĘą┤ą░.
ŌĆō ąĪąĄą╣čćą░čü ą▓ąŠą╣ą┤čā ą▓ ą║ą╗ąĄčéą║čā ą║ ąĘą▓ąĄčĆčÄ,
č鹊ą▓ą░čĆąĖčē ą¢čāą║ąŠą▓, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓. ŌĆō ąźąŠčéčÅ ąĘąĮą░čÄ, čćč鹊 ąŠąĮ čéą░ą╝ ąĄčüčéčī.
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą┐ąŠą╗ą╝ąĖąĮčāčéčŗ ą¢čāą║ąŠą▓ ą┐ąŠąĘą▓ą░ą╗ čéčĆąĄą▓ąŠąČąĮąŠ
ąĖ ąŠčäąĖčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ:
ŌĆō ą©ąĄčüčéčī ą┤ą▓ą░ čüąĄą╝čī! ąóąĄą▒čÅ ąĮąĄ ą▓ąĖąČčā! ąŻčłąĄą╗ čü
菹║čĆą░ąĮą░.
ŌĆō ąĪ 菹║čĆą░ąĮą░ čāčłąĄą╗ ą▓ ą║ą╗ąĄčéą║čā ąĘą▓ąĄčĆčÅ! ŌĆō čü
čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝ čüąŠąŠą▒čēąĖą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓. ŌĆō ąś ąŠąĮ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▓ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĄ.
ŌĆō ąØąĄ ą┐ąŠąĮčÅą╗, čłąĄčüčéčī ą┤ą▓ą░ čüąĄą╝čī! ŌĆō ą║ą░ą┤ąĄčé
ąĖą╗ąĖ ąĘą░ą▒čŗą╗ čüą╗čāčćą░ą╣, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮąĖ ą▓ čüčāą▓ąŠčĆąŠą▓čüą║ąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ čüąĖą╗čā
ą┤čāčģą░, ąĖą╗ąĖ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą▓ąĖą┤, čćč鹊 ąĘą░ą▒čŗą╗.
ŌĆō ą» ą┐čĆąŠčüč鹊 ą┐čĆąĄą▓čĆą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ ąĮąĖčćč鹊! ą£ąĄąĮčÅ
ąĮąĄčé.
ą¢čāą║ąŠą▓ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ąŠą▒ąĖą┤ąĄą╗čüčÅ
ąĮą░ čłčāčéą║čā, ą░ čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÄ ą┐ąŠą╗ąĄč鹊ą▓ ąŠ čćčāą┤ąĄčüą░čģ ąĖ
č鹊čé ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗ ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čēą░čéčī ąĮą░ čŹč鹊 ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ. ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓čā ą▓ čŹč鹊čé ą╝ąĖą│
ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ą┐ą╗ąĄą▓ą░čéčī ąĮą░ ą▓čüąĄ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą┤ąŠ ą╝ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╣ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī
čüąĄą╝ąĮą░ą┤čåą░čéčī ą╝ąĖąĮčāčé čĆą░čüč湥čéąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░, ą░ ŌĆ£č鹥ą╝ąĮčŗą╣ŌĆØ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆ ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ
ą┐ąŠą┤čĆą░ąĘčāą╝ąĄą▓ą░ą╗ čĆą░ą┤ąĖąŠąŠą▒ą╝ąĄąĮą░, ą║ą░ą║ ą▓ ą┤ą░ą▓ąĮąĖąĄ čāąČąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ č湥čĆąĄąĘ
čĆčāą▒ąĄąČąĖ ą┤čĆčāąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąĪąĪąĪąĀ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠčĆčģą░čéčī, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
ą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĄčéąĮčŗą╝ ą┐čéąĖčåą░ą╝.
ąöą░ąČąĄ čüą▓ąŠąĖ ą¤ąÆą×čłąĮąĖą║ąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą┐čĆąŠčüčÅčé, ąĖ ąĮąĄ
ąĮą░ą┤ąŠ ąĮą░čüąĖą╗ąŠą▓ą░čéčī čüąĖčüč鹥ą╝čā ąŠą┐ąŠąĘąĮą░ąĮąĖčÅ ŌĆ£čüą▓ąŠą╣ ŌĆō čćčāąČąŠą╣ŌĆØ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčāŌĆØ, ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣
ą▒čŗą╗ą░ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮą░ čŹčéą░ ą╝ą░čłąĖąĮą░, ąĖ ąĖčüč湥ąĘ ąĖąĘ ą▓ąĖą┤čā čüą░ą╝čŗčģ čćčāčéą║ąĖčģ ąĖ
ą│ą╗ą░ąĘą░čüčéčŗčģ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆąŠą▓. ąś ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĖčģ, ąĮąŠ, ą║ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆčā, ąĖ ąŠčé ŌĆ£ąśą│ą╗ŌĆØ,
ŌĆ£ąĪčéąĖąĮą│ąĄčĆąŠą▓ŌĆØ ąĖ čüą░ą╝ąŠąĮą░ą▓ąŠą┤čÅčēąĖčģčüčÅ čĆą░ą║ąĄčé ą║ą╗ą░čüčüą░ ŌĆ£ą▓ąŠąĘą┤čāčģ‑ą▓ąŠąĘą┤čāčģŌĆØ.
ą×ą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čĆčÅą┤ąŠą▓ąŠą╣ ą£ąśąōą░čĆčī ą▓ čüąŠč湥čéą░ąĮąĖąĖ čü čŹč鹊ą╣ čéą░ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣,
ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąĖčģ ą║čĆąŠą▓ąĄą╣, ąŠčüąŠą▒ąŠą╣ ą┤ąĄą╗ą░ą╗čüčÅ ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝čŗą╝ ąĖ ąĮąĄčāčÅąĘą▓ąĖą╝čŗą╝.
ą¤čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čī ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║č鹊čĆą░ ąĄčēąĄ ą▓ ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ ą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ąĮą░čéčÅąĮčāčéčī
ąĮą░ ąĮąĄąĄ ą┐ąŠčÅčü ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą┐čĆąŠąĘčĆą░čćąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╗ą┐ą░ą║ą░ ąĮą░ ą┐čāą╗čīč鹥
čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąĮąĄą┤ąŠą╗ą│ąĖčģ ą║ąŠąĮčüčāą╗čīčéą░čåąĖą╣ ąĖ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ
ŌĆ£ą┤ąŠą▒čĆąŠŌĆØ ąĀąŠčüą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠąĮą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčāŌĆØ
čĆą░ąĘčĆąĄčłąĖą╗ąĖ. ą«ąĮą░čÅ ą▒ą░čĆčŗčłąĮčÅ čéą░čĆą░čēąĖą╗ą░čüčī č鹥ą┐ąĄčĆčī čüą║ą▓ąŠąĘčī čüč鹥ą║ą╗ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝
ą▓ąŠčüč鹊čƹȹĄąĮąĮčŗą╝ ą│ą╗ą░ąĘąŠą╝ ąĮą░ ą▓ąĄčüčī ą┐čĆąĄą║čĆą░čüąĮčŗą╣ ą▓ąĄč湥čĆąĮąĖą╣ ą╝ąĖčĆ ąĖ ą╝ąŠą│ą╗ą░
ąŠčćą░čĆąŠą▓ą░čéčī ą▓čüąĄčģ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆčēąĖą║ąŠą▓.
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ąĮą░ ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī
čéčŗčüčÅčć ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ŌĆō čü ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ąĄąĄ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ąĖ ąĮąĄ čüą╗čŗčłąĮąŠ ŌĆō ąĖ ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗
ą░ą▓č鹊ą┐ąĖą╗ąŠčé. ą¦ąĄčĆąĄąĘ čüąĄą╝čī ą╝ąĖąĮčāčé ąŠąĮ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ ąĖčüč湥ąĘąĮčāčéčī čüąŠ čüą▓čÅąĘąĖ
čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ ąĖ čāą╣čéąĖ ą▓ ą▓ąŠą╗čīąĮąŠąĄ čüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĖąĄ ąĮą░ ą┤ąĄčüčÅčéčī, ą┐ąŠą║ą░
ąĮąĄ ą▓ąŠą╣ą┤ąĄčé ą▓ ąĘąŠąĮčā ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą¤ąÆą×, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĄą│ąŠ ąĮąĄ čāą▓ąĖą┤čÅčé ąĮą░ čüą▓ąŠąĖčģ
ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆą░čģ, ąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ, ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčī čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣
čĆą░ą┤ąĖąŠčüąĖą│ąĮą░ą╗ ąĖ ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī ąŠ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ. ą¤ąŠč鹊ą╝ čāąČąĄ, ąĘą░ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣,
ą│ą┤ąĄ č鹊ąČąĄ čüč鹊čÅčé čüą▓ąŠąĖ ŌĆō ą▓ ąÉą╗čéčāąĮąĄ ą╝ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╝ ą┐čĆąĖą╝čāčé ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ
ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖąĄ ą┤ąĖčüą┐ąĄčéč湥čĆčŗ. ąÜąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖąĄ ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĖą▒ąŠ čéą░ą╝
čüąĖą┤čÅčé ąĮą░čłąĖ ą╗čÄą┤ąĖ ąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąŠą▒čÅąĘą░ąĮ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖčéčī čüąĄą║čĆąĄčéąĮąŠčüčéčī
ą┐ąŠčüą░ą┤ą║ąĖ, ąĘą░ą┐čĆą░ą▓ą║ąĖ ąĖ ą▓ąĘą╗ąĄčéą░. ąØą░ čŹč鹊čé čüą╗čāčćą░ą╣ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓čŗčāčćąĖą╗ ą┤ą░ąČąĄ ą┤ą▓ąĄ
čäčĆą░ąĘčŗ ąĮą░ ą╝ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╝ ŌĆō ąĘą░ą┐čĆąŠčü ąĮą░ ą┐ąŠčüą░ą┤ą║čā ąĖ ą▓ąĘą╗ąĄčé, čćč鹊ą▒čŗ ą▓čĆą░ą│ąĖ ąĮąĄ
ą┤ąŠą│ą░ą┤ą░ą╗ąĖčüčī.
ąÆą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ čåąĄą╗čŗčģ č湥čéą▓ąĄčĆčéčī čćą░čüą░
čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░! ąÜą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠąĮ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮčÄčÄ čäčĆą░ąĘčā č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░
ą¢čāą║ąŠą▓ą░ ąĖ ąĖčüč湥ąĘ čü ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆą░, ą┐ąĄčĆą▓čŗą╝ ą┤ąĄą╗ąŠą╝ čüą▒čĆąŠčüąĖą╗ čüą║ąŠčĆąŠčüčéčī, čüą┤ąĄą╗ą░ą╗
čäąĖą║čüąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčāčÄ ŌĆ£ą▒ąŠčćą║čāŌĆØ, ąĘą░č鹥ą╝ ąŠčéčüč鹥ą│ąĮčāą╗čüčÅ ąŠčé ą║čĆąĄčüą╗ą░ ąĖ ą┐čāčüčéąĖą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ą▓
ą│ą╗ąĖčüčüą░ą┤čā, ą┐ąŠą▒ą╗ąĖąČąĄ ą║ ąŠą▒ą╗ą░ą║ą░ą╝, ą┐ą╗ąŠčéąĮąŠ čāą║čĆčŗą▓ą░čÄčēąĖą╝ ąĘąĄą╝ą╗čÄ. ą×čé čĆąĄąĘą║ąĖčģ
ą▓čüčéčĆčÅčģąĖą▓ą░ąĮąĖą╣ ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╣ ąĮąĄą▓ąĄčüąŠą╝ąŠčüčéąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░čüčłą░čéčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖ
ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗čÅą╗ąŠčüčī ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąØąÉąŚą░ ŌĆō ąĮąĄą┐čĆąĖą║ąŠčüąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą┐ą░čüą░,
ą│čĆčāą▒ąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ, ą╝ąĄčłą║ą░ čüąŠ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéą░ą╝ąĖ, ąĘą░ą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠą┤
ą┐ą░čĆą░čłčÄčé ą▓ ą║ą░čéą░ą┐čāą╗čīčéąĮčŗą╣ ą▒ą╗ąŠą║. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ, ąĄčüą╗ąĖ ąĖąĘą╗ąŠą▓čćąĖčéčīčüčÅ, ą╝ąŠąČąĮąŠ
ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąŠčüčéą░čéčī čģąĖčéčĆčŗą╣ ąĘą░ą╝ąŠą║ čĆčāą║ąŠą╣ ąĖ ąŠčéą║čĆčŗčéčī čĆąŠą│ ąĖąĘąŠą▒ąĖą╗ąĖčÅ: ą▓
čćčĆąĄąĘą▓čŗčćą░ą╣ąĮčŗčģ ąĘą░ą┐ą░čüą░čģ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čüąĄ, ąŠčé čłąŠą║ąŠą╗ą░ą┤ą░ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ
čüąŠčüąĖčüąŠą║. ą¤ąŠą│čĆą░ą▒ąĖčéčī ąĘą░ą┐ą░čü ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąĄą╗ąŠą╝ čüą▓čÅčéčŗą╝, ą║ąŠą│ą┤ą░ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčé
ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠąĮčÅą╗čüčÅ, ą░ č鹊čćąĮąĄąĄ, ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤čĆčāąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā, ąĮąŠ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ
ąĖąĮąŠąĘąĄą╝ąĮąŠą╝čā ą║ą╗ąĖąĄąĮčéčā. ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą│ąĮą░ą╗ ą£ąśąō ąĘą░ čéčĆąĖ ą╝ąŠčĆčÅ, ą░ čā ąĮąĖčģ čéą░ą╝ ąĖ
ą▓ą║čāčüčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖąĮčŗąĄ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą║čāą┐ą░č鹥ą╗čī ąØąÉąŚ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčéčĆčÅčüąĄčé ąĖ
ą▓ą╗ąŠąČąĖčé čéčāą┤ą░ ą┐čĆąŠą┤čāą║čéčŗ čüą▓ąŠąĖ, ą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮčŗąĄ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą║čāčģąĮąĄ. ąś ąĮąĖą║č鹊 čāąČąĄ
ąĮąĄ čüą┐čĆąŠčüąĖčé ąĘą░ ą╝ąĄą╗ą║ąŠąĄ ą╝ąŠčłąĄąĮąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ, ąĄčüą╗ąĖ čü ą╝ąĄčłą║ą░ ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ čüą┤ąĄčĆčāčé
ą┐ąŠčÅčü ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéąĖ (ąĮąĄ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čéčī ąČąĄ čĆą░ąĘąŠą▓čŗą╣ ąĘą░ą╝ąŠą║ ąĖ ą┐ą╗ąŠą╝ą▒čā!) ąĖ
ąĖčüč湥ąĘąĮąĄčé čćą░čüčéčī ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓, čĆą░čüčüčćąĖčéą░ąĮąĮčŗčģ ąĮą░ čüąĄą╝čī ą┤ąĮąĄą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖčćąĮąŠą│ąŠ
ą┐ąĖčéą░ąĮąĖčÅ.
ąÉ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓čüąĄ ą┐ąĖą╗ąŠčéčŗ, ą▒čŗą╗ ą▓ąĄčćąĮąŠ
ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╝: ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ ąĖą│čĆą░ą╗ ąĘą╗čāčÄ čłčāčéą║čā ŌĆō ą╝ąĮąŠą│ąŠą║čĆą░čéąĮąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ą░ą╗
ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčŗ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░ ą▓ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘą╝ąĄ ąĖ čüąČąĖą│ą░ą╗ ą║ą░ą╗ąŠčĆąĖąĖ, ą║ą░ą║ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ą▓ ą▒ą░ą║ą░čģ.
ąÜąŠ ą▓čüąĄą╝čā ą┐čĆąŠč湥ą╝čā, ąŠąĮ ąĖ ą▓ąĘą╗ąĄčéą░ą╗ ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╝, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĮąĄ č鹊 čćč鹊
ą┐ąŠąĘą░ą▓čéčĆą░ą║ą░čéčī, ąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠčāąČąĖąĮą░čéčī ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ ą┐ąŠ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝, ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ
ąŠą▒čŖąĄą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝. ąĪąĖčéčāą░čåąĖčÅ ą▓č湥čĆą░ čüą╗ąŠąČąĖą╗ąĖčüčī čéą░ą║, čćč鹊 ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ
ą┐čĆą░ąĘą┤ąĮąĖčćąĮąŠą│ąŠ ą╝ą░ą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĮčÅ ąĖ ą▓ą║čāčłąĄąĮąĖčÅ ąĄą│ąŠ čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖą╣, ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ą┐ąŠ
čĆąŠąČąĄ, ą┐čĆąĖč湥ą╝ ą┤čĆą░čéčīčüčÅ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī čüčĆą░ąĘčā čü čéčĆąŠąĖą╝ąĖ, ąĖ ą╗ą░ą┤ąĮąŠ ąĮąĄ ąĘą░čĆąĄąĘą░ą╗ąĖ.
ąźąŠčéčī ąĖ ą▓čŗą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, ąĮąĄ ą┐ą░ą╗ čüą╝ąĄčĆčéčīčÄ čģčĆą░ą▒čĆčŗčģ ą▓ ąĮąĄčĆą░ą▓ąĮąŠą╣ čüčģą▓ą░čéą║ąĄ, ąĮąŠ
ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ą┐ąŠ ąĘčāą▒ą░ą╝ ąĖ ą▓ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖčåčā, čéą░ą║ čćč鹊 ą▓čŗą┐čāčüą║ą░čÄčēąĖą╣ ą┤ąŠą║č鹊čĆ ą▓
ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĘą░čüąŠą╝ąĮąĄą▓ą░ą╗čüčÅ, ąĮąĄ ą┐ąŠą╝ąĄčłą░čÄčé ą╗ąĖ čĆą░čüą┐čāčģčłąĖąĄ ą│čāą▒čŗ ąĮą░ą┤ąĄčéčī
ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ąĮčāčÄ ą╝ą░čüą║čā.
ąæąŠąĄą▓čŗąĄ čĆą░ąĮčŗ ąĮąĄ ą┐ąŠą╝ąĄčłą░ą╗ąĖ, ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ąĮą░čÅ
ą╝ą░čüą║ą░ ą╗ąĄą│ą╗ą░ ąĮą░ čäąĖąĘąĖąŠąĮąŠą╝ąĖčÄ ą┤ą░ąČąĄ ą┐ą╗ąŠčéąĮąĄąĄ, č湥ą╝ čĆą░ąĮčīčłąĄ, ąĖ ą┤čŗčłą░ą╗ąŠčüčī
ą▓ąŠą╗čīą│ąŠčéąĮąŠ. ąÉ čüą░ą╝ąŠąĄ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠąĄ, ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ą╗ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčīčüčÅ
ąŠčéą▓čĆą░čéąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ąĘą░ą┐ą░čģ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄ, ą│čĆčāą▒ąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ, ąĘą░ą┐ą░čģ ą┤ąĄčĆčīą╝ą░,
ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ą░ čü ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░, ą║ą░ą║ ąŠąĮ čüąĄą╗ ą▓ čŹč鹊čé čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčé,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗. ąØą░ čüąĄą╝ąĖ čéčŗčüčÅčćą░čģ ą╝ą░čüą║ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĮąĄ ąĮčāąČąĮą░.
ąöčŗčłą░ čĆč鹊ą╝, ą║ą░ą║ ą▓ ą▓ąŠą║ąĘą░ą╗čīąĮąŠą╝ čéčāą░ą╗ąĄč鹥,
ąŠąĮ ą▓čŗą┤ąĄčĆąĮčāą╗ č湥ą║čā ąĖąĘ ąĘą░ą╝ą║ą░ ąØąÉąŚą░, ąĘą░čüčāąĮčāą╗ čĆčāą║čā ą▓ č鹥čüąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ čü
ą┐čĆą░ą▓ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąŠčé ą║čĆąĄčüą╗ą░ ąĖ ąĮą░čēčāą┐ą░ą╗ čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ, čüčāą┤čÅ ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ,
ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ąŠčĆčāąČąĖąĄ.
ąś ą╗ąĖčłčī ą┐čĆąŠčéąĖčüąĮčāą▓čłąĖčüčī ą│ą╗čāą▒ąČąĄ, ąĘą░čģą▓ą░čéąĖą╗
ą┐ą░ą╗čīčåą░ą╝ąĖ čāą│ąŠą╗ąŠą║ ą┐ą╗ą░čüčéąĖą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ą░ą║ąĄčéą░ ąĖ, ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ ą▓čŗčéą░čēąĖą▓, ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗,
čćč鹊 čŹč鹊 ą▒čāą╝ą░ąČąĮčŗąĄ čüą░ą╗č乥čéą║ąĖ. ąÜą░ąČąĄčéčüčÅ, čĆčāčüčüą║ąĖąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠ‑ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗąĄ čüąĖą╗čŗ,
čüą╗ąĄą┤čāčÅ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░ą╝, ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ čüčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ čü čāą╝ą░. ąÉ ąĖąĮą░č湥 ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠąĄ
ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ ą║ ąĖąĘą┤ąĄą▓ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓čā ąĮą░ą┤ ąĖčüčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąĄą╣, ą│ą┤ąĄ
ąČąĖąĘąĮčī ą┐ąĖą╗ąŠčéą░ čĆą░čüčüčćąĖčéą░ąĮą░ ąĮą░ čüąŠčĆąŠą║ ą┐čÅčéčī čüąĄą║čāąĮą┤ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ.
ąĪą░ą╗č乥čéą║ąĖ! ą¤ąŠą║čāčłą░ą╗ąĖ ŌĆō čāčéčĆąĖč鹥 ą│čāą▒čŗ ąĖ
ą┐ą░ą╗čīčćąĖą║ąĖ! ąśąĘ‑ąĘą░ č鹥čüąĮąŠčéčŗ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą┤ąŠčüčéą░čéčī ą│ą╗čāą▒ąĖąĮ ąØąÉąŚą░,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą╝ąĖąĮčāčéąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą▓čŗčĆčÅąĮąĖčÅ ąĖąĘą▓ą╗ąĄą║ ą┐ą╗ąŠčüą║čāčÄ ą▒ą░ąĮąŠčćą║čā čĆčŗą▒ąĮąŠą│ąŠ
ą┐ąĄč湥ąĮąŠčćąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░čłč鹥čéą░, čüčŖąĄčüčéčī ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▒ąĄąĘ čģą╗ąĄą▒ą░ ąĖą╗ąĖ čüčāčģą░čĆąĖą║ąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ
ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ ąČąĖčĆąĮąŠčüčéąĖ. ą×ąĮ ąĘą░ą▒ąĖą╗ čĆčāą║čā ąĄčēąĄ ą│ą╗čāą▒ąČąĄ ąĖ ą▓čŗčéą░čēąĖą╗
ą▒čĆąĖą║ąĄčé čüą┐čĆąĄčüčüąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čäčĆčāą║č鹊ą▓, ąĮą░ čÅąĘčŗą║ąĄ ą┐ąĖą╗ąŠč鹊ą▓ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ą║ąŠą╝ą┐ąŠč鹊ą╝.
ąĪąŠą▓ą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ą╣ą┤ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊ą▓ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąŠąĮ, ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĖą▓
čāčüąĖą╗ąĖąĄ, čüą╝ąĄčüčéąĖą╗ čüčéą▓ąŠą╗ ąĮąĄą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą┐čĆąŠąĮąĖą║ ą║ąŠ ą┤ąĮčā ą╝ąĄčłą║ą░ ąĖ
ąĮą░čēčāą┐ą░ą╗ ąĮąĄčćč鹊 ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠąĄ ąĖ ą┐ą╗ąŠčüą║ąŠąĄ ŌĆō ą▒čŗą▓ą░ą╗ąŠ, čćč鹊 čéą░ą║ čāą┐ą░ą║ąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖ čüčŗčĆ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ, ą▓čŗčéčÅąĮčāą▓ čüąĄą╣ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčé, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗ ąĘą░ą┐ą░čüąĮąŠą╣ ą╝ą░ą│ą░ąĘąĖąĮ ą║
ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéčā ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ, 菹┤ą░ą║ ą┐ą░čéčĆąŠąĮąŠą▓ ąĮą░ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī. ąŚą░ą┐ąĖčģą░ą▓
ąĮą░ąĘą░ą┤ ąĮąĄčüčŖąĄą┤ąŠą▒ąĮąŠąĄ, ąŠąĮ ą▓čŗą┤čĆą░ą╗ ą┐ą░ą║ąĄčé čü čüčāčģąĖą╝ ą┐ąĄč湥ąĮčīąĄą╝, ąĖčüą║čĆąŠčłąĄąĮąĮčŗą╝
ą▓ą┤čĆąĄą▒ąĄąĘą│ąĖ, ąĮąŠ čŹč鹊 čüčéą░ą╗ąŠ čüą░ą╝ąŠą╣ ą┐čĆąĖąĄą╝ą╗ąĄą╝ąŠą╣ ą┐ąĖčēąĄą╣, čģąŠčéčÅ ąŠčé ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ąČąĄ
ą│ąŠčĆčüčéąĖ ą║čĆąŠčłąĄą║ ą┐ąŠą┐ąĄčĆčģąĮčāą╗čüčÅ ąĖ ąĘą░čģąŠč鹥ą╗ ą┐ąĖčéčī. ąÆąŠą┤ą░ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ąĮąĄ ą▓ ąØąÉąŚąĄ,
ą░ ą▓ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╣ čäą╗čÅą│ąĄ čü čĆčāčćąĮčŗą╝ ąĮą░čüąŠčüąŠą╝, čüč鹊ąĖčé ą╗ąĖčłčī ąĘą░čģą▓ą░čéąĖčéčī čüąŠčüąŠą║
ą│čāą▒ą░ą╝ąĖ ąĖ ą║ą░čćąĮčāčéčī čĆčŗčćą░ą│ąŠą╝. ąÜąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čéą░ą║ąĖąĄ ą┐ąĖčéčīąĄą▓čŗąĄ ą▒ą░čćą║ąĖ ąĘą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ
ąĮą░čƹʹ░ąĮąŠą╝ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ čüąŠą║ąŠą╝, ąĮąŠ čüąĄą╣čćą░čü ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ą▓ čüąŠčüčāą┤ąĄ
ą┐čāčüč鹊.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą┐čĆąŠ čüąĄą▒čÅ čĆčāą│ąĮčāą╗ č鹥čģąĮąĖą║ą░ ąĖ
čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░ą╗ąĄąĘ ą▓ ąØąÉąŚ: ą║ą░ąČąĄčéčüčÅ, ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąĖ ąĮąĄ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĮąĄ
č鹊ą╗čīą║ąŠ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░, ąĮąŠ ąĖ čāą╝ą░ čā čüą╗čāąČą▒ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ ŌĆō ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĖą▓ ąĮąĄą╝ą░ą╗čŗąĄ
čāčüąĖą╗ąĖčÅ, ąŠąĮ čü čéčĆčāą┤ąŠą╝ ąĖąĘą▓ą╗ąĄą║ ą║čĆčāą│ą╗čāčÄ ą▒ą░ąĮą║čā ŌĆō ąĮą░ ąŠčēčāą┐čī čü čéčāčłąĄąĮą║ąŠą╣ ąĖąĘ
ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüčāčģą┐ą░čÅ, ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ čćč鹊‑č鹊 ą┐ąŠčģąŠąČąĄąĄ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄčćąĮąĖčåčā,
ąĮą░čćąĖąĮąĄąĮąĮčāčÄ ąČąĄą╗č鹊ą▓ą░čéčŗą╝, ą╗ąĄą│ą║ąŠą▓ąĄčüąĮčŗą╝ ą┐ąŠčĆąŠčłą║ąŠą╝. ąś čģą▓ą░čéąĖą╗ąŠ čāą╝ą░
ą┐ąŠąĮčÄčģą░čéčī ŌĆō ąŠčé čćąĖčģą░ čćčāčéčī ą£ąśąōą░čĆčÅ ąĮąĄ ąŠą┐čĆąŠą║ąĖąĮčāą╗: ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąŠčćąĖčéą░ą╗
čŹčéąĖą║ąĄčéą║čā, ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čŹč鹊 čüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠ ąŠčé čüąŠą▒ą░ą║, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĖą┤čéąĖ
ą┐ąŠ čüą╗ąĄą┤čā, ą│čĆčāą▒ąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ, čéą░ą▒ą░čćąĮą░čÅ ąĖą╗ąĖ čģčĆąĄąĮ ąĘąĮą░ąĄčé ą║ą░ą║ą░čÅ ą┐čŗą╗čī.
ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, čŹč鹊čé ąØąÉąŚ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖ ą┐ąŠ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠą╝čā ą┐čĆąĖą║ą░ąĘčā, ąĮą░ ą▓čüąĄ čüą╗čāčćą░ąĖ
ąČąĖąĘąĮąĖ, ąĮąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąĄčĆąĄą║čāčüąĖčéčī ą▓ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ čüčāčéą║ąĖ ąĮąĄ
ąČčĆą░ą▓čłąĄą╝čā ą╗ąĄčéčćąĖą║čā. ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗąĄ ąŠą│čĆą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ ą▓ąĄčēąĄą╣, ąĮąŠ ą┐ąŠ
ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÄ ąĄčēąĄ čüčéą░čĆąŠą╣, čüąŠą▓ąĄčéčüą║ąŠą╣ ąĘą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĄ, čüą▓ąĄčĆčģčā ą▓ ŌĆ£ą╝ą░ą╗čÅą╝ą▒ą░čģŌĆØ
ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ čłąŠą║ąŠą╗ą░ą┤, čüą░čģą░čĆ, ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą║čāčĆą░, čüą░ą╗ąŠ, ą╝ą░čüą╗ąŠ,
ą┐čĆąĄčüčüąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ čģą╗ąĄą▒čåčŗ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čüą┐ąĖčĆčé ą▓ ąČąĄčüčéčÅąĮčŗčģ ą▒ą░ąĮą║ą░čģ.
ąōčĆą░ą▒ąĖčéčī ąØąÉąŚ ą▓ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ąĮąĄą▓ąĄčüąŠą╝ąŠčüčéąĖ
ą▒čŗą╗ąŠ ąĖ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĖ ą┐ą╗ąŠčģąŠ: ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ čüąĖą╗čīąĮąŠ čāą▓ą╗ąĄą║ą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠą▒čŗč湥ą╣
ą┐ąĖčēąĖ ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ą▒ąĄąĘ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆčŗ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō čéą░ą║ ąĮąĄą┤ąŠą╗ą│ąŠ
ą┐ąŠč鹥čĆčÅčéčī ą▒ą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī, čćčāą▓čüčéą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĖ ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ. ąØąŠ ą▓ ą╝ąĄčłą║ąĄ
ą▒čŗą╗ąŠ čćč鹊‑č鹊 čüąŠą▒ą╗ą░ąĘąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, čĆčāą║ą░ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░ ą║čĆą░ąĄčłą║ąĖ
ą║ą░ą║ąĖčģ‑č鹊 ą▒ą░ąĮąŠą║ ąĖ ą┐ą░ą║ąĄč鹊ą▓, ąĮąŠ ąĖąĘ‑ąĘą░ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą▓ą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüą▓ąĄčĆčģčā ąĖą┤ąĖąŠč鹊ą╝
ąĖąĘ čüą╗čāąČą▒čŗ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄč湥ąĮąĖčÅ, čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠčüčī ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗą╝ ą▓čŗčüą║čĆąĄčüčéąĖ ąĖą╗ąĖ
ąĘą░čåąĄą┐ąĖčéčī čćč鹊‑ą╗ąĖą▒ąŠ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, čŹč鹊čé ąĖą┤ąĖąŠčé ąĘąĮą░ą╗, ą║ą░ą║ ą│čĆą░ą▒čÅčé ąĘą░ą┐ą░čüčŗ ą▓
ą┐ąŠą╗ąĄč鹥, ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąĖ ąĘą░ą┐ąĖčģą░ą╗ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čé čüą▓ąĄčĆčģčā, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĄą╝čā ąĖ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĮąĄ
ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ, čćč鹊 ą▓ ą╝ąĄčłąŠą║ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąŠąĮąĖą║ąĮčāčéčī čü ą┐ąŠą╝ąŠčēčīčÄ čäąĖą│čāčĆ ą▓čŗčüčłąĄą│ąŠ
ą┐ąĖą╗ąŠčéą░ąČą░ ąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┐ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ. ąØąŠ čā ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čüą╗čāąČą▒čŗ ą▒čŗą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖ
čüąĄą║čĆąĄčéčŗ, čéčĆčāą┤ąĮąŠčüčéąĖ čüąŠąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ, ąĖąĮą░č湥 ą▓ąĄčćąĮąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗąĄ
ą┐ąĖą╗ąŠčéčŗ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ, čģąŠą╗ąŠčüčéčŗąĄ, ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą▒čŗ ąŠą▒čŖąĄą╗ąĖ ąÆąÆąĪ čüčéčĆą░ąĮčŗ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓čüą║čĆčŗą╗ čĆčŗą▒čīčÄ ą┐ąĄč湥ąĮą║čā ąĖ čüčéą░ą╗
ąĄčüčéčī ą▒ąĄčĆąĄąČąĮąŠ, čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čģąŠčéčÅ ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ą▓. ąØąŚ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗčéčī ą╗ąŠąČą║ą░; ąĖ ąĮąĄ
ąĖąĘ ąČą░ą┤ąĮąŠčüčéąĖ ąĖą╗ąĖ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ ŌĆō čāčĆąŠąĮąĖ ą║čĆąŠčłą║čā ą▓ čŹč鹊ą╣ č鹥čüąĮąŠą╣ ąĖ ąĮąĄąČąĮąĄą╣čłąĄą╣
ą╝ą░čłąĖąĮąĄ, čéą░ą║ čćč鹊‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ąĮąĄą┐čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĘą░ą╝ą║ąĮąĄčé, ąŠčéą║ą╗čÄčćąĖčéčüčÅ, ąĘą░ą║ą╗ąĖąĮąĖčé ąĖ
ą┐ąŠčüą╗čāąČąĖčé ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čüą▒ąŠčÅ ąĖą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą║ą░čéą░čüčéčĆąŠčäčŗ. ąØąĄ ą║ą░ą▒ąĖąĮą░ ą▒ąŠąĄą▓ąŠą│ąŠ
ąĖčüčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čÅ ŌĆō čüč鹥čĆąĖą╗čīąĮą░čÅ ąŠą┐ąĄčĆą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ.
ąÆ čüą╝ąĄčüąĖ čü ąĮąĄčüą╗ą░ą┤ą║ąĖą╝ ą┐ąĄč湥ąĮčīąĄą╝
ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĖč湥ą│ąŠ, ąĖ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, čāą▓ą╗ąĄą║čłąĖčüčī ą┐ąĖčēąĄą╣, ąŠąĮ ąŠčēčāčéąĖą╗
čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤ąĮąŠ ą┤ą░ąČąĄ ą▒ąĄąĘ ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą╝ą░čüą║ąĖ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 ąĖčüč湥ąĘą╗ąĖ ąĖą╗ąĖ
čüą║čĆą░čüąĖą╗ąĖčüčī ąĮąĄą┐čĆąĖčÅčéąĮčŗąĄ ąĘą░ą┐ą░čģąĖ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, čćčāčéčī ą┐ąŠčēąĖą┐čŗą▓ą░ą╗ąŠ
čĆą░ąĘą▒ąĖčéčŗąĄ ą│čāą▒čŗ, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÅ ąŠ ą▓č湥čĆą░čłąĮąĄą╣ čüčéčŗčćą║ąĄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮą░ ą▓čŗčüąŠč鹥 ą┤ą░ąČąĄ
ą┐ąŠą╗čāč鹊čĆą░ čéčŗčüčÅčć ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą▓čüąĄ ąĘąĄą╝ąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝čŗ ąŠčüčéą░ą╗ąĖčüčī čéą░ą║ ąČąĄ ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ,
č鹥ą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą│čĆąĄą╗ą░ ą╝čŗčüą╗čī, čćč鹊 ąŠąĮ ą╗ąĄčéąĖčé ą▓ čüčéčĆą░ąĮčā, ą║čāą┤ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüčéą▓ąŠ
ąĖčüą║ą░ą╗ąŠ ą┐čāčéąĖ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą┐ąŠą╗č鹊čĆčŗ čéčŗčüčÅčćąĖ ą╗ąĄčé, č鹊 ąĄčüčéčī ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓čüčÄ
čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║čāčÄ ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ.
ąöąŠąĄą┤ą░čÅ ą┐ąĄč湥ąĮčī, ąŠąĮ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĮą░
菹║čĆą░ąĮąĄ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆą░ ąĘą▓ąĄąĘą┤čā, ą╝ąĄčĆčåą░čÄčēčāčÄ ą┐čĆčÅą╝ąŠ ą┐ąŠ ą║čāčĆčüčā ŌĆō ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ,
ą▓čüčéčĆąĄčćąĮčŗą╣ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčé, čüčāą┤čÅ ą┐ąŠ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮąŠą╣ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖčÅ, ąĖ
ą╝ą░čłąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠ čāą▓ąĄą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ąĮą░ ą┤ąĄčüčÅčéčī ą│čĆą░ą┤čāčüąŠą▓ ą▓ą╗ąĄą▓ąŠ, čĆą░ąĘą╝ąĖąĮčāą╗čüčÅ ą┐ąŠ
ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ą╝ ąĖ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą▓ čéčĆą░ą┐ąĄąĘčā, čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą▒ą░ąĮą║čā ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ.
ąś ąĄą┤ą▓ą░ čāą│ąĮąĄąĘą┤ąĖą╗čüčÅ ą▓ ą║čĆąĄčüą╗ąĄ, ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖą▓
čĆąĄą╝ąĮąĖ, ą║ą░ą║ čüą▓ąĄčéčÅčēąĖą╣čüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčé ŌĆō ą║čĆčāą┐ąĮą░čÅ ą▓ąĄč湥čĆąĮčÅčÅ ąĘą▓ąĄąĘą┤ą░ ą▓ąĮąŠą▓čī
ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ąĮą░. ą║čāčĆčüąĄ, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ą░čÅ č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ ą▓ąĖąĘčāą░ą╗čīąĮąŠ. ąś ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ą░ ąŠąĮą░
čüčéčĆą░ąĮąĮąŠą▓ą░č鹊 čÅčĆą║ąŠ ąĮą░ č乊ąĮąĄ čüą▓ąĄčéą╗ąŠą│ąŠ ąĄčēąĄ ąĮąĄą▒ą░. ąś ą▒čŗą╗ą░, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĮąĄ
čüą░ą╝ąŠą╗ąĄč鹊ą╝, ą░ ąĘąŠąĮą┤ąŠą╝, ąŠčéą┐čāčēąĄąĮąĮčŗą╣ ą╝ąĄč鹥ąŠčĆąŠą╗ąŠą│ą░ą╝ąĖ, ąĮąŠ ąĖ čü ąĮąĖą╝
čüčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ąŠčģąŠčéčŗ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čĆąĄąĘą║ąŠ ą┐ąŠą┤ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗
ą▓ą▓ąĄčĆčģ ąĮą░ čéčĆąĖčüčéą░ ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ čŹč鹊čé čłą░čĆąĖą║ ą┐ąŠąĘą░ą┤ąĖ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüą┐čāčüčéčÅ ą╝ąĖąĮčāčéčā čŹč鹊čé čłą░čĆąĖą║ čüąĮąŠą▓ą░
ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ, č鹥ą┐ąĄčĆčī čüą┐čĆą░ą▓ą░, ąĖ čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠčłąĄą╗ ąĮą░ čüą▒ą╗ąĖąČąĄąĮąĖąĄ, ą▒čāą┤č鹊
ą░čéą░ą║ąŠą▓ą░ą╗! ąÆ č鹊čé ą╝ąĖą│ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ, ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłąĄą┤čłčāčÄ čü
č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╝ ą¢čāą║ąŠą▓čŗą╝, ąĖ ąĮą░ą┐čĆčÅą│čüčÅ, ą│ąŠč鹊ą▓čŗą╣ čüąŠą▓ąĄčĆčłąĖčéčī ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą▓ąĖčĆą░ąČ ąĖ čāą╣čéąĖ,
ąĮąŠ čłą░čĆ ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠ čĆą░čüą┐ą╗čÄčēąĖą╗čüčÅ, čüčéą░ą╗ ą┐ąŠčģąŠąČ ąĮą░ ąČąĄą╗čéčāčÄ čéčŗą║ą▓čā, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčé
čüą┐ąĄą╗ąŠčüčéąĖ ąŠąĮą░ ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčé čüą▓ąĄčéąĖčéčīčüčÅ ąĖąĘąĮčāčéčĆąĖ.
ąś ą▓ąŠčé čŹč鹊čé ąŠą│ąŠčĆąŠą┤ąĮčŗą╣ ąŠą▓ąŠčē, ą▒ąŠą│ ą▓ąĄčüčéčī
ą║ą░ą║ ą┐ąŠą┐ą░ą▓čłąĖą╣ ąĮą░ čéą░ą║čāčÄ ą▓čŗčüąŠčéčā, ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą┤ą┐ą╗čŗą╗ ą║ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗
čĆčÅą┤čŗčłą║ąŠą╝. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆą░ą╝ąĖ ąŠąĮ ą▒čŗą╗ ą╝ąĄčéčĆą░ č湥čéčŗčĆąĄ ą▓ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ, ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī
ą┐ą╗ąŠčéąĮą░čÅ, ą▓ąŠ ą▓čüčÅą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ąĮąĄ čüą│čāčüč鹊ą║ čüą▓ąĄčéčÅčēąĄą│ąŠčüčÅ ą│ą░ąĘą░, ąĮą░čéčāčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣
ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčé, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ čüąĄą╣čćą░čü čŹč鹊 ą▒čŗą╗ ą┐čĆąŠčüč鹊 čāč湥ą▒ąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ąĄčé, č鹊 ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ
ąŠą▒čÅąĘą░ąĮ ą▒čŗą╗ ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī, čćč鹊 ą▓ąĖą┤ąĖčé ąĮąĄąŠą┐ąŠąĘąĮą░ąĮąĮčŗą╣ ą╗ąĄčéą░čÄčēąĖą╣ ąŠą▒čŖąĄą║čé, ąŠą┐ąĖčüą░čéčī
ąĄą│ąŠ ąĖ ąČą┤ą░čéčī ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤čŗ. ą¤ąĖą╗ąŠč鹊ą▓ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 čüčéą░ą╗ąĖ ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ą┤ąĄą╗ą░čéčī čŹč鹊,
ą░ ąĮąĄ čéą░čēąĖčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ąŠčüą░ą┤ą║ąĖ ą▓ ą│ąŠčüą┐ąĖčéą░ą╗čī ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐čüąĖčģąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ
ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čīčÅ.
ŌĆō ą¤čĆąĖą▓ąĄčé ąĖąĮąŠą┐ą╗ą░ąĮąĄčéčÅąĮą░ą╝! ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ
ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ. ŌĆō ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ąĮą░ą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠ ą┐čāčéąĖ! ą¤čĆąŠčēą░ą╣č鹥, ą▒čĆą░čéčīčÅ ą┐ąŠ čĆą░ąĘčāą╝čā!
ąś čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠčéą▓ą░ą╗ąĖą╗ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā, ą┐ąŠą┤ą┐čĆčŗą│ąĮčāą▓
ąĄčēąĄ ąĮą░ čüąŠčéąĮčÄ ą╝ąĄčéčĆąŠą▓. ą×ąĮ ąĘą░ą┐ąĖčģą░ą╗ ą┐čāčüčéčāčÄ ą▒ą░ąĮą║čā ąĖ ąŠčüčéą░čéą║ąĖ čĆą░čüą║čĆąŠčłąĄąĮąĮąŠą│ąŠ
ą┐ąĄč湥ąĮčīčÅ ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ ąĘą░ą║čĆčŗą╗ ąĘą░ą╝ąŠą║ ąĖ ą▓čüčéą░ą▓ąĖą╗ č湥ą║čā ąØąÉąŚą░.
ą¤ąŠč鹊ą╝, čüąĮčÅą▓ ąŠą▒ąĄčĆčéą║čā čü ą┐čĆąĄčüčüąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ąŠčéą░, ąŠčéą│čĆčŗąĘ ą║čāčüąŠč湥ą║, ą▓čÅąČčāčēąĖą╣
čĆąŠčé, ą║ą░ą║ č湥čĆąĄą╝čāčģą░, ŌĆō čüčĆą░ąĘčā ą┐ą░čģąĮčāą╗ąŠ ą┤ąĄčéčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąĄčüčéą░ą╝ąĖ,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čüą╝ą░ą║ąŠą▓ą░čéčī ąĖ ą┐ąŠą│čĆčāąČą░čéčīčüčÅ ą▓ ą▓ąŠčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ąĮąĄ ą┤ą░ą╗ąĖ. ą¢ąĄą╗čéą░čÅ čéčŗą║ą▓ą░
ą┐ąŠą┤ą┐ą╗čŗą╗ą░ č鹥ą┐ąĄčĆčī čüą╗ąĄą▓ą░ ąĖ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ ą┐čĆąĖą╗ąĖą┐ą╗ą░ čüą▓ąŠąĖą╝ ą▒ąŠą║ąŠą╝ ą║
č乊ąĮą░čĆčÄ, ąĘą░čüą╗ąŠąĮąĖą▓ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī.
ŌĆō ąØąĄčé, čĆąĄą▒čÅčéą░, čŹč鹊 čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝! ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ
ą▓čüčÅą║ąĖąĄ ą║ąŠąĮčéą░ą║čéčŗ ąŠčéą╝ąĄąĮčÅčÄčéčüčÅ, čÅ ąĮą░ čĆą░ą▒ąŠč鹥! ąŻ ą╝ąĄąĮčÅ ą┤čĆčāą│ą░čÅ ąĘą░ą┤ą░čćą░!
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĮą░ą┤ąĄą╗ ą╝ą░čüą║čā, ąŠą┐čāčüčéąĖą╗ čüč鹥ą║ą╗ąŠ
ą│ąĄčĆą╝ąŠčłą╗ąĄą╝ą░, ą▓ąĘčÅą╗ čĆčāčćą║čā ąĮą░ čüąĄą▒čÅ ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ ąĮą░ ąĘą░ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī ą▓ąŠčüąĄą╝čī
čéčŗčüčÅčć, ą║čāą┤ą░ ąĮąĖčćč鹊 čāąČąĄ ąĮąĄ ą┤ąŠą╗ąĄčéą░ą╗ąŠ ąĖąĘ‑ąĘą░ ą╝ąŠčĆąŠąĘą░ ą▓ ą▓ąŠčüąĄą╝čīą┤ąĄčüčÅčé
ą│čĆą░ą┤čāčüąŠą▓, ąĖ ą│ą┤ąĄ, ąĖą╝ąĄčÅ ą▒ąŠčĆč鹊ą▓čāčÄ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčāŌĆØ, ą╝ąŠąČąĮąŠ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą▓ą░čéčī
ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗčģ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆąŠą▓ ąĖ ąĮąĄ ą▒ąŠčÅčéčīčüčÅ čüčéčĆąŠą│ąŠą│ąŠ čüą╗ąĄąČąĄąĮąĖčÅ čü ąĘąĄą╝ą╗ąĖ.
ąÆąŠčé ą│ą┤ąĄ ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąŠą╗čÅ!
ąś čüąĮąŠą▓ą░ ąŠčēčāčéąĖą╗ ą▓čüąĄ ą┐čĆąĄą╗ąĄčüčéąĖ
ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčāąĘą║ąĖ, ą┐ąŠą║čĆčÅčģč鹥ą╗, ą┐ąŠčüč鹊ąĮą░ą╗, ą┐ąŠą╝ą░č鹥čĆąĖą╗čüčÅ ą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ ąĖ ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗
ąŠą▒ą╗ąĄą│č湥ąĮąĮąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┤ąŠčüčéąĖą│ čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ ąĖ ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčüą░ąĮąĮąŠą╣ ą▓čŗčüąŠčéčŗ. ąØą░ 菹║čĆą░ąĮąĄ
ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čāčüč鹊, ą▓ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ ŌĆō č鹊ąČąĄ, ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī čüą║čāčćąĮčŗąĄ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ
ą▓ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ą▓ ą▒ąĄąĘą╝ąŠą╗ą▓ąĮąŠą╝ čŹčäąĖčĆąĄ: ą┐ąŠ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ ąĄąĘą┤ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą╗ąŠčłą░ą┤čÅčģ, ą░
ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģąĄ ąĮą░ą┤ ąĮąĄą╣, ą║ą░ąČąĄčéčüčÅ, ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ ą╗ąĄčéą░ą╗.
ą¤ąŠ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖčÄ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝čā ąĘą░
čģą▓ąŠčüč鹊ą╝, ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░ą╗čüčÅ ąÉą╗čéčāą┐ ŌĆō čüą║ąŠčĆąŠčüčéčī ą▓ ą£ąśąōą░čĆąĄ ą┐ąŠąĮčÅčéąĖąĄ
ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄŌĆ”
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓čŗą║ą╗čÄčćąĖą╗ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ,
ąĘą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą┐ąŠčüą░ą┤ą║čā, ą▓čüčéą░ą╗ ąĮą░ čĆą░ą┤ąĖąŠą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ ąĖ č湥čĆąĄąĘ ą┐ą░čĆčā ą╝ąĖąĮčāčé čāąČąĄ
ą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ą┐ąŠ ą▒ąĄč鹊ąĮą║ąĄ čü čĆą░čüą┐čāčēąĄąĮąĮčŗą╝ čģą▓ąŠčüč鹊ą╝ ŌĆō č鹊čĆą╝ąŠąĘąĮčŗą╝ ą┐ą░čĆą░čłčÄč鹊ą╝.
ąĪąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ, ąŠąĮ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐čĆą░ą▓ą░ ą┐ąŠą║ąĖą┤ą░čéčī ą║ą░ą▒ąĖąĮčā, ą┐ąŠč鹊ą╝čā
ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖą╣ ąĖ ąŠą▒ąĖą╗čīąĮčŗą╣ čāąČąĖąĮ ąĘą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĮą░ ą▒ąŠčĆčé ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī, čüą┤ą▓ąĖąĮčāą▓ č乊ąĮą░čĆčī,
ą┤čŗčłą░ą╗ ą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝, čćąĖčüčéčŗą╝ ą▓ąŠąĘą┤čāčģąŠą╝ ŌĆō čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčé ąĘą░ą│ąĮą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą┤ą░ą╗čīąĮčÄčÄ čüč鹊čÅąĮą║čā
ąĖ ą┐ąŠą┤ąČąĖą┤ą░čÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čüąŠąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ąĖ ąĖ ą╝ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąĖąĄ ą▒čĆą░čéčīčÅ ąĘą░ą┐čĆą░ą▓čÅčé ąĖ
ąŠą▒čüą╗čāąČą░čé ŌĆ£ą╗ąĄą▓čāčÄŌĆØ ą╝ą░čłąĖąĮčā, čü čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝ ąĖ čéąĖą│čĆąĖąĮčŗą╝ ą░ą┐ą┐ąĄčéąĖč鹊ą╝
ą┐ąŠąČąĖčĆą░ą╗ ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ą╝čÅčüąŠ čü ąŠą▓ąŠčēą░ą╝ąĖ ąĖ ąĄčēąĄ čü č湥ą╝‑č鹊, čćč鹊 ą▓ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥 ąĮąĄ
čĆą░ąĘą│ą╗čÅą┤ąĄčéčī. ą¤ąĖčēą░ ą▒čŗą╗ą░ č鹊ąČąĄ ą╗ąĄą▓ą░čÅ, ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ ąĖąĘ čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║ąŠą╣ čüč鹊ą╗ąŠą▓ąŠą╣,
ąĮąĄ čüąŠą▓čüąĄą╝ ą┐čĆąŠąČą░čĆąĄąĮąĮą░čÅ, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čüą░ą╝čāčÄ ą╗čāčćčłčāčÄ ą║ąŠčüč鹊čćą║čā ąŠąĮ ą┤ąŠą│čĆčŗąĘčéčī ąĮąĄ
čāčüą┐ąĄą╗. ąÆ ą║ą░ą▒ąĖąĮčā ąĘą░čüčāąĮčāą╗čüčÅ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ č鹥čģąĮąĖą║ (ą░ ą╝ąŠąČąĄčé, ąĖ čüą░ą╝ čüąĄą║čĆąĄčéąĮčŗą╣
čĆąĄąĘąĖą┤ąĄąĮčé, ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą▓ą░čÄčēąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĄčé), čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą┐ąŠą╗čāčłąĄą┐ąŠč鹊ą╝:
ŌĆō ą¤ąŠą╗ąĮčŗą╣ ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║, ąĘą░ą┐čāčüą║ą░ą╣čüčÅ ąĖ
ą▓čŗčĆčāą╗ąĖą▓ą░ą╣ ą▒ąĄąĘ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤čŗ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąŠčéą┤ą░ą╗ ąĄą╝čā čüčāą┤ą║ąĖ ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ čāąČąĖąĮą░,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮąĄą┤ąŠąĄą┤ąĄąĮąĮčāčÄ ą║ąŠčüč鹊čćą║čā ąĘą░ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ą▓ ą┐ą░ą║ąĄčé ąĖ čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ.
ŌĆō ąØčā, č鹊ą│ą┤ą░ ŌĆō čģąŠą┐!
ąś ąŠą┐čÅčéčī ą▓ąĘą╗ąĄč鹥ą╗ ą▓ ąĮąŠčćąĮąŠąĄ, ąĮąĄą┐čĆąŠą│ą╗čÅą┤ąĮąŠąĄ
ąŠčé čéčāčć ąĮąĄą▒ąŠ. ą¤čĆąŠą▒ąĖą▓ čüą┐ą╗ąŠčłąĮčāčÄ ąŠą▒ą╗ą░čćąĮąŠčüčéčī ąĖ ąŠą║ą░ąĘą░ą▓čłąĖčüčī ą┐ąŠą┤ ąĘą▓ąĄąĘą┤ą░ą╝ąĖ,
ąŠąĮ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ąĮą░ ą║čāčĆčü, ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčāŌĆØ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĮčīčłąĄ, č湥ą╝
ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ŌĆō čĆąĄąĘą║ąŠ ąĖčüč湥ąĘą░čéčī čü 菹║čĆą░ąĮąŠą▓ čģąŠčéčī ąĖ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆąŠą▓,
ąĘąĮą░čćąĖčé, ą▓čŗąĘą▓ą░čéčī čéčĆąĄą▓ąŠą│čā ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ŌĆō ąĖ čĆąĄčłąĖą╗ ą┤ąŠą▓ąĄčĆčłąĖčéčī ąĮą░čćą░čéčŗą╣
čāąČąĖąĮ, ą░ čāąČ ą┐ąŠč鹊ą╝ ąĘą░ą▒ąĖčĆą░čéčīčüčÅ ą▓ ą╗ąĄą┤čÅąĮčāčÄ čüąĖąĮąĄą▓čā. ą×ąĮ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐ąŠą╗čāčćąĮąŠ ą┤ąŠą│čĆčŗąĘ
ą║ąŠčüč鹊čćą║čā, ąĘą░čüčāąĮčāą╗ ąĄąĄ ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ ąĖ ąĮą░ą┐ąĖą╗čüčÅ: ą░ą║ą║čāčĆą░čéąĮčŗąĄ ąĖ ąĘą░ą┐ą░čüą╗ąĖą▓čŗąĄ
ą┐čāčüčéčŗąĮąĮčŗąĄ ąČąĖč鹥ą╗ąĖ ŌĆō ą╝ąŠąĮą│ąŠą╗čŗ ąĘą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą┐ąĖčéčīąĄą▓ąŠą╣ ą▒ą░č湊ą║. ąś ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠ
ąŠą┐čÅčéčī čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą╗ąĄčéą░čÄčēčāčÄ čéčŗą║ą▓čā!
ą×ąĮą░ ąĮąĄčüą┐ąĄčłąĮąŠ ą▓čŗą┐ąĖčüą░ą╗ą░ ą║čĆčāą│ ą┐ąĄčĆąĄą┤
ą£ąśąōą░čĆąĄą╝, čüą║ąŠą╗čīąĘąĮčāą╗ą░ ą▓ąĮąĖąĘ ąĖ, ą┐ąŠčćčéąĖ ą║ą░čüą░čÅčüčī ąŠą▒čłąĖą▓ą║ąĖ, ą┐čĆąŠą┐ą╗čŗą╗ą░ ą║
čģą▓ąŠčüč鹊ą▓ąŠą╝čā ąŠą┐ąĄčĆąĄąĮąĖčÄ ąĖ čéą░ą╝ ąĘą░čüčéčĆčÅą╗ą░. ąóčāčé čāąČ čüčéą░ą╗ąŠ ąĮąĄ ą┤ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆąŠą▓ čü
ą╝ąĮąĖą╝čŗą╝ąĖ ąĖąĮąŠą┐ą╗ą░ąĮąĄčéčÅąĮą░ą╝ąĖ, ąŠčéč湥ą│ąŠ‑č鹊 ą┤ąĄčéčüą║ąĖą╣ ąĘąĮąŠą▒čÅčēąĖą╣ čüčéčĆą░čģ ąŠčģąŠą╗ąŠą┤ąĖą╗
ąĘą░čéčŗą╗ąŠą║ ąĖ čüčéčÅąĮčāą╗ ą║ąŠąČčā ąĮą░ ą╝ą░ą║čāčłą║ąĄ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąŠą┐čāčüčéąĖą╗ čüč鹥ą║ą╗ąŠ ą│ąĄčĆą╝ąŠčłą╗ąĄą╝ą░ ąĖ
ąĘą░ą║čĆčÅčģč鹥ą╗ ąŠčé ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčāąĘą║ąĖ ŌĆō čéą░ą║ ą╗ąĄą│č湥 ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüąĖą╗ą░čüčī čéčÅąČąĄčüčéčī ą▓ č鹥ą╗ąĄ. ąØąĄ
ąĘčĆčÅ čĆąŠąČąĄąĮąĖčå ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé ą║čĆąĖčćą░čéčīŌĆ”
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī čüąĄą║čāąĮą┤ ą│ą╗ą░ąĘ, ą┐čĆąĖą▓čŗą║čłąĖą╣
ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ čüčćąĖčéčŗą▓ą░čéčī ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆąŠą▓, ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░čåąĄą┐ąĖą╗čüčÅ ąĘą░ ą▒ąŠčĆč鹊ą▓ąŠą╣
ą║ąŠą╝ą┐ą░čü.
ąÆąĘą╗ąĄčéą░čÅ čü ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ čüąŠą▓ąĄčéčüą║ąŠą│ąŠ ą░čŹčĆąŠą┤čĆąŠą╝ą░
ą▓ ąÉą╗čéčāą┐ąĄ, ąŠąĮ ą▓ąĘčÅą╗ ą║čāčĆčü čüčéčĆąŠą│ąŠ ąĮą░ čÄą│, ąĮą░ ąōčāą╣čüą░ąĮ, ą░ čéčāčé ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗, čćč鹊
ą╗ąĄčéąĖčé ą▓ ąŠą▒čĆą░čéąĮčāčÄ čüč鹊čĆąŠąĮčā, č鹊 ąĄčüčéčī ąĮą░ čüąĄą▓ąĄčĆ ŌĆō ąĮą░ ą×čĆąŠą│. ąØąĄ ą▓ąĄčĆčÅ čéą░ą║ąŠą╝čā
čćčāą┤čā, ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą┐čĆąŠč鹥čüčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĮąŠčüčéčī ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░, čāą▒čĆą░ą╗ čéčÅą│čā ąĖ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗
ą▒ąŠąĄą▓ąŠą╣ čĆą░ąĘą▓ąŠčĆąŠčé. ą£ą░čĆčłčĆčāčé ą▒čŗą╗ ą░ą▒čüąŠą╗čÄčéąĮąŠ ąĮąŠą▓čŗą╝, ąĮąĄ ąĖąĘą▓ąĄą┤ą░ąĮąĮčŗą╝, ąĖ ą▓čüąĄ
čĆą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčüč鹊 ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ, ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ čāč湥čüčéčī, čćč鹊 čāą▓ą╗ąĄą║čüčÅ
ąŠą│čĆą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ąØąÉąŚą░. ąĢčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ąŠąĮ ąĮąĄ ąĘą░čüąĄą║ ą▓čĆąĄą╝čÅ, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╗ąĄč鹥ą╗
ąŠą▒čĆą░čéąĮčŗą╝ ą║čāčĆčüąŠą╝, ą┐ąŠčüčćąĖčéą░ą╗, čćč鹊 ą╝ąĖąĮčāčé ą┐čÅčéčī, ąĖ čćč鹊ą▒čŗ ąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī
ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ, ąŠąĮ ąĘą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠąŠčĆą┤ąĖąĮą░čéčŗ č湥čĆąĄąĘ čüą┐čāčéąĮąĖą║ąŠą▓čāčÄ
čüąĖčüč鹥ą╝čā ąōą¤ąĪ ŌĆō ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║čāčÄ čüą╗čāąČą▒čā ą║ąŠčüą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąŠčĆąĖąĄąĮčéą░čåąĖąĖ, ą║ąŠčĆąŠč湥,
ą║čĆčāąĖąĘą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čī ą▓ ąĘąĄą╝ąĮąŠą╝ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĖ, ąĖ č湥čĆąĄąĘ ą╝ąĖąĮčāčéčā ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗
ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ą┤ą▓ąĖąČąĄčéčüčÅ ą▓ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ ą║čāą┤ą░ ąĮą░ą┤ąŠ čü
ąĮąĄąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ąŠčéą║ą╗ąŠąĮąĄąĮąĖąĄą╝.
ą¤ąĄčĆąĄčüąĄč湥ąĮąĖąĄ čĆčāą▒ąĄąČąĄą╣ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ
ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī ąĮą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠą╣ ą▓čŗčüąŠč鹥, č鹊 ąĄčüčéčī ąĮą░ čāčüą╗ąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéąĖ ą▓ąŠčüčīą╝ąĖ
čéčŗčüčÅčćą░čģ, ąĖ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓, ą┐ąŠą┤ą▒čĆąŠčüąĖą▓ ą│ą░ąĘčā, ą▓ąĘčÅą╗ čĆčāčćą║čā ąĮą░ čüąĄą▒čÅ. ą£ąśąōą░čĆčī ą▒čŗą╗
čģąŠčĆąŠčłąŠ ąŠą▒ą║ą░čéą░ąĮąĮčŗą╝, ąĮąŠą▓čŗąĄ ą┤ą▓ąĖąČą║ąĖ čéčÅąĮčāą╗ąĖ ąŠčéą╗ąĖčćąĮąŠ, ąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąĄą╝čā
ąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ą░čüčī, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ąĮąĄ ąĘą░ą┐ą░čģ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄ, ąŠčé ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čüą┐ą░čüą░ą╗ą░
ą╗ąĖčłčī ą║ąĖčüą╗ąŠčĆąŠą┤ąĮą░čÅ ą╝ą░čüą║ą░. ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą┤ą▓ąĄ‑čéčĆąĖ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ, ąĮąĄ ą▒čāą┤čī ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčŗŌĆØ,
ąĄą│ąŠ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖčéčī ąĮą░čłąĖ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆčēąĖą║ąĖ ą¤ąÆą×, ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓
ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ, ąĘą░č鹥ą╝ ą║ąĖčéą░ą╣čåčŗ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą┐ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ą╝ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ čāą║čĆčŗą▓ą░ą╗
ąĄą│ąŠ čéą░ą║ ąĮą░ą┤ąĄąČąĮąŠ, čćč鹊 ąĘąĄą╝ą╗čÅ čģčĆą░ąĮąĖą╗ą░ ą┐ąŠą╗ąĮąŠąĄ ą╝ąŠą╗čćą░ąĮąĖąĄ. ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗
čüčéą░ąĮčåąĖčÄ ąĖ čüčéą░ą╗ čüą╗čāčłą░čéčī čŹčäąĖčĆ: čćč鹊 čéą░ą╝ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé ą┤ąŠą▒ą╗ąĄčüčéąĮčŗąĄ ąĘą░čēąĖčéąĮąĖą║ąĖ
ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗčģ čĆčāą▒ąĄąČąĄą╣?
ą£ąĖąĮčāčéčŗ čŹčéąĖ ą┐čĆąŠčüą║ąŠčćąĖą╗ąĖ ą▒čŗčüčéčĆąŠ, ąĘą░čĆąĄą▓ąŠ
ąĘą░ą║ą░čéą░ čāą│ą░čüą╗ąŠ, ąĖ ąĮąĄą▒ąŠ ąĘą░ąĖčüą║čĆąĖą╗ąŠčüčī ąŠčé ą║čĆčāą┐ąĮčŗčģ ąĘą▓ąĄąĘą┤ ŌĆō ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ą░:
ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗą╣ čēąĖčé ą┤čĆčāąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ čüčéčĆą░ąĮ ą▒čŗą╗ ą┤čŗčĆčÅą▓čŗą╝ ą║ą░ą║
čĆąĄčłąĄč鹊. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓čŗą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ą┐ą░čāąĘčā ąĄčēąĄ ą▓ ą┐čÅčéčī ą╝ąĖąĮčāčé ąĖ ą▓čŗčłąĄą╗ ą▓ čŹčäąĖčĆ. ąōčĆčāą▒ąŠ
ą┤čĆą░ąĘąĮąĖčéčī čŹčéąĖčģ ą│čāčüąĄą╣ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąŠąĮ čüčģčāą╗ąĖą│ą░ąĮąĖą╗
ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ, ąĮąĄ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░čÅ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą┐ąŠąĘčŗą▓ąĮąŠą│ąŠ, ą┐ąŠą┐čĆąĖą▓ąĄčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ą┤ąŠą▒ą╗ąĄčüčéąĮčŗčģ ąĖ
ąĮąĄą┤čĆąĄą╝ą╗čÄčēąĖčģ čüčéčĆą░ąČąĄą╣ ą╝ąĖčĆąĮąŠą│ąŠ ąĮąĄą▒ą░ ąĮą░ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╝ ŌĆō ą┐čāčüčéčī ą┐ąŠą╗ąŠą╝ą░čÄčé
ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ!
ąĪčéčĆą░ąČąĖ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░ą╗ąĖ, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠč鹊ą╝čā,
čćč鹊 ą▓ č鹊čé čćą░čü ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ą░čüčī ą│čĆąŠąĘą░ ŌĆō ąŠą│ąĮąĄąĮąĮčŗąĄ čüą┐ąŠą╗ąŠčģąĖ ą▓čŗčüą▓ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ąĖ
ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī čéčāčć, ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ąĘą░ąČąĖą│ą░čÅ ąĮąĄą│ą░čüąĮčāčēąĖąĄ, ą║ą░ą║ ą┤čāą│ąŠą▓ą░čÅ
čüą▓ą░čĆą║ą░, ą╝ąŠą╗ąĮąĖąĖ. ąØą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ čłąĄą╗ ą┤ąŠąČą┤čī, ą░ ąĘą┤ąĄčüčī, ą┐ąŠą┤ ąĘą▓ąĄąĘą┤ą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ąĖąĮčāčü
čłąĄčüčéčīą┤ąĄčüčÅčé ą┤ą▓ą░. ą¤ąĄčĆąĄą┤ č鹥ą╝ ą║ą░ą║ ą▓ąŠą╣čéąĖ ą▓ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆ ąĖ ą╝ą░čģąĮčāčéčī č湥čĆąĄąĘ
ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąŠąĄ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ, ąŠąĮ ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ čüą▓ąĄčĆąĖą╗ ą║čāčĆčü čü
ŌĆ£ą║čĆčāąĖąĘą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĄą╝ŌĆØ ąĖ, čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĮčŗą╣, čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ąĖą╗čüčÅ. ąöąŠ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ
ą░čŹčĆąŠą┤čĆąŠą╝ą░ ą▓ ąōčāą╣čüą░ąĮąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī čćą░čü ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī ą┤ą▓ąĄ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ, ą░ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░
ąĄčēąĄ ąĮą░ čćą░čü čüąŠčĆąŠą║ ą┤ą▓ąĄ, čéą░ą║ čćč鹊 ą┐ąŠą╗ąĄčé ą▓ ąŠą▒čĆą░čéąĮčāčÄ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąŠą▒ąŠčłąĄą╗čüčÅ
ą▒ąĄąĘą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĄąĮąĮąŠ.
ąöčĆčāąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ ąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ
ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖčÅ, čāą║čĆčŗčéą░čÅ ąŠą▒ą╗ą░ą║ą░ą╝ąĖ, ą┐ą░čüą╗ą░ čüą▓ąŠąĖčģ ą╗ąŠčłą░ą┤ąĄą╣ ąĖ ąŠą▓ąĄčå ąĮą░ čüą▓ąĄąČąĄą╣
ąĘąĄą╗ąĄąĮąĖ ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ąĄą╣ ąĮą░ą┐ą╗ąĄą▓ą░čéčī, ą║č鹊 čéą░ą╝ ąĮą░ą┤ ąĮąĄą╣ ą╗ąĄčéąĖčé; ą║ąĖčéą░ą╣čåčŗ ą▓čüąĄ
ą┐ąŠą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠ čüą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ čäą░ąĮąĘą░čģ, ąĖ ąĖą╝ čüąĮąĖą╗ąĖčüčī ą▓ą║čāčüąĮčŗą╣ čĆąĖčü, ąÜąŠąĮčäčāčåąĖą╣ ąĖ
ąÆąĄą╗ąĖą║ą░čÅ ąÜąĖčéą░ą╣čüą║ą░čÅ čüč鹥ąĮą░. ąĪ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ąĮąĄ ą┤ąŠąĮąŠčüąĖą╗ąŠčüčī ąĮąĖ ąĘą▓čāą║ą░, čŹčäąĖčĆ
ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ čćąĖčüčéčŗą╝ ąĖ ąĮąĄą┐ąŠčĆąŠčćąĮčŗą╝, ą║ą░ą║ čüčéčĆąŠą│ą░čÅ ą┤ąĄą▓ą░ ąĮą░ ą▓čŗą┤ą░ąĮčīąĄ. ąĪą║ąŠčĆąŠ
ą│čĆąŠąĘą░ ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ą┐ąŠąĘą░ą┤ąĖ, ą▓ąĮąĖąĘčā ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖą┤ąĮąĄą╗ąŠčüčī, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓
ą╝ą░ą╗ąŠąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĘą┤ą░ąĮąĮčŗčģ čüč鹥ą┐čÅčģ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĖ ąŠą│ąŠąĮčīą║ą░ ŌĆō ąŠą┤ąĮąŠ
čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄ ą╗ąĄč鹥čéčī ąĮą░ą┤ čüą┐čÅčēąĖą╝ąĖ čüą░ą╝ąŠą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮčŗą╝ąĖ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝ąĖ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą╗ąĄč鹥ą╗ ą┐ąŠ ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣ ąĖ ąŠčéą┤čŗčģą░ą╗ ąĮą░ą┤
čüčéčĆą░ąĮąŠą╣ ąŠą▓ąĄčå ąĖ čĆąĄąĘą▓čŗčģ čüą║ą░ą║čāąĮąŠą▓, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▓ą░ą╗ąĖą▓ čāčüą╗ąŠą▓ąĮčāčÄ ą│čĆą░ąĮąĖčåčā
ą£ąŠąĮą│ąŠą╗ąĖąĖ, ąĮą░čćą░ą╗ ą┤ąĄą╗ą░čéčī ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą┐ąĄčéą╗ąĖ. ą£čāą┤čĆčŗąĄ ą║ąĖčéą░ą╣čåčŗ, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ,
čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣ ąĖčüčéąĖąĮąĄ, čćč鹊 ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣ ą┐čāčéčī ąĮąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé čüą░ą╝čŗą╝
ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╝, ąĖ ąĘą░ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆčŗ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ čüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ. ą¢ąĄą╗čéčŗąĄ ą▒čĆą░čéčīčÅ
ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆ ąĮą░ą┤ čüą▓ąŠąĄą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĄą╣ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠąĮą░ ą░ą▓ąĖą░č鹥čģąĮąĖą║ąĖ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ
ą│ą░čĆą░ąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĘą░ą┐čĆą░ą▓ą║čā ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģąĄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ąĄąĮ:
ąĮąĖ ą┐ąŠą┤ ą║ą░ą║ąĖą╝ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠą│ąŠą╝ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčī ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ąĮąĖ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╝ ą▓ąĖą┤ąĄ, ąĮąĄ
ąŠčéą▓ąĄčćą░čéčī ąĮą░ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠą▓ąŠą║ą░čåąĖąĖ, ą░ ą┤ą▓ąĖą│ą░čéčī čüą▓ąŠąĖą╝ ą║čāčĆčüąŠą╝ ąĖ ąĮąĖ ąĮą░ čćč鹊
ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čēą░čéčī ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čü ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąĮąŠą╣ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüąŠą╣ŌĆØ. ąöą░ąČąĄ
ąĄčüą╗ąĖ čĆčÅą┤ąŠą╝ ą┐ąŠčÅą▓čÅčéčüčÅ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčéčŗ čüąŠą┐čĆąŠą▓ąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖ ąĮą░čćąĮčāčé ą┤ąĖą║č鹊ą▓ą░čéčī ąĮąŠą▓čŗąĄ
čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ąĖą╗ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ą┐ąŠą┐čŗčéą░čÄčéčüčÅ ą┐ąŠčüą░ą┤ąĖčéčī. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮčā ąĮąĄ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ąĖ
ą╗ąŠą│ąĖą║čā čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąĖčģ ą▓ą╗ą░čüč鹥ą╣, ąĮąŠ čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ąŠąĮą░ ą▓
ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮčŗčģ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅčģ ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░. ąÆąŠčüč鹊ą║ ŌĆō ą┤ąĄą╗ąŠ č鹊ąĮą║ąŠąĄŌĆ”
ąÉ ą┐ąŠčüą░ą┤ą║ą░ ąĖ ą┤ąŠąĘą░ą┐čĆą░ą▓ą║ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓
ąōčāą╣čüą░ąĮąĄ, ą▓ ąŠčüąŠą▒ąŠą╝, ąóąĖą▒ąĄčéčüą║ąŠą╝ ą░ą▓č鹊ąĮąŠą╝ąĮąŠą╝ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ, ą│ą┤ąĄ ąĄčüčéčī ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊
ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, čéą░ą║ąĖąĄ ąČąĄ ą╗čÄą┤ąĖ, ą║ą░ą║ ą▓ ąÉą╗čéčāą┐ąĄ, ąĖ ą│ą┤ąĄ, ą┐ąŠ čāą▓ąĄčĆąĄąĮąĖčÄ
ą╝ą░čĆą║ąĖčéą░ąĮčéą░ ąĖąĘ ąĀąŠčüą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ, ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ ą┐ąŠčüą╝ąĄąĄčé ą┐ą░ą╗čīčåąĄą╝ čéčĆąŠąĮčāčéčī.
ą¤ąŠ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ą╝ą░čĆčłčĆčāčéą░ą╝ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ
čüčģą╗ąŠą┐ąŠčéą░čéčī ŌĆ£čüčéąĖąĮą│ąĄčĆą░ŌĆØ ą▓ ąĘą░ą┤ąĮąĖčåčāŌĆ”
ąĢčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąĮąĄ čŹčéąĖ ąĘą░čÅčćčīąĖ čüą║ą░čćą║ąĖ, č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░
čģą▓ą░čéąĖą╗ąŠ ą▒čŗ ą┤ąŠ ą╝ąĄčüčéą░ ąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮčāąČą┤čŗ ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ čüą░ą┤ąĖčéčīčüčÅ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ
čüąĄą╝ąĖą┤ąĄčüčÅčéąĖ ą╝ąĖąĮčāčé ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ąŠąĮ čüąĮąĖąĘąĖą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ą┤ąŠ ą┤ąĄą▓čÅčéąĖ čéčŗčüčÅčć ą╝ąĄčéčĆąŠą▓,
ą▓čŗą║ą╗čÄčćąĖą╗ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčāŌĆØ ąĖ čüčéą░ą╗ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčéčī ą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ čäčĆą░ąĘčŗ ąĮą░ ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąŠą╝ ŌĆō
ąĄą│ąŠ ą£ąśąō čāąČąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ ą┐ąŠčÅą▓ąĖčéčīčüčÅ ąĮą░ 菹║čĆą░ąĮą░čģ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖčģ ą╗ąŠą║ą░č鹊čĆčēąĖą║ąŠą▓
ąōčāą╣čüą░ąĮą░, ą│ą┤ąĄ čüąĖčéčāą░čåąĖčÄ ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗ąĖčĆčāąĄčé čüą▓ąŠą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║.
ą¤čĆąŠčłą╗ąŠ čéčĆąĖ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ, ą┐čÅčéčī, ą▓ąŠčüąĄą╝čī ŌĆō
ąĘąĄą╝ą╗čÅ ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ą░ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąĮąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąŠą╝, ąĮąĖ ąĮą░ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ čÅąĘčŗą║ąĄ. ąÆąĮąĖąĘčā
čüą┐čĆą░ą▓ą░ ą┐čĆąŠą┐ą╗čŗą╗ąĖ ąŠą│ąĮąĖ ąæą░čé‑ąÉčĆą╗ą░ ŌĆō ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čāąĮą║čéą░, ą╗ąĄąČą░čēąĄą│ąŠ ą┐ąŠčćčéąĖ
č鹊čćąĮąŠ ą┐ąŠ ą║čāčĆčüčā, ąĖ, ąŠčéą╝ąĄčéąĖą▓ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čĆąĄčłąĖą╗ ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ
ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖčéčī č鹊čćąĮąŠčüčéčī ą╝ą░čĆčłčĆčāčéą░: č湥čĆąĄąĘ čéčĆąĖ čü ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮąŠą╣ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ ąĮą░
ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮč鹥 ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ąĮčāčéčī ąŠą│ąĮąĖ ą×čĆčāą╝‑ą¤ą░. ąś ąŠąĮąĖ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąĖ ŌĆō ąĘąĮą░čćąĖčé,
ą▓čüąĄ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠ! ąóąĄą┐ąĄčĆčī ą┤ąŠą▓ąŠčĆąŠčé ąĮą░ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī ą│čĆą░ą┤čāčüąŠą▓ ąĖ ąŠąĮ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé
č鹊čćąĮąŠ ąĮą░ ąōčāą╣čüą░ąĮ.
ąÉ ąŠąĮ ą╝ąŠą╗čćąĖčé! ąś čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčüčÅ čüą╝ąĄčłąĮąŠ ąĖ
čéčĆąĄą▓ąŠąČąĮąŠŌĆ”
ąøą░ą┤ąĮąŠ, ą┐čĆąŠą┐čāčüčéąĖą╗ąĖ ą¤ąÆą×čłąĮąĖą║ąĖ ąĖąĘ‑ąĘą░
ą│čĆąŠąĘčŗ, ąĮąŠ ą│ą┤ąĄ ąĮą░čł č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ąŠčéą▓ąĄčćą░čÄčēąĖą╣ ąĘą░ ą┐čĆąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ?
ąś ą│ą┤ąĄ čüą░ą╝ ąōčāą╣čüą░ąĮ?ŌĆ”
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ čĆą░ąĘ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą┐ąŠą┐čĆą░ą▓ą║čā
ąĮą░ ą┐čÅčéčī ą╝ąĖąĮčāčé ą┐ąŠ čĆą░čüč湥čéąĮąŠą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą░čŹčĆąŠą┤čĆąŠą╝ čéą░ą║
ąĖ ąĮąĄ ąŠą▒čŖčÅą▓ąĖą╗čüčÅ. ąŁčäąĖčĆ ą┐ąŠ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā čģčĆą░ąĮąĖą╗ čüą▓ąŠčÄ ą┤ąĄą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčīŌĆ”
ąĢčēąĄ č湥čĆąĄąĘ ą┐ąŠą╗č鹊čĆčŗ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ čāąČąĄ
ą▒čŗą╗ ąĮą░ą┤ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĄą╣ čüąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░, ąĄčüą╗ąĖ ą▓ąĄčĆąĖčéčī čĆą░čüč湥čéą░ą╝
ą▒ąŠčĆč鹊ą▓ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ą┐čīčÄč鹥čĆą░. ą×ąĮ‑č鹊 ąĮąĄ ą▓čĆąĄčé! ąĪčćąĖčéą░ąĄčé čüąĄą▒ąĄ čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ
菹╗ąĄą║čéčĆąŠąĮąĮčŗą╝ąĖ ą╝ąŠąĘą│ą░ą╝ąĖ ąĖ čüčćąĖčéą░ąĄčé, ąĖ ąĄą╝čā ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ, čćč鹊 čéčŗ čćčāą▓čüčéą▓čāąĄčłčī.
ąØą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčéčī ąĖąĘ ą║ąŠčĆąĖą┤ąŠčĆą░,
ą▓ąĄą┤čāčēąĄą│ąŠ ą▓ ąĮąĖą║čāą┤ą░ ąĖ čüąĮąĖąČą░čéčīčüčÅ: ąĄą╝čā ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā, čćč鹊 ą▓ąĮąĖąĘčā,
ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, čüą┐ą╗ąŠčłąĮą░čÅ ąŠą▒ą╗ą░čćąĮąŠčüčéčī ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ąŠą│ąĮąĄą╣, ą░ čéčāčćąĖ ą▓
ąĮąŠčćąĮąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥 ąĖą╝ąĄčÄčé ąŠą▒ą╝ą░ąĮčćąĖą▓čāčÄ č乊čĆą╝čā. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čāčĆąŠąĮąĖą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓
ą┐ąĖą║ąĖčĆčāčÄčēąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĄčé ą┤ąŠ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ąĮąĄą▓ąĄčüąŠą╝ąŠčüčéąĖ ŌĆō čģąŠčéčī čüąĮąŠą▓ą░ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╣čüčÅ
ą│čĆą░ą▒ąĖčéčī ąØąÉąŚ ŌĆō ąĖ č湥ą╝ ąĮąĖąČąĄ ą┐ą░ą┤ą░ą╗, č鹥ą╝ čÅą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮąĄąĄ ąŠčēčāčēą░ą╗, čćč鹊 ąĮąĄą▒ąŠ
ąĘą┤ąĄčüčī čćąĖčüč鹊ąĄ, ą▒ąĄąĘąŠą▒ą╗ą░čćąĮąŠąĄ ąĖ čćč鹊 ą┐ąŠą┤ ąĮąĖą╝ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠčéą║čĆčŗčéą░čÅ
ąĘąĄą╝ą╗čÅ, č鹊ą╗čīą║ąŠ č鹥ą╝ąĮą░čÅ, ąĮąĄąŠą▒ąČąĖčéą░čÅ, č湥ą│ąŠ ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ! ąØą░ ą▓čŗčüąŠč鹥
ą┐ąŠą╗čāč鹊čĆą░ čéčŗčüčÅčć ąŠąĮ ą▓čŗą▓ąĄą╗ ą╝ą░čłąĖąĮčā ą▓ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĘą░ą╗ąŠąČąĖą╗
ą║čĆčāą│.
ąÆ ąóąĖą▒ąĄčéčüą║ąŠą╝ ą░ą▓č鹊ąĮąŠą╝ąĮąŠą╝ čĆą░ą╣ąŠąĮąĄ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
ą▓čüąĄ ą▓čŗą╝ąĄčĆą╗ąŠ, ą║ą░ą║ ąĖ ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣ ą▓ąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ čåąĖą▓ąĖą╗ąĖąĘą░čåąĖąĖ. ą¤čĆąĖ čüą▓ąĄč鹥
ąĘą▓ąĄąĘą┤ ąŠąĮ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą┐ąŠą┤ čüąŠą▒ąŠą╣ ą╝ąŠčĆčēąĖąĮąĖčüčéčŗą╣ ą│ąŠčĆąĮčŗą╣ ą║čĆčÅąČ, ą┐ąŠą║čĆčŗčéčŗą╣ čĆąĄą┤ą║ąŠą╣
čģą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣ čéą░ą╣ą│ąŠą╣. ąØąĄčćč鹊 ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ čüąĄą▓ąĄčĆąĄ ąÜąĖčéą░čÅ, ąĮą░ ą£ąŠąĮą│ąŠą╗čīčüą║ąŠą╝
ąÉą╗čéą░ąĄ, ą▓ čĆą░ą╣ąŠąĮą░čģ, ą┐čĆąĖą╝čŗą║ą░čÄčēąĖčģ ą║ ą¦ąĖčéąĖąĮčüą║ąŠą╣ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ ąÜą░ąĘą░čģčüčéą░ąĮčā, ą┤ą░,
ą┐ąŠąČą░ą╗čāą╣, ąĖ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą│ąŠčĆčīčÅčģ ąóąĖą▒ąĄčéą░ (ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ čéą░ą╝ ąĮąĄ ą╗ąĄčéą░ą╗); ą┐ąŠ ąĄą│ąŠ ąČąĄ
ą║čāčĆčüčā čüąĄą╣čćą░čü ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗčéčī čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ąĖąĮąŠą╣ čĆąĄą╗čīąĄčä ąĖ čÅčĆą║ąŠ ą▓čŗčĆą░ąČąĄąĮąĮą░čÅ
ą┐čāčüčéčŗąĮąĮą░čÅ čĆą░čüčéąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī ŌĆō čüą░ą║čüą░čāą╗, ąĮą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą▓ąĄčĆą▒ą╗čÄąČčīčÅ ą║ąŠą╗čÄčćą║ą░ ąĖ
čüą░ą╝ąĖ ą▓ąĄčĆą▒ą╗čÄą┤čŗŌĆ”
ąÆ čéčĆąĄčéąĖą╣ čĆą░ąĘ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĘą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą║ąŠąŠčĆą┤ąĖąĮą░čéčŗ ą┐ąŠ ŌĆ£ą║čĆčāąĖąĘą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÄŌĆØ ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ąĮą░ ą║ąŠą╝ą┐čīčÄč鹥čĆąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ
čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊ąĮą░čģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĖą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ čüą▓ąŠąĖą╝: čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╣
čüą┐čāčéąĮąĖą║, ą▓ąĖčüčÅčēąĖą╣ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčüąĄ, ąŠčéą▒ąĖą▓ą░ą╗ ą║ąŠąŠčĆą┤ąĖąĮą░čéčŗ, č鹊čćąĮąŠ
čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ąōčāą╣čüą░ąĮą░.
ąØąŠ ą┐ąŠč湥ą╝čā č鹊ą│ą┤ą░ ą▓ąĮąĖąĘčā ą╗ąĄčü? ąōąŠčĆąĮčŗą╣
ą║čĆčÅąČ?
ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░ ą▓ ą▒ą░ą║ą░čģ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī
ąĮą░ čüąĄą╝čī ą╝ąĖąĮčāčé ą┐ąŠą╗ąĄčéą░. ąŁčäąĖčĆ ą┐ąŠ ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā ą╝ąŠą╗čćą░ą╗, ąĮąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ą░
ŌĆ£ąĀąĖčéą░ŌĆØ ŌĆō ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆ, ą┐čĆąĖčÅčéąĮčŗą╝ ąČąĄąĮčüą║ąĖą╝ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčēąĖą╣ ąŠ
ąĮąĄąĖčüą┐čĆą░ą▓ąĮąŠčüčéčÅčģ ą▒ąŠčĆč鹊ą▓čŗčģ čüąĖčüč鹥ą╝. ąØąĄčé, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, ąĮąĄ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ą░, ą░ ąĮą░čćą░ą╗ą░
ą▒čĆąĄą┤ąĖčéčī, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĄčüą╗ąĖ ąĄąĄ ą┐ąŠčüą╗čāčłą░čéčī, ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé ąŠą▒ą░ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗čÅ ą▓čŗčłą╗ąĖ ąĖąĘ
čüčéčĆąŠčÅ, ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗ą░ čüąĖčüč鹥ą╝ą░ ąĮą░ą▓ąĖą│ą░čåąĖąĖ, ą║ąŠąĮčéčĆąŠą╗čÅ, ąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄč鹥
ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĮą░čćą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠąČą░čĆ.
ą¤čĆąĖč湥ą╝ ąĮąĄčüą╗ą░ čŹčéčā čćčāčłčī ą▓ čŹčäąĖčĆ!
ąĢąĄ čüčéčĆą░čüčéąĮą░čÅ, čŹčĆąŠčéąĖč湥čüą║ą░čÅ čĆąĄčćčī ą▓ą┤čĆčāą│
čüčéą░ą╗ą░ čāčüą┐ąŠą║ą░ąĖą▓ą░čéčī ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ą░. ą×ąĮ ą▓ąĖą┤ąĄą╗, čćč鹊 ą╝ą░čłąĖąĮą░ ą▓ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ, ąĮąĄ
ą┤čŗą╝ąĖčé, ąĮąĄ ą╝ąĖą│ą░ąĄčé, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ čćč鹊 ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ ŌĆō č鹊 čüą░ą╝ą░ ŌĆ£ąĀąĖčéą░ŌĆØŌĆ”
ąś ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą┤ąŠ ą│ąĖą▒ąĄą╗ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī
čüčćąĖčéą░ąĮąĮčŗąĄ ą╝ąĖąĮčāčéčŗŌĆ”
ą¤ąŠą┤ąŠą▒ąĮą░čÅ ąŠą┐ą╗ąŠčłąĮąŠčüčéčī ą▒čŗą╗ą░ ą┤ą╗čÅ ą║ąŠą╝čŹčüą║ą░
ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮą░ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊 čéčĆą░ą│ąĖčćąĮąŠą╣ ŌĆō čäą░čéą░ą╗čīąĮąŠą╣, ąĖą▒ąŠ ą│čĆąŠąĘąĖą╗ą░
ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ ą┤ąĖčüą║ą▓ą░ą╗ąĖčäąĖą║ą░čåąĖąĄą╣ ąĖ čüčéą░ą▓ąĖą╗ą░ ąČąĖčĆąĮčāčÄ č鹊čćą║čā ą▓ ąĄą│ąŠ ą╗ąĄčéąĮąŠą╣ ą║ą░čĆčīąĄčĆąĄ:
ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąŠą▓čŗą╣, ą┐čĆąŠčłąĄą┤čłąĖą╣ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčāčÄ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą║čā ąĖ ą┐čĆąŠą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ čāąČąĄ ą£ąśąōą░čĆčī
ą▒čŗą╗ ąŠą▒ąŠčĆčāą┤ąŠą▓ą░ąĮ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüąŠą╣ŌĆØ ŌĆō ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄą╝ čüą▓ąĄčĆčģčüąĄą║čĆąĄčéąĮčŗą╝, čćč鹊
ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ čāčéčĆą░ąĖą▓ą░ąĄčé čüą┐čĆąŠčü ą▓ąŠ ą▓čüąĄčģ ąĖąĮčüčéą░ąĮčåąĖčÅčģ ąŠčé ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ ą┐ąŠą╗ą║ą░
ąĖ ą╝ą░čĆą║ąĖčéą░ąĮč鹊ą▓ ąĖąĘ ąĀąŠčüą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠ ąŠčüąŠą▒ąŠą│ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣
ą┐čĆąŠą║čāčĆą░čéčāčĆčŗ. ąŁčéąĖ ą┐čĆąĖą┤ą▓ąŠčĆąĮčŗąĄ, ąČąĄą╗ą░čÅ ą▓čŗčüą╗čāąČąĖčéčīčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓čŗčüąŠą║ąŠčĆąŠą┤ąĮąŠą╣
ą┤ą░ą╝ąŠą╣, ą▓ ą║ą╗ąŠčćčīčÅ ą┐ąŠčĆą▓čāčéŌĆ”
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ čüąĮąĖąĘąĖą╗čüčÅ ą┤ąŠ č湥čéčŗčĆąĄčģčüąŠčé ą╝ąĄčéčĆąŠą▓,
ą▓ ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ąĄ čāą▓ąĖą┤ąĄčéčī ą║ą░ą║čāčÄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ą┤ąŠčĆąŠą│čā čü čéą▓ąĄčĆą┤čŗą╝ ą┐ąŠą║čĆčŗčéąĖąĄą╝, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ
ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ąŠ čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, ą░ ąĘąĄą╝ąĮą░čÅ čģą╗čÅą▒čī ą▓ąĮąĖąĘčā ą┐ąŠ‑ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā ą▒čŗą╗ą░
ąĮąĄą┐ąŠčĆąŠčćąĮąŠą╣, ą║ą░ą║ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą▓čüąĄą╝ąĖčĆąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠč鹊ą┐ą░. ąØąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čüą╝čŗčüą╗ą░ ąĘą░ą╗ą░ą╝čŗą▓ą░čéčī
ą║čĆčāą│ąĖ; ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓ąĄą╗ ą┐ąŠą│ąĖą▒ą░čÄčēčāčÄ ą╝ą░čłąĖąĮčā ą┐ąŠ ą┐čĆčÅą╝ąŠą╣, ą║čĆą░ąĄą╝ ą│ą╗ą░ąĘą░
ąŠčéčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░čÅ ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆčŗ, ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┤ą░čéčćąĖą║ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ ąĮčāą╗čī, ąŠčēčāą┐čīčÄ
ąĮą░čłąĄą╗ čĆčāčćą║čā ą║ą░čéą░ą┐čāą╗čīčéčŗ ą╝ąĄąČą┤čā ąĮąŠą│ ąĖ čüčéą░ą╗ ąČą┤ą░čéčī ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░
ąĮą░čćąĮąĄčé ą┐ą░ą┤ą░čéčī čéčÅą│ą░ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘ ą┤ą▓ąĖą│ą░č鹥ą╗ąĄą╣.
ŌĆō ą¤čĆąŠčēą░ą╣, č鹊ą▓ą░čĆąĖčē! ŌĆō ą┐ąŠą│ą╗ą░ą┤ąĖą╗ čĆčāčćą║čā,
ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╗ ą▒čĆąĄą┤, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĮąĄčüą╗ą░ ŌĆ£ąĀąĖčéą░ŌĆØ. ŌĆō ąóčŗ ą▒čŗą╗ čģąŠčĆąŠčłąĖą╣ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčé. ąÉ
ą▒ą░ą▒čā čŹčéčā ąĮąĄ čüą╗čāčłą░ą╣, ą▓čĆąĄčéŌĆ”
ąÆ č鹊čé ą╝ąĖą│ ąŠąĮ ąĮąĄ ąČą░ą╗ąĄą╗ ąĮąĖ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ, ąĮąĖ
ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠčüč鹊čÅčēąĄą╣ čüąĄą║čĆąĄčéąĮąŠą╣ ŌĆ£ą¤čĆąĖąĮčåąĄčüčüčŗŌĆØ, ąĮąĖ ą┤ą░ąČąĄ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą║ą░čĆčīąĄčĆčŗ; ą▓
ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ čüąĖą┤ąĄą╗ą░ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮą░čÅ čāąĮąĖąČą░čÄčēą░čÅ ąĄą│ąŠ ą┤ąŠčüč鹊ąĖąĮčüčéą▓ąŠ ąĖ
čāąĮąĖčćąĖąČąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ ą╝čŗčüą╗čī, čćč鹊 ąŠąĮ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą┤ąŠą▒čāą┤ąĄčé ą▒ąĄąĮą│ą░ą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ čéąĖą│čĆą░,
č鹊čćąĮąĄąĄ, ąĄą│ąŠ čłą║čāčĆčā, ąŠą▒ąĄčēą░ąĮąĮčāčÄ ąČąĄąĮčēąĖąĮąĄ čüą╗ąŠą▓ąŠą╝ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ č湥čüčéąĖŌĆ”
ąĪ ą£ą░ą│čāą╗čī ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą┐ąŠąĘąĮą░ą║ąŠą╝ąĖą╗čüčÅ ąĘą░ ą┤ą▓ą░
ą╝ąĄčüčÅčåą░ ą┤ąŠ čŹč鹊ą│ąŠ ąĘą╗ąŠčüčćą░čüčéąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĄčéą░. ą¤čĆąĖčłąĄą╗ ąĮą░ ą┐ąŠčćčéčā, čćč鹊ą▒čŗ
ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī ą╝ą░č鹥čĆąĖ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ ąĖ ą▓ čüą▓ąŠą┤čćą░č鹊ą╝, ąĮąĖąĘą║ąŠą╝ ąŠą║ąŠčłąĄčćą║ąĄ,
ą▓čŗčĆąĄąĘą░ąĮąĮąŠą╝ ą▓ ą╝ą░č鹊ą▓ąŠą╝ čüč鹥ą║ą╗ąĄ, čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ č鹊ąĮąĄąĮčīą║ąĖąĄ ą┐ą░ą╗čīčćąĖą║ąĖ, čüčćąĖčéą░čÄčēąĖąĄ
ą║čāą┐čÄčĆčŗ. ąĪąĮą░čćą░ą╗ą░ ąŠąĮ ą▓ą╗čÄą▒ąĖą╗čüčÅ ą▓ ąĮąĖčģ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĮąĖč湥ą│ąŠ
ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ: ą▒ą╗ąĄą┤ąĮčŗąĄ, ą┐ąŠčćčéąĖ ą▒ąĄčüą║čĆąŠą▓ąĮčŗąĄ, ąŠąĮąĖ čéą░ą║ ąĮąĄąČąĮąŠ ą║ą░čüą░ą╗ąĖčüčī ą┤ąĄąĮąĄą│,
ą▓ čéą░ą║ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╝ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĖčüčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ą░čćą║čā ą┐čÅčéąĖą┤ąĄčüčÅčéąĖčĆčāą▒ą╗ąĄą▓ąŠą║, čćč鹊 ąŠąĮ
čāą│ą░ą┤ą░ą╗ ą▓ ąĮąĖčģ čĆąŠą┤čüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ ąĮą░čéčāčĆčā.
ŌĆō ąöąĄą▓čāčłą║ą░, ą░ čćč鹊 ą▓čŗ ą┤ąĄą╗ą░ąĄč鹥 ą▓ąĄč湥čĆąŠą╝? ŌĆō
čüąŠą▓čüąĄą╝ ą▒ą░ąĮą░ą╗čīąĮąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ, ąĮąĄ ą▓ąĖą┤čÅ ąĄąĄ ą╗ąĖčåą░.
ąÆ ąŠčéą▓ąĄčé ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ čéąĖčłąĖąĮą░, ą░ čüąĘą░ą┤ąĖ
č鹥čüąĮąĖą╗ąĖ ą┐ąŠąČąĖą╗čŗąĄ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮąĄ, ąČą░ąČą┤čāčēąĖąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčéčī ą┐ąĄąĮčüąĖčÄ. ąóą░ą║ čćč鹊 ąōąĄčĆą╝ą░ąĮą░
ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ ąŠč鹊ą│ąĮą░ą╗ąĖ ąŠčé ąŠą║ąŠčłą║ą░ ąĖ ąĮąĄ ą┤ą░ą╗ąĖ čüą║ą╗ąŠąĮąĖčéčīčüčÅ, čćč鹊ą▒čŗ ą▓ ą░ą╝ą▒čĆą░ąĘčāčĆąĄ
čāą▓ąĖą┤ąĄčéčī ąĄąĄ ą╗ąĖčåąŠ. ąÆčŗą╣ą┤čÅ ąĖąĘ ąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠčćčéčŗ, ąŠąĮ ą┐ąŠą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąŠą╣
ą│ąŠčüčéąĖąĮąĖčåčŗ, ą│ą┤ąĄ ą┐čĆąŠąČąĖą▓ą░ą╗ čŹčéąĖ ą┤ą▓ą░ ą╝ąĄčüčÅčåą░, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ ą▓ąŠ ą▓č鹊čĆąŠą╣ čĆą░ąĘ
čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą┐ąŠą┐čŗčéą║čā ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čüčéą▓ą░. ąÆ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤ą║ąĄ ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ ą║ č鹊ą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĘąĮą░ą╗ ą▓čüąĄčģ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗčģ ąČąĄąĮčēąĖąĮ, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÅ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗčģ ąĖ ą┐ąŠą║ąĖąĮčāčéčŗčģ,
ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ, č鹊čćąĮąŠ, čŹčéąĖ ą┐ą░ą╗čīčćąĖą║ąĖ ąĄą╝čā ą▒čŗą╗ąĖ ąĮąĄ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗ. ąÉ ą▓čüčÅą║čāčÄ ąĮąŠą▓ąĄąĮčīą║čāčÄ
ą▒ą░čĆčŗčłąĮčÄ ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ą║ąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▒čĆą░čéčī čüčĆą░ąĘčā ąĖ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ čüąĖą╗ąŠą╣, čćč鹊ą▒čŗ
ąĮąĄ čāą┐čāčüčéąĖčéčī, ąĖą▒ąŠ ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąŠ. ąæąĄąĘą╗ąŠčłą░ą┤ąĮčŗą╣ ąĖąĘ‑ąĘą░
ąĮąĄčģą▓ą░čéą║ąĖ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░ ą┐ąŠą╗ą║ ąĖčüčéčĆąĄą▒ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą░ą▓ąĖą░čåąĖąĖ čüčģąŠą┤ąĖą╗ čü čāą╝ą░ ąŠčé č鹊čüą║ąĖ ąĖ
ą▒ąĄąĘčĆą░ą▒ąŠčéąĖčåčŗ. ąÜą░ąČą┤ąŠąĄ čāčéčĆąŠ ą┐ąŠ čćą░čüą░ą╝ ąĮą░ą┐čĆąŠčćčī ąĘą░ąĘąĄą╝ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐ąĖą╗ąŠčéčŗ
čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĮąŠą╝ ą┐čāąĮą║č鹥, č湥ą│ąŠ‑č鹊 ąČą┤ą░ą╗ąĖ, ąĖ ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥,
ą▓čŗčüą╗čāčłą░ą▓ ą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮčŗąĄ čüą╗ąŠą▓ą░ ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊ą│ąŠ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░, ą▒čĆąĄą╗ąĖ ąĮą░ ąŠą┐ąŠčüčéčŗą╗ąĄą▓čłąĖą╣
čéčĆąĄąĮą░ąČąĄčĆ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ, čā ą║ąŠą│ąŠ ąĖą╝ąĄą╗čüčÅ čüą▓ąŠą╣ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆčé, ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▓
ą¦ąĖčéčā ąĘą░ č鹊ą▓ą░čĆąŠą╝ ąĖą╗ąĖ čĆą░ąĘą▒čĆąĄą┤ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ čĆą░ą▒ąŠčćąĖą╝ č鹊čćą║ą░ą╝: ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓ąŠ
ą╗ąĄčéčćąĖą║ąŠą▓ č鹊čĆą│ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ čĆčŗąĮą║ąĄ ą▓ ą▒ą╗ąĖąĘą╗ąĄąČą░čēąĄą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤ąĄ ąŚą░ą▒ąŠčĆčüą║ąĄ, čüč鹊čÅčēąĄą╝
ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖčģ ą║čāą┐ąĄč湥čüą║ąĖčģ ą┐čāčéčÅčģ. ąóąŠą┐ą╗ąĖą▓ą░ ąĮą░ ą▒ą╗ąĖąČą░ą╣čłčāčÄ ą┐čÅčéąĖą╗ąĄčéą║čā ąĮąĄ
ąŠąČąĖą┤ą░ą╗ąŠčüčī, ąĖ ą▓čüčÅ ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĮą░ ąĀąŠčüą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ, ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░ą▓čłąĄąĄ
čüą░ą╝ąŠą╗ąĄčéčŗ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą«ą│ąŠ‑ąÆąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąÉąĘąĖąĖ ąĖ ąĄčēąĄ č湥čĆčé‑č鹥 ą│ą┤ąĄ. ąōąŠčĆą┤ąŠčüčéčī ąÆąÆąĪ
čüčāąĘąĖą╗ą░čüčī ą┤ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠąĮą░ ą░ą▓ąĖą░č鹥čģąĮąĖą║ąĖ ą▓ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░čÄčēąĖąĄčüčÅ čüčéčĆą░ąĮčŗ, ąĖ ą┐ąŠą╗ą║
ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ ąĘą░ą┤ą░čćąĖ, ą┤ą░ą╗ąĄą║ąĖąĄ ąŠčé ąĘą░čēąĖčéčŗ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗčģ čĆčāą▒ąĄąČąĄą╣ ą×č鹥č湥čüčéą▓ą░.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ą░ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čüąŠčüą╗ą░ą╗ąĖ ą▓
ąŚą░ą▒ą░ą╣ą║ą░ą╗čīčüą║ąĖą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ąŠą║čĆčāą│, ą║ą░ą║ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čüčüčŗą╗ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąÜą░ą▓ą║ą░ąĘ, ąĘą░
ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ, ąĮąĄą┤ąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗąĄ ąĘą▓ą░ąĮąĖčÅ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ; ąĖąĮčŗą╝ąĖ
čüą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ, ąĘą░ ą┐ąŠą┐čŗčéą║čā ą▓ąŠąĘčĆąŠą┤ąĖčéčī čüčéą░čĆčŗąĄ, ą┐ąŠčĆąŠčćąĮčŗąĄ čéčĆą░ą┤ąĖčåąĖąĖ.
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖąĖ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗
ąĮąĖąĘčłčāčÄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠčüčéčī ŌĆō čüą╗čāąČąĖą╗ ą▓ ą¤ąŠą┤ą╝ąŠčüą║ąŠą▓čīąĄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą╝ ąĘą▓ąĄąĮą░
ą┐ąĄčĆąĄčģą▓ą░čéčćąĖą║ąŠą▓: ą▓čŗą┐čāčüą║ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗ąĖ ą║čāą┤ą░ ą┐čĆąĖčüčéčĆąŠąĖčéčī ąĖ ą╝ą░ą╣ąŠčĆąŠą▓ ą┐ąĖčģą░ą╗ąĖ
ąĮą░ ą╝ąĄčüčéą░ čüčéą░čĆčłąĖčģ ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮč鹊ą▓. ą×ąĮ ą▒čŗ ą╝ąŠą│ čüą╝ąĖčĆąĖčéčīčüčÅ ąĖ čü čéą░ą║ąĖą╝
ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝, ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÅ, čćč鹊 ąĮą░ą┤ąŠ ą┐čĆąŠą┤ąĄčƹȹ░čéčīčüčÅ ą▓ ą║ą░ą┤čĆą░čģ ąĄčēąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ
ą╗ąĄčé, ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčüčÅ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ą¤ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ą║ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣
čüčéčĆą░ąĮąĄ. ąÉ ąŠąĮąŠ ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčüčÅ, ąĖą▒ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ
ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ąĄčéčüčÅ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ. ą×ąĮ ąŠčéą╗ąĖčćąĮąŠ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗, čćč鹊 ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ čüčģą╗čŗąĮąĄčé čŹč鹊
ą╝čāčéąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąŠą┤čīąĄ čü ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĖ ą║ ą▓ą╗ą░čüčéąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą┤ąĄčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║, ą▓
ą░čĆą╝ąĖąĖ ąĮąĄ ą▒čāą┤ąĄčé ąĮąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓, ąĮąĖ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░. ą×ąĮ ą▒čŗą╗ čüąŠą│ą╗ą░čüąĄąĮ č鹥čĆą┐ąĄčéčī
ą▓čüąĄ, ą║ą░ą║ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ, ą║čĆąŠą╝ąĄ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ŌĆō ą╗ąĖčćąĮąŠą│ąŠ čāąĮąĖąČąĄąĮąĖčÅ. ąŚą░ ą┐ąŠą╗ą│ąŠą┤ą░
čüą╗čāąČą▒čŗ ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ čĆą░ąĘ, ąĖ č鹊 ąĮą░
čāč湥ą▒ąĮąŠ‑čéčĆąĄąĮąĖčĆąŠą▓ąŠčćąĮąŠą╣ čüą┐ą░čĆą║ąĄ. ą¦č鹊ą▒čŗ ą▓čŗąČąĖčéčī, ą┐ąĖą╗ąŠčéčŗ ą│ąŠąĮčÅą╗ąĖ ąĮą░ čüą▓ąŠąĖčģ
ą░ą▓č鹊ą╝ąŠą▒ąĖą╗čÅčģ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā ąĘą░ č鹊ą▓ą░čĆąŠą╝, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ č鹊čĆą│ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą╝ąĄčüčéąĮčŗčģ
čĆčŗąĮą║ą░čģ. ąĪą╗čāąČą▒ą░ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░ ąĖąĘ ąĘą░ąĮčÅčéąĖą╣ ąĮą░ čéčĆąĄąĮą░ąČąĄčĆą░čģ ąĖ č鹥čģąŠą▒čüą╗čāąČąĖą▓ą░ąĮąĖąĖ
čüą░ą╝ąŠą╗ąĄč鹊ą▓ ŌĆō č鹥čģąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüčéčā čüąŠą║čĆą░čéąĖą╗ąĖ ą▓ą┤ą▓ąŠąĄ. ąØąĄą╗ąĄčéą░čÄčēąĖąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ,
ą║ą░ą║ ąĮąĄąČąĖą╗čŗąĄ ą┤ąŠą╝ą░, čüčéą░čĆąĄą╗ąĖ ąĖ čĆą░ąĘčĆčāčłą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ąĖ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąĖ
ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠą│ąŠ čĆąĄą╝ąŠąĮčéą░.
ąś ą▓ąŠčé ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ą▓ čćą░čüčéčī ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ ą┤ąĄą┐čāčéą░čé
ąōąŠčüą┤čāą╝čŗ, ą▒čŗą▓čłąĖą╣ čüčéą░čĆčłąĖą╣ ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčé‑ą┐ąŠą╗ąĖčéčĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ ąĖ ą▒čŗą▓čłąĖą╣ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║
ą║ą╗čāą▒ą░ ążąĄą┤ąŠč鹊ą▓čüą║ąŠą╣ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮąŠą╣ ą┤ąĖą▓ąĖąĘąĖąĖ, ąĮčŗąĮąĄ čāą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣ ą▓čüąĄą╝ąĖ
čĆąĄč乊čĆą╝ą░ą╝ąĖ ą▓ ą░čĆą╝ąĖąĖ. ąÆčüąĄčģ, ą║č鹊 ą▒čŗą╗ ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čüčĆąŠčćąĮąŠ čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖ ą▓
ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╝ ąöąŠą╝ąĄ ąŠčäąĖčåąĄčĆąŠą▓, ąĖ ą┐čĆąŠą╝ąĄčĆąĘčłąĖąĄ, ą║čĆą░čüąĮąŠčĆčāą║ąĖąĄ ąĖ ą║čĆą░čüąĮąŠą╝ąŠčĆą┤čŗąĄ
ąŠčé ą▓ąĄčéčĆą░ ą┐ąĖą╗ąŠčéčŗ ą║ą░ą║ ą┐ąŠą╗ąĘą░ą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄč鹊ą▓ ą▓ ąĘą░ą╝čŗąĘą│ą░ąĮąĮčŗčģ, čĆą▓ą░ąĮčŗčģ
čĆąŠą▒ą░čģ, čéą░ą║ ąĖ ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ ąĮą░ ą▓čüčéčĆąĄčćčā. ąōą░ą╗ąĄčĆą║ą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ąĘą░ąĮčÅč鹊ą╣,
ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąĄčüčéą░ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╝ čĆčÅą┤čā, ąĖ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ, ąŠč鹊ą│čĆąĄą▓čłąĖčüčī ą▓ č鹥ą┐ą╗ąĄ,
ą▓čüąĄ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┤čĆąĄą╝ą░čéčī ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓čŗčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąś ą▓ąŠčé čŹč鹊čé
ą▒ą╗ąĄą┤ąĮąŠą╗ąĖčåčŗą╣, čłąĖąĘąŠčäčĆąĄąĮąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąĖą┤ą░ ą┤ąĄą┐čāčéą░čé ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠą▒
ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąŠą╣ č湥čüčéąĖ, ą┤ąĄčüą║ą░čéčī, ąŠą┐čāčüčéąĖą╗ąĖčüčī, ąĮąĄčāą▓ą░ąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ čéą░ą║ ą┤ą░ą╗ąĄąĄ.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĮąĄ ą▓ąĮąĖą║ą░ą╗ ą▓ ąĄą│ąŠ čĆąĄčćąĖ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▒čŗą╗ ąĘą╗ąŠą╣, čćč鹊
ąŠč鹊čĆą▓ą░ą╗ąĖ ąŠčé čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ŌĆō ą┤ą▓ąĄ ą╝ą░čłąĖąĮčŗ ąĖąĘ čéčĆąĄčģ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüčéčā ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ
ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░čéčī ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ, ą░ čŹč鹊čé ą▒čŗą▓čłąĖą╣ ąĘą░ą▓ą║ą╗čāą▒ąŠą╝, ąĘą░ąĖą║ą░čÅčüčī ąĖ ą┤ąĄčĆą│ą░čÅčüčī,
ą║ą░ą║ čÄčĆąŠą┤ąĖą▓čŗą╣, ą╝ąŠą╗ąŠčéąĖčé čćč鹊‑č鹊, ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ čüčéčŗą┤ąĖčé ąĖ ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ čüą╝ąŠčéčĆąĖčé.
ŌĆō ąóąĄą▒ąĄ č湥ą│ąŠ? ŌĆō ą┐čĆąŠčüąĮčāą▓čłąĖčüčī, čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓. ąóčāčé ąĖąĘ ą┤ąĄą┐čāčéą░čéą░ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄąĘą╗ąŠ ŌĆō ąĮąĄ čéą░ą║ čüąĖą┤ąĖčłčī, ąĮąĄ čéą░ą║ čüą▓ąĖčüčéąĖčłčī
ąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ, ą║č鹊 čéą░ą║ąŠą╣. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ąŠą│ą╗čÅąĮčāą╗čüčÅ ŌĆō ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆčŗ ą╝ąŠą╗čćą░čé,
ą┐ąŠą┤čćąĖąĮąĄąĮąĮčŗąĄ ą┤čĆąĄą╝ą╗čÄčé ŌĆō ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĖ č鹊ąČąĄ čāčüąĮčāą╗. ąÜąŠą│ą┤ą░ ą▓čüčéčĆąĄčćą░
ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗ą░čüčī ąĖ ą▓čüąĄ ą┐ąŠą▒čĆąĄą╗ąĖ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą╝ąĄčüčéą░ą╝, čŹč鹊čé čĆąĄč乊čĆą╝ą░č鹊čĆ
ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ čüąĖą╗ ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ą░ ąĖ čüąĮąŠą▓ą░ čüčéą░ą╗ ą┐čĆąĖčüčéą░ą▓ą░čéčī ŌĆō
č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĄą│ąŠ ą▓ąĮąĄčłąĮąĄą│ąŠ ą▓ąĖą┤ą░ ąĖ ą┐ąŠą╗čāčüąŠąĮąĮąŠą│ąŠ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ.
ŌĆō ąöą░ ąĖą┤ąĖ čéčŗ ą▓ ąĘą▓ąĄąĘą┤čā! ŌĆō ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗.
ąöąĄą┐čāčéą░čé ąĖ ąĮą░ čüąĄą╣ čĆą░ąĘ ąĮąĄ ąŠčéčüčéą░ą╗, ą┤ąŠą│ąĮą░ą╗
ąĄą│ąŠ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĖ čāąČąĄ ą▒ąĄą╗čŗą╣ ąŠčé ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠą╣ ąĮąĄąĮą░ą▓ąĖčüčéąĖ, čü ą┐ąĄčĆąĄą║ąŠčłąĄąĮąĮčŗą╝
ąŠčé ąĘą░ąĖą║ą░ąĮąĖčÅ ą╗ąĖčåąŠą╝ ąĖ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ čĆč鹊ą╝, čüąĖą╗ąĖą╗čüčÅ čüą║ą░ąĘą░čéčī čćč鹊‑č鹊 ą│ąĮąĄą▓ąĮąŠąĄ ąĖ
ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą┐čĆąĖčüčéčāą║ąĖą▓ą░ą╗ ąĮąŠą│ąŠą╣ ŌĆō ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĮąĄ ą┤ąŠąČą┤ą░ą╗čüčÅ ąĖ ą▓čĆąĄąĘą░ą╗ ąĄą╝čā ą┐ąŠ
č湥ą╗čÄčüčéąĖ. ą¤ąŠč鹊ą╝ ąŠąĮ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčéčī ą┐čĆąĖčćąĖąĮčā čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ,
ąĮąĖ čüąĄą▒ąĄ, ąĮąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ą╝, ąĮąĖ ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą║čāčĆą░čéčāčĆąĄ, ą│ą┤ąĄ čüąĮą░čćą░ą╗ą░
ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖą╗ąĖ ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą╗ąĖ čāą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮą░ čüčāą┤ąĖą╗ąĖ ąŠčäąĖčåąĄčĆčüą║ąĖą╝
čüčāą┤ąŠą╝, čĆą░ąĘąČą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮčŗ, ą╗ąĖčłąĖą╗ąĖ ąŠč湥čĆąĄą┤ąĖ ąĮą░ ąČąĖą╗čīąĄ, ąŠčéčüčéčĆą░ąĮąĖą╗ąĖ
ąŠčé ąĮąĄčüčāčēąĄčüčéą▓čāčÄčēąĖčģ ą┐ąŠą╗ąĄč鹊ą▓ ąĮą░ čéčĆąĖ ą╝ąĄčüčÅčåą░, ą░ ą┐ąŠ ąĮąĄčāčüčéą░ąĮąĮčŗą╝ ą┤ąĄą┐čāčéą░čéčüą║ąĖą╝
ąĘą░ą┐čĆąŠčüą░ą╝ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą▓ ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ.
ąóąŠą│ą┤ą░ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĖ ą┐ąŠąĮčÅą╗ ąŠą┤ąĮčā ą┐čĆąŠčüčéčāčÄ
ąĖčüčéąĖąĮčā: ą┤ąĄą╗ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▓ ą║ąĄčĆąŠčüąĖąĮąĄ. ąŁč鹊ą│ąŠ ą┤ąĄčĆčīą╝ą░ ą▓ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ čģąŠčéčī
ąĘą░ą╗ąĄą╣čüčÅ.
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓čüčéčĆąĄčéąĖą╗ ą£ą░ą│čāą╗čī ąĮą░ ą┐ąŠčćč鹥 ąĖ
ą┐ąŠč鹊ą╝ čłčāčéąĖą╗, čćč鹊 ąĄąĄ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ ą┐ąŠčüą╗ą░ą╗ ąæąŠą│ ąĘą░ą║ą░ąĘąĮąŠą╣
ą┐ąŠčüčŗą╗ą║ąŠą╣. ąØąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░, ąĘą┤ąĄčüčī čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠ
ą▓čŗą┐ą╗ą░čćąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĘą░čĆą┐ą╗ą░čéčā ŌĆō ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ, čćč鹊 ą░ą╝ąĄčĆąĖą║ą░ąĮčåčŗ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčé ąĮą░ čŹč鹊
čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗąĄ čüčĆąĄą┤čüčéą▓ą░, č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊ą▒čŗ ą╗ąĄčéčćąĖą║ąĖ ąĮąĄ ą╗ąĄčéą░ą╗ąĖ, čüčéčĆąĄą╗ą║ąĖ ąĮąĄ
čüčéčĆąĄą╗čÅą╗ąĖ, ą░ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆčŗ ąĮąĄ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ąĖ. ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ ą▓ čćą░čüčéčī čü
ąĮąĄąŠą┐ą╗ą░č湥ąĮąĮčŗą╝ ą░čéč鹥čüčéą░č鹊ą╝ ą┤ąĄąĮąĄąČąĮąŠą│ąŠ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖčÅ ąĖ čéčāčé, ą┐ąŠą╗čāčćąĖą▓
ąĘą░čĆą┐ą╗ą░čéčā ąĘą░ ą┐čÅčéčī ą┐čĆąŠčłą╗čŗčģ ą╝ąĄčüčÅčåąĄą▓, ąĮą░ čĆą░ą┤ąŠčüčéčÅčģ ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčī
ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ čĆąŠą┤ąĖč鹥ą╗čÅą╝ ą▓ ąóą▓ąĄčĆčüą║čāčÄ ąŠą▒ą╗ą░čüčéčī.
ąś čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą▓ čüč鹥ą║ą╗čÅąĮąĮąŠą╣ ą░ą╝ą▒čĆą░ąĘčāčĆąĄ
č鹊ąĮąĄąĮčīą║ąĖąĄ, ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčćąĖą▓ą░čÄčēąĖąĄčüčÅ ą┐ą░ą╗čīčćąĖą║ąĖ čü ą┐ąĄčĆą╗ą░ą╝čāčéčĆąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĮąŠą│ąŠčéą║ą░ą╝ąĖ.
ą¤ąŠą▒čĆąŠą┤ąĖą▓ ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą┐ąŠą╗čāą┐čīčÅąĮąŠą╣ ą│ąŠčüčéąĖąĮąĖčåčŗ,
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐ąŠčćčéčā ąĖ ą▓čŗčüč鹊čÅą▓ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ
čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ąĘą░čüčāąĮčāą╗čüčÅ ą▓ ąŠą║ąŠčłąĄčćą║ąŠ. ąś čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą£ą░ą│čāą╗čī ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą║čĆą░čüąĄ:
čĆąŠčüč鹊ą╝ ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ąŠą║ąŠą╗ąŠ ą┤ą▓čāčģ ą╝ąĄčéčĆąŠą▓, ąĮąŠą│ąĖ ą▓ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ čĆąŠčüą╗ąĖ ąĖąĘ
ą║ąŠčĆąĄąĮąĮčŗčģ ąĘčāą▒ąŠą▓, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ č湥čĆąĮčŗąĄ ą▓ąŠą╗ąŠčüčŗ ąĖ ą│ąŠčĆą▒ą░čéčŗą╣, ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąĮąŠčü
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ ąŠ ąĄąĄ ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčüą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĖ. ąøąĖčåąŠ, ą║ą░ą║ ąĖ ą┐ą░ą╗čīčćąĖą║ąĖ,
ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝, č鹊ąĮą║ąĖą╝ ąĖ ą▒ą╗ąĄą┤ąĮčŗą╝, ą░ ą▓ čüąŠą▓ąŠą║čāą┐ąĮąŠčüčéąĖ čü ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗą╝ąĖ
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ ąŠčćą░čĆąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąĄą│ąŠ. ąÜąŠąĮąĄčćąĮąŠ, čŹč鹊 ą▒čŗą╗ą░ ąĮąĄ ą┤ąĄą▓čāčłą║ą░ ŌĆō
ąĮąĄąŠą▒čŖąĄąĘąČąĄąĮąĮą░čÅ ą╗ąŠčłą░ą┤čī, ą┤ąĖą║ą░čÅ ą║ąŠą▒čŗą╗ąĖčåą░ čüąŠ čüą║čĆčŗčéčŗą╝, ąŠą│ąĮąĄąĮąĮčŗą╝
č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░ą╝ąĄąĮč鹊ą╝, ą│ąŠč鹊ą▓ą░čÅ ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé čüą▒čĆąŠčüąĖčéčī ą┤ą░ąČąĄ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąŠą┐čŗčéąĮąŠą│ąŠ
ąĮą░ąĄąĘą┤ąĮąĖą║ą░. ąÉ ą┐ąŠ ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą£ą░ą│čāą╗čī ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī ą░ą▒čģą░ąĘą║ąŠą╣.
ŌĆō ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ‑ąĖą▒ąĮ‑ą©ą░ą▒ą░ąĮ! ŌĆō ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ąŠąĮ.
ąöąĄą╗ąŠ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĘą░ ą│ąŠą┤ ą┤ąŠ ą┐čĆąĖąĮčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čüą╝ąĄąĮčŗ ą╝ąĄčüčéą░ čüą╗čāąČą▒čŗ ąŠąĮąĖ čü
ą┐čĆąĄąČąĮąĖą╝ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╝ ą┐ąŠ ą┐ąŠą╗ą║čā čĆąĄčłąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠąĄčģą░čéčī ą▓ ąŠčéą┐čāčüą║ ąĮą░ ąÜą░ą▓ą║ą░ąĘ,
ąŠą┐čÅčéčī ąČąĄ ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗čīąĮąŠ, ąĖą▒ąŠ ąĖąĘ ąÉą┤ą╗ąĄčĆą░ ą▓ ąÉą▒čģą░ąĘąĖčÄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąŠą▒čĆą░čéčīčüčÅ
ą╗ąĖčłčī ąĮą░ ą╗ąĖčćąĮąŠą╝ čéčĆą░ąĮčüą┐ąŠčĆč鹥, ą▓čĆčāčćąĖą▓ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ ą▓ąĘčÅčéą║čā ą┐ąŠą│čĆą░ąĮąĖčćąĮąĖą║ą░ą╝.
ą×ąĮąĖ ąĮą░ąĮčÅą╗ąĖ ąĖąĘą▓ąŠąĘčćąĖą║ą░‑ą░ą▒čģą░ąĘą░, ą┤ą░ą╗ąĖ ąĄą╝čā ą┤ąĄąĮąĄą│ ąĖ čĆą▓ą░ąĮčāą╗ąĖ ą▓ čüąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čīąĮąŠąĄ
ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ąĮą░ čüą▓ąŠą╣ čüčéčĆą░čģ ąĖ čĆąĖčüą║, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā č鹊ą▓ą░čĆąĖčē čāą▓ąĄčĆčÅą╗, čćč鹊 ąĮąĄčé
ą╗čāčćčłąĄ ąŠčéą┤čŗčģą░, č湥ą╝ ą▓ ą¤ąĖčåčāąĮą┤ąĄ, ą│ą┤ąĄ ą┐čĆąŠąČąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą┐ąĖčēą░ ąĖ ą▓ąĖąĮąŠ čüč鹊čÅčé
ą║ąŠą┐ąĄą╣ą║ąĖ ąĖąĘ‑ąĘą░ ąŠą▒čŖčÅą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą▒ą╗ąŠą║ą░ą┤čŗ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ čŹč鹊ą│ąŠ
ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ą░.
ąÆčüąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čéą░ą║ ąĮą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ. ąÆčŗčüąŠą║ąĖąĄ,
ą▒ąĄą╗ąŠą╗ąĖčåčŗąĄ ąĖ ąĮąŠčüą░čéčŗąĄ ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ, ą┐ąŠ čāčéčĆą░ą╝ čüą┐čāčüą║ą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ čü ą│ąŠčĆ, ą┐čĆąĖąĮąŠčüąĖą╗ąĖ
ąĘą░ą╝ąĄčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąĖ ą┤ąĄčłąĄą▓ąŠąĄ ą▓ąĖąĮąŠ, čüčéą░čĆąĖą║‑ą░ą▒čģą░ąĘ, ą▒čĆą░ą╗ ą┐ąŠ ą┤ąŠą╗ą╗ą░čĆčā ą▓ ą┤ąĄąĮčī
ąĘą░ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčāčÄ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā ąĖ čéčĆąĄčģčĆą░ąĘąŠą▓ąŠąĄ ą┐ąĖčéą░ąĮąĖąĄ, ą░ ą║čāą┐ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą╝ąŠčĆąĄ ąĖ
ąĘą░ą│ąŠčĆą░čéčī ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒ąĄčüą┐ą╗ą░čéąĮąŠ čü čāčéčĆą░ ą┤ąŠ ą▓ąĄč湥čĆą░. ąÜą▓ą░čĆčéąĖčĆąĮčŗą╣
čģąŠąĘčÅąĖąĮ č鹊ą│ą┤ą░ ąĖ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗, čćč鹊 čäą░ą╝ąĖą╗ąĖčÅ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ŌĆō ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčüą║ą░čÅ,
ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ą░čÅ, čāą▓ą░ąČą░ąĄą╝ą░čÅ ąĖ ąĄą╝čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčüčéą░čéčīčüčÅ ąĖ ąČąĖčéčī ąĘą┤ąĄčüčī ą║čĆą░čüąĖą▓ąŠ ąĖ
ą▒ąŠą│ą░č鹊 ąĘą░ ąŠą┤ąĮčā ą╗ąĖčłčī ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČąĮąŠčüčéčī ą║ ąĘąĮą░čéąĮąŠą╝čā čĆąŠą┤čā. ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čü
ą┐čĆąĖčÅč鹥ą╗ąĄą╝ ąĮą░ą┤ čŹčéąĖą╝ ą┐ąŠčüą╝ąĄčÅą╗ąĖčüčī, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▓ ąóą▓ąĄčĆčüą║ąŠą╣ ą┤ą░ ąĖ čüąŠčüąĄą┤ąĮąĖčģ
ąŠą▒ą╗ą░čüčéčÅčģ ą╝čāąČąĖą║ąŠą▓ čü čéą░ą║ąĖą╝ąĖ čäą░ą╝ąĖą╗ąĖčÅą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą║ą░ą║ čüąŠą▒ą░ą║ ąĮąĄčĆąĄąĘą░ąĮčŗčģ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ
ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ ąĘąĮą░čÅ ąŠ ąĄą│ąŠ ŌĆ£ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąŠą╝ŌĆØ ą┤ąŠčüč鹊ąĖąĮčüčéą▓ąĄ, ą▓čüąĄ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čÄčēąĖąĄčüčÅ ą░ą▒čģą░ąĘčŗ
ą▓ąĄąČą╗ąĖą▓ąŠ ą┐čĆąĖą▓ąĄčéčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ čĆčāčüčüą║ąĖčģ ąĖ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ ą┤ąŠą▒čĆčŗąĄ, čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄ
ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ čüą╗ąŠą▓ą░, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗ąŠčüčī ą▓
ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ║čā ą▒ą╗ąŠą║ą░ą┤čŗ. ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓čā ą▒čŗą╗ąŠ čüčéčŗą┤ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╝ąĖ, ąĖ čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ
ąŠąĮ ąŠčéą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖ čüčéčĆąĄą╝ąĖą╗čüčÅ ą┐čĆąŠą▒ąĄąČą░čéčī ą╝ąĖą╝ąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čü ąĮąĖą╝
ąĘą░ą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą░ą▒čģą░ąĘčŗ. ąøčÄą▒ąŠą▓čī ą║ čĆčāčüčüą║ąĖą╝ čā ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ą░ čüčéčĆą░ąĮąĮą░čÅ,
ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮą░čÅ ąĖ, ą║ą░ą║ č鹥ą┐ą╗ąŠąĄ ą╝ąŠčĆąĄ, čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ą▒ąĄčüą┐ą╗ą░čéąĮą░čÅ ŌĆō ą║čāą┐ą░ą╣čüčÅ,
čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ą╗ąĄąĘąĄčé. ąś ąČąĄąĮčēąĖąĮčŗ ąĘą┤ąĄčüčī ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠčéčĆčÅčüą░čÄčēąĄ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĮčŗąĄ, ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ čüąŠčüą╗čāąČąĖą▓čåąĄą╝, ą┐ąŠ čāčéčĆą░ą╝ ą▒ąĄą│ą░čÅ ąĘą░ ą▓ąĖąĮąŠą╝ ąĮą░ ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╣
čĆčŗąĮąŠą║, ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ ąĘą░ą▓ą╗ąĄą║ą░čéčī ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąĮčīą║ąĖčģ ą│ąŠčĆčÅąĮąŠą║, ąŠąĮąĖ ąŠą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĖ
ą┐čĆąŠąĖąĘąĮąŠčüąĖą╗ąĖ ąŠą┤ąĮąŠ čüą╗ąŠą▓ąŠ:
ŌĆō ą¤čģą░čłą░čĆąŠą┐.
ąóąŠ ąČąĄ čüą░ą╝ąŠąĄ ąŠąĮąĖ čüą╗čŗčłą░ą╗ąĖ ąĖ ąĮą░ čāą╗ąĖčåą░čģ,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓čŗą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ą▓ąĄč湥čĆą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠčłą▓čŗčĆąĮčāčéčīčüčÅ ą┐ąŠ ą║čāčĆąŠčĆčéąĮąŠą╝čā ą│ąŠčĆąŠą┤ą║čā čü
ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ąŠą╣ ąĘą░ą▓ąĄčüčéąĖ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čüčéą▓ąŠ. ąŁč鹊 čüą╗ąŠą▓ąŠ čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī č湥ą╝‑č鹊
ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą×čéą║ą░ąĘą░, ą╝ąŠą╗, ąĮąĄ ą┐čĆąĖčüčéą░ą▓ą░ą╣, ąĮąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ą┐čĆąĖ ą▓čüąĄą╣ ą╗čÄą▒ą▓ąĖ ą║
čĆčāčüčüą║ąĖą╝ ąĖ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ąÆčŗą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░čÅ ąĄą│ąŠ, ą░ą▒čģą░ąĘčüą║ąĖąĄ ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąĖąĄ ą┤ąĄą▓čāčłą║ąĖ, ą║ą░ą║
ąĖ č鹥, čćč鹊 čüą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖčüčī čü ą│ąŠčĆ, ąĮą░ą│čĆčāąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą▒čāčĆą┤čÄą║ą░ą╝ąĖ čü ą▓ąĖąĮąŠą╝, ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠ
ą║ą╗ąŠąĮąĖą╗ąĖ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ą┤ąŠą╗čā, ąĮąŠ ąĮąĄ čāčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ŌĆō čüč鹊čÅą╗ąĖ ąĖ č湥ą│ąŠ‑č鹊 ąČą┤ą░ą╗ąĖ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ čüčéčĆą░ąĮąĮčŗčģ, čüą╝čāčēąĄąĮąĮčŗčģ ąĮąĄčāą┤ą░čć ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ ŌĆō
čÅ čüąŠą│ą╗ą░čüąĮą░! ąśą╗ąĖ ŌĆō ą▓ąŠąĘčīą╝ąĖ ą╝ąĄąĮčÅ! ą¦č鹊ą▒čŗ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖčéčī čüą▓ąŠąĄ ąŠčéą║čĆčŗčéąĖąĄ, ąŠąĮ
čĆą░ąĘčŗčüą║ą░ą╗ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąĮąŠą│ąŠ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ąĖ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗, čćč鹊 čéą░ą║ąŠąĄ ŌĆō ą┐čģą░čłą░čĆąŠą┐.
ŌĆō ąĪčéčŗą┤ąĮąŠ, ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ č鹊čé.
ąś ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓čā ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 č鹊ąČąĄ čüčéą░ą╗ąŠ
ą┐čģą░čłą░čĆąŠą┐ ą┐ąŠ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝ąĄ.
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą┤ąĄčüčÅčéčī ą┤ąĮąĄą╣ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą▓ąĄčüąĮąŠą│ąŠ, ąĮąĖ čü
č湥ą╝ ąĮąĄ čüčĆą░ą▓ąĮąĖą╝ąŠą│ąŠ ąŠčéą┤čŗčģą░, ą║ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮčā ą┐čĆąĖčłąĄą╗ čåąĖą▓ąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą│ąŠčĆąĄčå ąĖ
ą▒ąĄąĘ ą▓čüčÅą║ąĖčģ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ą┐ąŠą╣čéąĖ čüą╗čāąČąĖčéčī ą▓ ąÆąÆąĪ ąÉą▒čģą░ąĘąĖąĖ. ąĪą╗čāąČą▒ą░ čā ąĮąĖčģ
čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ą░, ą▓čŗčÅčüąĮąĖą╗ąĖ, ą║č鹊 ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ ąĮą░ ąŠčéą┤čŗčģ. ą×ąĮ čüą║ą░ąĘą░ą╗, čćč鹊 ąĄčüčéčī
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čāč湥ą▒ąĮąŠ‑čéčĆąĄąĮąĖčĆąŠą▓ąŠčćąĮčŗčģ čüą░ą╝ąŠą╗ąĄč鹊ą▓, ąĮąŠ ąĮąĄčé ąŠą┐čŗčéąĮčŗčģ ą┐ąĖą╗ąŠč鹊ą▓, ą░
ąĮą░ą┤ąŠ ą┐ą░čéčĆčāą╗ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą╝ąŠčĆčüą║čāčÄ ą│čĆą░ąĮąĖčåčā, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▓ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ
ą▓ąŠą┤ą░čģ čåą░čĆąĖą╗ ą┐ąŠą╗ąĮčŗą╣ ą▒ąĄčüą┐čĆąĄą┤ąĄą╗. ą¤ąŠąŠą▒ąĄčēą░ą╗ ą▓ č鹊čé ąČąĄ ą┤ąĄąĮčī ą▓čŗą┐ą╗ą░čéąĖčéčī
čģąŠčĆąŠčłąĖąĄ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąĖ ąĮą░ ą▓čŗą▒ąŠčĆ ą┐ąŠą┤ą░čĆąĖčéčī ą┤ąŠą╝ą░ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│čā ą¦ąĄčĆąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠčĆčÅ.
ą¤čĆąĖč湥ą╝ ąĮąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░čéčī ąĖą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą░ą▓ą░čéčī ąĀąŠą┤ąĖąĮčā, čāą▓ąŠą╗čīąĮčÅčéčīčüčÅ ąĖąĘ
čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆą╝ąĖąĖ ŌĆō ą▓čüąĄ čüąŠą│ą╗ą░čüąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ ą▓čŗčüčłąĄą╝ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ. ąÆ čéčā ą┐ąŠčĆčā
ą▒ąĄąĘą┤ąŠą╝ąĮčŗą╣, ą┐ąŠčćčéąĖ ą▒ąĄąĘčĆą░ą▒ąŠčéąĮčŗą╣ ąĖąĘ‑ąĘą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖčÅ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░ ą▓ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▓ąĮą░čćą░ą╗ąĄ čĆą░čüč鹥čĆčÅą╗čüčÅ, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ čćčāčéčī ąĮąĄ čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ. ąÉ čüą╝čāčéąĖą╗ąŠ ą▓
ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé č鹊 ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ, čćč鹊 čā ą░ą▒čģą░ąĘčüą║ąĖčģ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮčåąĄą▓
čüą╗čāąČąĖą╗ąĖ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠčĆąĄąĘčŗ ąĖąĘ č湥č湥ąĮčüą║ąŠą╣ ą▒ą░ąĮą┤čŗ ąæą░čüą░ąĄą▓ą░, ąĖ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ, čüč鹊čÅčéčī
ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ čü ąĮąĖą╝ąĖ ą▓ ąŠą┤ąĮąŠą╝ čüčéčĆąŠčÄ.
ąöąŠ ą┤ą▓čāčģ ąĮąŠčćąĖ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą┐čĆąŠčüč鹊čÅą╗ čā
ą┐ąŠčćč鹊ą▓ąŠą╣ ą░ą╝ą▒čĆą░ąĘčāčĆčŗ ąĖ ą▓ čéčĆąĄčéčīąĄą╝ ą▒čŗą╗ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊 ą▓ą┐čāčēąĄąĮ ąĘą░ čüč鹥ą║ą╗čÅąĮąĮčŗą╣
ą▒ą░čĆčīąĄčĆ. ąÆ čüą░ą╝čŗą╣ ąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ čāąČąĄ čĆą░čüą┐čāčüčéąĖą╗ ą║čĆčŗą╗čīčÅ
ąĖ čüčéą░ą╗ ą▓čŗč湥čĆčćąĖą▓ą░čéčī ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčüą║ąŠą╣ ą║čĆą░čüą░ą▓ąĖčåčŗ ą│čĆą░čäąĖą║čā ą╗čÄą▒ąŠą▓ąĮąŠą│ąŠ
čéą░ąĮčåą░, ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čüą▓čÅąĘąĖ čÅą▓ąĖą╗čüčÅ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ąĖą╣, ąĮąŠ čéą░ą║ąŠą╣ ąČąĄ č湥čĆąĮąŠą│ą╗ą░ąĘčŗą╣
ą│ąŠčĆąĄčå, ąĖ ą£ą░ą│čāą╗čī ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠčéčāčģą╗ą░.
ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą▒čŗą╗ ą│ąŠč鹊ą▓ ą┤čĆą░čéčīčüčÅ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĄąĄ
čüąŠąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąĖą║ ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čäčĆą░ąĘ ąĮą░ ą░ą▒čģą░ąĘčüą║ąŠą╝, ąŠą║ąĖąĮčāą╗
ą║ąĖąĮąČą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮą░ ąĖ, ąĮąĄ čüą┐ąĄčłą░, čāą┤ą░ą╗ąĖą╗čüčÅ. ą×ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊
ą£ą░ą│čāą╗čī ąČąĖą▓ąĄčé ą▓ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤ą║ąĄ ąĮąĄ ąŠą┤ąĮą░ ŌĆō čü čéčĆąĄą╝čÅ ą▒čĆą░čéčīčÅą╝ąĖ, ąĖ ą▓čüąĄ ąŠąĮąĖ
ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ąĖ čüčÄą┤ą░ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ą▒ąĖąĘąĮąĄčüąŠą╝, ą░ ą║ąŠčĆąŠč湥, č鹊čĆą│ąŠą▓ą░čéčī ą▓ ą║čāą┐ąĄč湥čüą║ąŠą╝
ąŚą░ą▒ąŠčĆčüą║ąĄ čäčĆčāą║čéą░ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ą▒ą╗ąŠą║ą░ą┤čā, ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝
ą▓čŗą▓ąŠąĘčÅčéčüčÅ ąĖąĘ ąÉą▒čģą░ąĘąĖąĖ. ą×ą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ, ąĀąŠčüčüąĖčÅ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ąĄą╗ąĄąĮą░ ąÜą░ą▓ą║ą░ąĘąŠą╝ ąĮą░
ąĘąŠąĮčŗ čüą▓ąŠąĖčģ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą▓, ąĖ čüąĄą╝čīąĄ ą£ą░ą│čāą╗čī ą┤ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ čŹč鹊čé
čüąĖą▒ąĖčĆčüą║ąĖą╣ čĆąĄą│ąĖąŠąĮ, ą│ą┤ąĄ ąĄąĄ ą▒čĆą░čéčīčÅ ŌĆō ą┐ąŠą╗ąĮčŗąĄ čģąŠąĘčÅąĄą▓ą░ ą╝ąĄčüčéąĮąŠą│ąŠ čäčĆčāą║č鹊ą▓ąŠą│ąŠ
čĆčŗąĮą║ą░. ąś čüčĆą░ąĘčā čüčéą░ą╗ąŠ ą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ, ą┐ąŠč湥ą╝čā ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą▓ąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ąĮąĄą▓ąĄčüčéčŗ ąĮąĄčé
čĆčÅą┤ąŠą╝ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąČąĄąĮąĖčģą░. ąĢą╝čā ą▒čŗ č鹊ąČąĄ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąŠčéčüą║ąŠčćąĖčéčī, ąĮąŠ ąĮąĄ
ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ, ąĖ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ čāąČąĄ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ čüąĄą▒čÅ ą╗ąĄčĆą╝ąŠąĮč鹊ą▓čüą║ąĖą╝
ą│ąĄčĆąŠąĄą╝. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ą▓čŗčÅčüąĮąĖą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ą▒čĆą░čéčīčÅ ą£ą░ą│čāą╗čī čāąĄčģą░ą╗ąĖ ąĮą░ čüą▓ąŠąĄą╝
ŌĆ£ąÜą░ą╝ą░ąĘąĄŌĆØ ą▓ ą¦ąĖčéčā ąĘą░ čÅą▒ą╗ąŠą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą│čĆčāčłą░ą╝ąĖ ŌĆō ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ą║ąŠąĮč鹥ą╣ąĮąĄčĆ, ąĖ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčüčÅ
ąĮąĄ čĆą░ąĮčīčłąĄ, č湥ą╝ ą║ ą▓ąĄč湥čĆčā. ąÆ ą▓ąŠčüąĄą╝čī čćą░čüąŠą▓ čāčéčĆą░ ŌĆ£ąæąĄą╗ą░ŌĆØ čüą┤ą░ą╗ą░ čüą╝ąĄąĮčā ąĖ
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ čāą▓čÅąĘą░ą╗čüčÅ ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī ąĄąĄ ą┤ąŠą╝ąŠą╣. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓čüčéą░ą▓ čü ąĮąĄą╣ čĆčÅą┤ąŠą╝, ąŠąĮ
čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ čĆą░ąĘąĮąĖčåčā ą▓ čĆąŠčüč鹥 ŌĆō ą▓čŗčłąĄ ąĮą░ ą┐ąŠą╗ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ! ŌĆō ąĮąŠ ąĮąĄ čüą╝čāčéąĖą╗čüčÅ ąĖ
ą┐čĆąŠą┤ąĄč乥ą╗ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ č湥čĆąĄąĘ ą▓ąĄčüčī ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą║ ą▓ čüčéą░čĆčŗą╣ ą┐ąŠčüąĄą╗ąŠą║, ą│ą┤ąĄ
ą░ą▒čģą░ąĘčåčŗ čüąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą┤ąŠą╝. ąĢčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ, ąĮą░ą┐čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ąĮą░ čćą░ą╣, čģąŠčéčÅ ą┐ąŠčĆą░ ą▒čŗą╗ąŠ
ąĖą┤čéąĖ ąĮą░ čüą╗čāąČą▒čā, ąĮąŠ ą▓ ą┐ąŠą╗ą║ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ąŠ čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą▓ąĄąĘą╗ąĖ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čü ą┐ąĖą╗ąŠč鹊ą▓
čüčéčĆąŠą│ąŠą╣ čÅą▓ą║ąĖ ąĮąĄ čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗ąĖ: ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ŌĆō čģąŠčĆąŠčłąŠ, ąĮąĄ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ŌĆō č鹊ąČąĄ
ąĮąĄą┐ą╗ąŠčģąŠŌĆ”
ą¦ą░ą╣ ą║ą░ą║‑č鹊 ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄčłąĄą╗ ą▓
ą▓ąĖąĮąŠą┐ąĖčéąĖąĄ, ą┐čĆąĖč湥ą╝ ą£ą░ą│čāą╗čī ą┤ąŠčüčéą░ą╗ą░ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĖą╣ ą▒čāčĆą┤čÄą║ ąĖ ąĮą░čåąĄąČąĖą▓ą░ą╗ą░ ą▓
čüčéą░ą║ą░ąĮ č湥čĆąĄąĘ čéčĆčāą▒ą║čā, čü ą▒ąĄčĆąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąĖ ą╗čÄą▒ąŠą▓čīčÄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čüą░ą╝ą░ ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ
ą┐čĆąĖčéčĆąŠąĮčāą╗ą░čüčī ą║ ą▓ąĖąĮčā. ąÉ ąĘą░ą▓ąĄčüąĄą╗ąĄą▓čłąĖą╣, ą▓ą┐ą░ą▓čłąĖą╣ ą▓ ąĮąŠčüčéą░ą╗čīą│ąĖčÄ ą┐ąŠ ąŠčéą┤čŗčģčā
ą▓ ą¤ąĖčåčāąĮą┤ąĄ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ čłčéčāčĆą╝ ą║ą░ą▓ą║ą░ąĘčüą║ąŠą╣ ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéąĖ. ąĪąĖą▒ąĖčĆčī ąĮąĖą║ą░ą║
ąĮąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖą╗ą░ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░ ą▓ąŠčüč鹊čćąĮąŠą╣ ą┤ąĄą▓čāčłą║ąĖ; ąŠąĮą░ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĮąŠ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ą░
čĆą░ąĘą┤ąĄčéčī čüąĄą▒čÅ, čāą╗ąŠąČąĖčéčī ą▓ ą┐ąŠčüč鹥ą╗čī, ąĮąŠ ąĄą┤ą▓ą░ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ą║ ąĮąĄą╣ ą┐čĆąĖą║ąŠčüąĮčāą╗čüčÅ ŌĆō
čüąČą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą║ąŠą╝ąŠą║ ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘąĮąĄčüą╗ą░ čĆąĖčéčāą░ą╗čīąĮąŠąĄ čüą╗ąŠą▓ąŠ:
ŌĆō ą¤čģą░čłą░čĆąŠą┐.
ąś čüčéą░ą╗ą░ ą╗ąĄą┤čÅąĮą░čÅ.
ą¤čĆąŠą╝čāčćąĖą▓čłąĖčüčī ą┤ąŠ ąŠą▒ąĄą┤ą░, ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ ą┤ąŠą┐ąĖą╗
ą▓ąĖąĮąŠ ąĖąĘ ą▒čāčĆą┤čÄą║ą░ ąĖ čāčłąĄą╗ ąĮą░ čüą╗čāąČą▒čā.
ą¤ąĖą║čāą╗ąĖąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą▓čüąĄ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠčĆąŠą┤ą║ąĖ, ą▒čŗą╗
čüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĮąŠ ą┐čĆąŠąĘčĆą░čćąĮčŗą╝, čģčāąČąĄ ą▓čüčÅą║ąŠą╣ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĖ: ą▓čüąĄą╝, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÅ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░
ą┐ąŠą╗ą║ą░, ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, ą│ą┤ąĄ ąĖ ą║ą░ą║ ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ ąĮąŠčćčī ąĖ ą▓čüąĄ
ąŠčüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐čĆąĖą▒čŗą▓čłąĖą╣ ą┤ą╗čÅ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣čłąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ čüą╗čāąČą▒čŗ
ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ąĮą░ąĘąĄą╝ąĮąŠą╣, ąĮąĄą╗ąĄčéą░čÄčēąĄą╣ čŹčüą║ą░ą┤čĆąĖą╗čīąĖ, čĆą░ąĘąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ąĖąĘ ą╝ą░ą╣ąŠčĆąŠą▓ ą▓
ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮčŗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓.
ąŚą░ą╝ ą┐ąŠ ą▓ąŠčüą┐ąĖčéą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹥, ą┐čĆąŠčēąĄ
ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ, ą┐ąŠą╗ąĖčéčĆčāą║ ą┐čĆąĖą│ą╗ą░čüąĖą╗ ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĖ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮąŠ:
ŌĆō ąźąŠč湥čłčī ąČąĖčéčī ŌĆō ąĘą░ą▒čāą┤čī ą┤ąŠčĆąŠą│čā ą▓
ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ čüą▓čÅąĘąĖ.
ŌĆō ą» ą╝ą░č鹥čĆąĖ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤ ą┐ąŠčüčŗą╗ą░ą╗, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ. ŌĆō ąŻ čüčéą░čĆčāčłą║ąĖ čāčćąĖč鹥ą╗čīčüą║ą░čÅ ą┐ąĄąĮčüąĖčÅ.
ŌĆō ąÆ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ čĆą░ąĘ ą┤ą░čłčī ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ŌĆō čüą░ą╝
ą┐ąŠčłą╗čÄ.
ŌĆō ą¤čģą░čłą░čĆąŠą┐, č鹊ą▓ą░čĆąĖčē ą╝ą░ą╣ąŠčĆ.
ąĢą╝čā ąŠčéą║čāą┤ą░‑č鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüč鹥ąĮ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąŠą┤
čŹč鹊ą│ąŠ čüą╗ąŠą▓ą░.
ŌĆō ąØąĖč湥ą│ąŠ, čÅ č湥čĆąĄąĘ ą┐čģą░čłą░čĆąŠą┐ ą╝ąŠą│čā
ą┐ąĄčĆąĄčüčéčāą┐ąĖčéčī.
ŌĆō ąÉ čćč鹊 čéą░ą║?
ŌĆō ąöą░ ąĘą░čĆąĄąČčāčé č鹥ą▒čÅ. ą¤čĆąŠčüąĮąĄčłčīčüčÅ čāčéčĆąŠą╝, ą░
ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ ą▓ čéčāą╝ą▒ąŠčćą║ąĄ.
ŌĆō ą¤ąŠąĮčÅą╗, ŌĆō ą║ąŠąĘčŗčĆąĮčāą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓, čéčĆąĄąĘą▓ąĄčÅ,
ąĖ čāčłąĄą╗. ąæą╗ąĖąČąĄ ą║ ą▓ąĄč湥čĆčā ą▓ ą║ą╗ą░čüčüąĄ ą╝ą░čéą▒ą░ąĘčŗ ąĄą│ąŠ ą▓čŗą╗ąŠą▓ąĖą╗ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║
ąŠčüąŠą▒ąŠą│ąŠ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ąŚą░čģąŠą▓ą░ą╣ ąĖ ąĘą░ą╝ą░ąĮąĖą╗ ą║ čüąĄą▒ąĄ.
ŌĆō ąźčĆąĄąĮąŠą▓ąŠ čéčŗ čüą╗čāąČą▒čā ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčłčī,
ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ, ŌĆō ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠąĮ, čéą░čüčāčÅ ą▒čāą╝ą░ą│ąĖ ąĮą░ čüč鹊ą╗ąĄ. ŌĆō ąÉ ą▓ąĄą┤čī ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÄ
ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗, ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ą╗ąĄčéčćąĖą║ ąŠčé ąæąŠą│ą░.
ŌĆō ą×čé ąæąŠą│ą░, ŌĆō čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮ. ŌĆō
ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ą╗ąĄčéą░ą╗ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ, ąæąŠą│ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ą░ ąĮąĄ ą┤ą░ąĄčé.
ŌĆō ąæčāą┤ąĄčé č鹥ą▒ąĄ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ąŠ, ŌĆō ą┐čĆąŠąĘčĆą░čćąĮąŠ
ąĮą░ą╝ąĄą║ąĮčāą╗ ąŚą░čģąŠą▓ą░ą╣. ŌĆō ąŻ ąĮą░čü ąĄčüčéčī ąĮą░ č鹥ą▒čÅ ą▓ąĖą┤čŗŌĆ” ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ čüčāą╣čüčÅ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ
ąĮą░ ą┐ąŠčćčéčā.
ŌĆō ąÉ čćč鹊 čéą░ą║? ŌĆō čüąĮąŠą▓ą░ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓ ąĖ
čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąĖąĮčāčÄ ą▓ąĄčĆčüąĖčÄ.
ŌĆō ą×ą▒čŖčÅčüąĮčÅčÄ. ąæą░čĆčŗčłąĮčÅ ą▓ ąŠą║ąŠčłą║ąĄ ą┐ąŠčüą░ąČąĄąĮą░
čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ ą▒čĆą░čéčīčÅą╝ąĖ, čćč鹊ą▒ ąĘą░ą╝čāąČ ą▓čŗą┤ą░čéčī, ąČąĄą╗ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĘą░ čüčéą░čĆčłąĄą│ąŠ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░.
ŌĆō ą¤čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ. ąÉ ą║čāą┤ą░ ąĄčēąĄ ą┐ąŠčüą░ą┤ąĖčéčī
ą║čĆą░čüąĮčŗą╣ č鹊ą▓ą░čĆ? ą×ąĮą░ čéą░ą╝, ą║ą░ą║ ąĮą░ ą▓ąĖčéčĆąĖąĮąĄŌĆ”
ŌĆō ąØą░ąČąĖą▓ą║ą░ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ą┐ąŠ č鹥ą▒ąĄ, čģąŠčéčī ąĖ
čĆą░ąĘąČą░ą╗ąŠą▓ą░ą╗ąĖ. ąóčŗ čā ąĮą░čü ą░ą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖą║ŌĆ” ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą│ą┤ąĄ čüą╗čāąČąĖčéčī čģąŠč湥čłčī: ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ
ąĖą╗ąĖ ąÉą▒čģą░ąĘąĖąĖ?
ŌĆō ąōą┤ąĄ č鹊ą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ąĄčüčéčī.
ŌĆō ąØąĄ ą▓ą░ą╗čÅą╣ ą┤čāčĆą░ą║ą░, ą©ą░ą▒ą░ąĮąŠą▓. ą¢ąĄąĮčÅčé ąĖ
ąŠčéą┐čĆą░ą▓čÅčé ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĮą░ čĆąŠą┤ąĖąĮčā. ą×ąĮąĖ ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ ą╝ąĄčćčéą░čÄčé čüąŠąĘą┤ą░čéčī ąÆąÆąĪ.
ŌĆō ąÉ č湥ą│ąŠ ą▒čŗ ąĖą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī? ą×ąĮąĖ čĆčāčüčüą║ąĖčģ
ą╗čÄą▒čÅčé, ą║ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čģąŠčéčÅčé ą┐čĆąĖčüąŠąĄą┤ąĖąĮąĖčéčīčüčÅ. ąŻ ąĮąĖčģ čéą░ą╝ č鹥ą┐ą╗ąŠ ąĖ ą╝ąŠčĆąĄ ąĄčüčéčī. ąÉ
ą║ą░ą║ąĖąĄ ą┤ąŠą╝ą░!.. ąÆčŗ čéą░ą╝ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ, č鹊ą▓ą░čĆąĖčē ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║? ą¢ą░ą╗čī, ąĄčüčéčī ąĮą░
čćč鹊 ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčīŌĆ” |