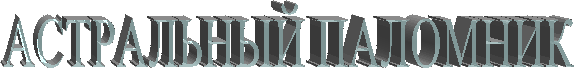|
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÜčĆą░ą╝ąŠą╗ą░. ąÜąĮąĖą│ą░ 1

http://publ.lib.ru
ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ
ąĀąŠą╝ą░ąĮ ┬½ąÜčĆą░ą╝ąŠą╗ą░┬╗ ŌĆö čŹč鹊 ąŠčüčéčĆąŠčüčĹȹĄčéąĮąŠąĄ
ą┐ąŠą▓ąĄčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░ą╝ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, čüą╗ąŠąČąĮčŗą╝, ąĄčēąĄ
ąĮąĄ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ ą┐ąŠąĮčÅčéčŗą╝ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░ą╝ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĖ ąĖ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ.
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąÜčĆą░ą╝ąŠą╗ą░. ąÜąĮąĖą│ą░ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ
ąÜąĮąĖą│ą░ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ. ąĪąóą×ąøą¤ą×ąóąÆą×ąĀąĢąØąśąĢ
1. ąÆ ąōą×ąö 1918ŌĆ”
ą£ąŠą╗ąĮąĖčÅ ą╗ąĄč鹥ą╗ą░ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ.
┬½ą×ą▒ąĄčĆąĄąČąĮčŗą╣ ą║čĆčāą│!┬╗ ŌĆö ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ ąŠąĮ. ąś ą▓
č鹊čé ąČąĄ ą╝ąĖą│, ąŠčüą╗ąĄą┐čłąĖą╣ ąĖ ąŠą│ą╗čāčłąĄąĮąĮčŗą╣ ą│čĆąŠą╝ąŠą╝, ą║ą░ąĮčāą╗ ą▓ č湥čĆąĮčāčÄ ą▒ąĄąĘą┤ąĮčā.
ą×čćąĮčāą▓čłąĖčüčī, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮąĄ čüčĆą░ąĘčā ą┐ąŠąĮčÅą╗, čćč鹊
ąĄą│ąŠ ąĘą░ą║ą░ą┐čŗą▓ą░čÄčé. ąŚąĄą╝ą╗čÅ ą┤ą░ą▓ąĖą╗ą░ ą│čĆčāą┤čī ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčłąĖą╗ą░ ą╗ąĖčåąŠ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ čĆčāą║ąĖ
č鹊čĆčćą░ą╗ąĖ ąĖąĘ čÅą╝čŗ, ąĖ čŹč鹊 ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ čüąĄą║čāąĮą┤čā ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ąŠ
ą┤ąŠčüą░ą┤čā: čģąŠčéčī ą▒čŗ ąĘą░čĆčŗą╗ąĖ ą║ą░ą║ čüą╗ąĄą┤čāąĄčéŌĆ”
ąś ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐čĆąŠąĮąĘąĖą╗ą░ ą╝čŗčüą╗čī ŌĆö ąČąĖą▓! ąŚą░č湥ą╝ ąČąĄ
čģąŠčĆąŠąĮčÅčé? ą×ąĮ ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗:
ŌĆö ą¢ąĖą▓ąŠą╣ čÅ! ą¢ąĖą▓ąŠą╣!
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮą░ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąĖą│ ą▓ąĮąŠą▓čī ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗
čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĄ. ą¤čĆąĖčłąĄą╗ ą▓ čüąĄą▒čÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĄą╝čā ąĮąŠąČąŠą╝ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘąČąĖą╝ą░čéčī ąĘčāą▒čŗ,
ą┐čŗčéą░čÅčüčī ąĮą░ą┐ąŠąĖčéčī ąĖąĘ čäą╗čÅąČą║ąĖ. ą×ąĮ ą╗ąĄąČą░ą╗ ąĮą░ čłąĖąĮąĄą╗ąĖ, ą┤ą▓ąŠąĄ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓
čģą╗ąŠą┐ąŠčéą░ą╗ąĖ ąŠą║ąŠą╗ąŠ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčĆčāą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓ąĘčÅą╗ čäą╗čÅąČą║čā ąĖ ą▓čŗą┐ąĖą╗ ą▓čüčÄ ą┤ąŠ
ą┤ąĮą░, ąŠčéą▒čĆąŠčüąĖą╗ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā.
ŌĆö ą¦č鹊 čüąŠ ą╝ąĮąŠą╣ ą▒čŗą╗ąŠ? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ.
ŌĆö ąöą░ ą│čĆąŠąĘąŠą╣ č鹥ą▒čÅ, ŌĆö ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ąĖ ąĄą╝čā. ŌĆö
ąØąĄ čłąĖą▒ą║ąŠ, ą▓ąŠąĮ ąĖ ąĮąĄ čüąŠąČą│ą╗ąŠ. ąÉ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé ŌĆö ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄčłą║ą░ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čüąĄą╗ ąĖ ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗čüčÅ. ąĪą▓ąĄčéą░ą╗ąŠ.
ąæąŠą╣čåčŗ čüą┐ą░ą╗ąĖ ąĮą░ čéčĆą░ą▓ąĄ ą╝ąĄąČą┤čā ą┤ąĄčĆąĄą▓čīąĄą▓, čćčāą┤ąŠą╝ ą▓čŗčĆąŠčüčłąĖčģ ąĖ ą┤ąŠąČąĖą▓čłąĖčģ ą┤ąŠ
čüčéą░čĆąŠčüčéąĖ ąĮą░ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╝ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠą╝ čāčüčéčāą┐ąĄ. ąÆąĮąĖąĘčā ą▒ąĄą╗ąĄą╗ą░ čĆąĄą║ą░,
ą┐ąŠą┤ąĄčĆąĮčāčéą░čÅ čéčāą╝ą░ąĮąŠą╝.
ąÆ čāčłą░čģ ąĘą▓ąĄąĮąĄą╗ąŠ, ą│čāą┤ąĄą╗ą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░, ą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ čüč鹊čÅą╗ ąĮąĄčüą╝ą░čĆą│ąĖą▓ą░ąĄą╝čŗą╣ ąĘąĖą│ąĘą░ą│ ą╝ąŠą╗ąĮąĖąĖ, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą▓čłąĖą╣ ą▒ąĄą╗čāčÄ ą▓ąĄčéą▓čī
ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░. ą×ąĮ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĄčēąĄ ą▓ąŠą┤čŗ, ąŠąĮąĄą╝ąĄą▓čłąĄą╣ čĆčāą║ąŠą╣ ą┐ą╗ąĄčüąĮčāą╗ ąĮą░ ą╗ąĖčåąŠ.
ą¤čĆąŠčÅčüąĮąĖą╗čüčÅ čāą╝, ą▓ čüč鹥ą┐ąĖ čüčéą░ą╗ąŠ čüą▓ąĄčéą╗ąĄąĄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮą░ ą▓čüąĄą╝ ą▓ąŠą║čĆčāą│ ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ
ąĘą╗ąŠą▓ąĄčēąĖąĄ ąŠčéą▒ą╗ąĄčüą║ąĖ ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠą│ąŠ ą┐ąŠąČą░čĆą░.
ąöą▓ąŠąĄ ą▓ ą▓čŗą│ąŠčĆąĄą▓čłąĖčģ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ą░čģ čüč鹊čÅą╗ąĖ
ą┐ąŠ ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąŠčé ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ ąĖ ą╝ąŠą╗čćą░ čéą░čĆą░čēąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░.
ąĀą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĖčģ ą╗ąĖčåą░ ą╝ąĄčłą░ą╗ą░ ą╝ąŠą╗ąĮąĖčÅ, ąĘą░ą┐ąĄčćą░čéą╗ąĄąĮąĮą░čÅ ąĘčĆąĄąĮąĖąĄą╝. ┬½ąÜą░ą║
ą░čĆčģą░ąĮą│ąĄą╗čŗ, ŌĆö ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąĪąĄą╣čćą░čü ą┐ąŠą┤čģą▓ą░čéčÅčé ąĖ ą┐ąŠąĮąĄčüčāčéŌĆ”┬╗
ŌĆö ąöąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗčéčī, čüąŠą│čĆąĄčłąĖą╗, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠą┤ąĖąĮ
ąĖąĘ ąĮąĖčģ. ŌĆö ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą│čĆąĄčłąĮčŗčģ ą▒čīąĄčé. ąÉ ą▓ąĄą┤čī ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ ąĄčēąĄŌĆ”
ŌĆö ąÆčüąĄ ą╝čŗ ą│čĆąĄčłąĮčŗ, ŌĆö ą┐čĆąŠą│čāą┤ąĄą╗ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ąĖ
ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖą╗čüčÅ.
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░ ą║ ąĮąĄą▒čā. ąōčĆąŠąĘąŠą▓ą░čÅ
čéčāčćą░, ą▓ąĘą┤čŗą▒ąĖą▓čłąĖčüčī ąŠčé ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓ čüą░ą╝čŗą╣ ąĘąĄąĮąĖčé, čüč鹊čÅą╗ą░ č湥čĆąĮąŠą╣
ą│ąŠčĆąŠą╣ ąĮą░ą┤ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ ąĖ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░ą╗ą░ ą▓ąĄčüčī ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮčŗą╣ ą▒ąĄčĆąĄą│. ąØąĄ ą┐čĆąŠą╗ąĖą▓
ąĖ ą║ą░ą┐ą╗ąĖ ą┤ąŠąČą┤čÅ, ąŠąĮą░ ą▓čŗą╝ąĄčéą░ą╗ą░, ąĖčüčéčĆą░čéąĖą╗ą░ ą▓ąĄčüčī čüą▓ąŠą╣ ą│ąĮąĄą▓ ąĖ čüąĖą╗čā,
čüąŠčéčĆčÅčüą░čÅ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ ąĮą░ą┤ čüč鹥ą┐čīčÄ, ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĘą░ą╝ąĄčĆą╗ą░ ąĮą░ ąĮąĄą▒ąŠčüą║ą╗ąŠąĮąĄ,
ą┐ą░čĆą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠčüčģąŠą┤čÅčēąĖą╝ čüąŠą╗ąĮčåąĄą╝. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ąŠą▒čĆčŗą▓čā: ąŠčé ą▓ąŠą┤čŗ
čéčÅąĮčāą╗ąŠ ą┐čĆąŠčģą╗ą░ą┤ąŠą╣, ą┤čŗčłą░čéčī čüčéą░ą╗ąŠ ą╗ąĄą│č湥.
ąÜąŠą│ą┤ą░ ą║čĆą░ą╣ čéčāčćąĖ ąĮą░ą▒čĆčÅą║ ą╝ą░ą╗ąĖąĮąŠą▓čŗą╝
čåą▓ąĄč鹊ą╝, ą┐ąŠą┤čāą╗ ą▓ąĄč鹥čĆ ąĖ č湥čĆąĮčŗą╣ ą║ąŠą╗ąŠčüčü ą▓ ą┐ąŠą┤ąĮąĄą▒ąĄčüčīąĄ ą▓ą┤čĆčāą│ ąĮą░čćą░ą╗
čĆą░ąĘą▓ą░ą╗ąĖą▓ą░čéčīčüčÅ, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąĘą░čéčīčüčÅ ą▓ą┤ąŠą╗čī ąĘą░čĆąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░. ąōą┤ąĄ‑č鹊 ą┐ąŠą┤
ą║čĆčāč湥ą╣, čā čüą░ą╝ąŠą╣ ą▓ąŠą┤čŗ, ą┐čĆąŠąĮąĘąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĘą░čēąĄą╗ą║ą░ą╗ čüąŠą╗ąŠą▓ąĄą╣.
ą×čüčéčāąČąĄąĮąĮą░čÅ ąĘą░ ąĮąŠčćčī ąĘąĄą╝ą╗čÅ č鹥ą┐ąĄčĆčī
čģąŠą╗ąŠą┤ąĖą╗ą░, ąĖ ą┐ąŠą┤ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīčÅą╝ąĖ čüą╗čŗčłą░ą╗ąŠčüčī čüąŠąĮąĮąŠąĄ čłąĄą▓ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ. ą×ąĘąĮąŠą▒
ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą┐čĆąĖąČąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā, ą┐ąŠą┤čéčÅą│ąĖą▓ą░čéčī ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ ą║
ą┐ąŠą┤ą▒ąŠčĆąŠą┤ą║čā.
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą║ ą╝ąĄčüčéčā, ą│ą┤ąĄ ąĄą│ąŠ
ąĮą░čüčéąĖą│ą╗ą░ ą╝ąŠą╗ąĮąĖčÅ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ čü ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ą┐ąŠčĆčéčāą┐ąĄčÄ čü čłą░čłą║ąŠą╣ ąĖ čĆąĄą▓ąŠą╗čīą▓ąĄčĆąŠą╝,
ą▒ąĖąĮąŠą║ą╗čī ą▓ č湥čģą╗ąĄ ąĖ, čåąĄą┐ą╗čÅčÅčüčī čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ąĘą░ ąČąĄčüčéą║čāčÄ čéčĆą░ą▓čā, ą┐ąŠčłąĄą╗ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą┐ąŠ
čüą║ą╗ąŠąĮčā. ąĢčēąĄ ąĮąĄ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĖčüč湥ąĘą╗ą░ čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąĮąĄą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄąĮąĄčüąĄąĮąĮąŠą│ąŠ
čéąĖčäą░, ą║ č鹊ą╝čā ąČąĄ ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ ą║čĆčāąČąĖą╗ą░čüčī ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ ąĖ ą║ąŠą╝ č鹊賹ĮąŠčéčŗ ą┐ąŠą┤ą║ą░čéčŗą▓ą░ą╗ ą║
ą│ąŠčĆą╗čā. ąĪąŠą▒ąĖčĆą░čÅčüčī čü čüąĖą╗ą░ą╝ąĖ, ąŠąĮ čćą░čüč鹊 ąŠčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖ ąŠą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗čüčÅ
ąĮą░ąĘą░ą┤, ą│ą┤ąĄ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠą╝ ą╗ąĄčüąĖčüč鹊ą╝ čāčüčéčāą┐ąĄ, čā čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆčŗą▓ą░, čüą┐ą░ą╗ąĖ
ą▒ąŠą╣čåčŗ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ąÆąĄčĆąĮąĄąĄ, ą▓čüčæ, čćč鹊 ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī ąŠčé ą┐ąŠą╗ą║ą░, ŌĆö čéčĆąĖčüčéą░
ą┐čÅčéčīą┤ąĄčüčÅčé čłčéčŗą║ąŠą▓.
ąÆ čüč鹥ą┐ąĖ č鹊ąĮąĄąĮčīą║ąŠ ąĖ ą┐čĆąĖąĘčŗą▓ąĮąŠ čƹȹ░ą╗ą░
ą╗ąŠčłą░ą┤čīŌĆ”
ąØą░ čüą░ą╝ąŠą╝ ą│čĆąĄą▒ąĮąĄ ą▒ąĄčĆąĄą│ą░ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī
ąĮą░ą╝ąĮąŠą│ąŠ čüą▓ąĄčéą╗ąĄąĄ, č湥ą╝ ą▓ąĮąĖąĘčā, ąĮą░ čāčüčéčāą┐ąĄ, ą░ ąĘąŠčĆąĄą▓ąŠąĄ ąĮąĄą▒ąŠ ŌĆö ą▒ą╗ąĖąČąĄ ąĖ
čÅčĆč湥. ąÆąŠ ą▓čüąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą╗ąĄąČą░ą╗ą░ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮą░čÅ čüč鹥ą┐čī čü čĆą░čüč湥čüą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝
čéčĆą░ą▓ą░ą╝ąĖ, čü čĆąĄą┤ą║ąĖą╝ąĖ ą╗ąĄčüąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠą╗ą║ą░ą╝ąĖ čā ą┐ąŠą┤ąĮąŠąČąĖčÅ čģąŠą╗ą╝ąŠą▓. ąÆąŠčüč鹊ą║ čāąČąĄ ą▒čŗą╗
čüą▓ąĄč鹥ą╗ ąĖ čćąĖčüčé, ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čéą░ą║ ą┤ą░ą╗ąĄą║, čćč鹊, ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ąĘą░ą║čĆčāą│ą╗ąĄąĮąĖąĄ
ąŚąĄą╝ą╗ąĖ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ čéą░ą╝, ą│ą┤ąĄ čĆąĄą║ą░ ąæąĄą╗ą░čÅ čāč鹥ą║ą░ą╗ą░ ąĘą░ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčé, ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī
ąĄą┤ą▓ą░ ąĘą░ą╝ąĄčéąĮčŗąĄ ą┤čŗą╝čŗ: ą▓ ąŻč乥 čćč鹊‑č鹊 ą│ąŠčĆąĄą╗ąŠŌĆ”
ąÆčüą║ąĖąĮčāą▓ ą▒ąĖąĮąŠą║ą╗čī, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗
ą▓ čéčā čüč鹊čĆąŠąĮčā: ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąĘąŠčĆąŠą╝ ą║ąŠą╗čŗčģą░ą╗ą░čüčī čüč鹥ą┐čī čü ą║ąŠčĆąŠčüčéąĮčŗą╝ąĖ ą┐čĆąŠą╗ąĄąČąĮčÅą╝ąĖ
čüąŠą╗ąŠąĮčåąŠą▓. ą¤ąŠą╗ąŠą│ąĖąĄ čģąŠą╗ą╝čŗ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ąŠą╗ąĮčŗ, ą║ą░čéąĖą╗ąĖčüčī ą║ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╝čā
ą╝ą░č鹥čĆąĖą║ąŠą▓ąŠą╝čā ą▒ąĄčĆąĄą│čā, ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čüč鹊čÅą╗ ą│ąŠčĆąŠą┤. ąś ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąČąĖą▓ąŠą╣ ą┤čāčłąĖ
ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ č鹊čé čćą░čü ą▓ ą▒ąĄąĘą╝ąŠą╗ą▓ąĮąŠą╝ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąĄ.
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐čĆąŠčłąĄą╗ ą▓ą┤ąŠą╗čī ą▒ąĄčĆąĄą│ą░. ąŚą░čĆčÅ
ąŠą┐čĆąŠą║ąĖą┤čŗą▓ą░ą╗ą░ č鹥ą╝ąĮąŠąĄ ąĮąĄą▒ąŠ, ą║ą░ą║ ąŠą┐čĆąŠą║ąĖą┤čŗą▓ą░čÄčé ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮčāčéčāčÄ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ą┤ąĮąŠą╝
ą╗ąŠą┤ą║čā.
ąŻą▓ąĖą┤ąĄą▓ ą▓ čéčĆą░ą▓ąĄ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║čā čü ą┐čĆąĖą╝ą║ąĮčāčéčŗą╝
čłčéčŗą║ąŠą╝, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮą░ą│ąĮčāą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ąĄąĄ. ąĀčÅą┤ąŠą╝ ą▓ą░ą╗čÅą╗ąĖčüčī čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║ą░čÅ
čäčāčĆą░ąČą║ą░ ąĖ ą┐ąŠą┤čüčāą╝ąŠą║. ą¦ą░čüąŠą▓ąŠą╣ ą▒ąĄąČą░ą╗ čü ą┐ąŠčüčéą░ ŌĆö čüąĄą╝ąĮą░ą┤čåą░čéčŗą╣ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆ ąĘą░
ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ čéčĆąŠąĄ čüčāč鹊ą║. ąØąŠ čüąĄą╣čćą░čü ąĮąĄ čŹč鹊 ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗ąŠ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ. ąĢčüą╗ąĖ ąĖ
čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ čāčłąĄą┤čłąĖą╣ ąĘą░ čĆąĄą║čā čüąŠ ą▓ąĘą▓ąŠą┤ąŠą╝ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ąĮąĄ ąĮą░ą╣ą┤ąĄčé
ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ ą£ą░čģąĖąĮą░ ąĖ ąĄčüą╗ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ą║ą░, ąŠč鹊čüą╗ą░ąĮąĮą░čÅ čü ą▓ąĄč湥čĆą░ ą▓ čüč鹥ą┐čī,
ą▓čüčéčĆąĄčéąĖčé ą║ą░ąĘą░čćčīąĖ čüąŠčéąĮąĖ, ąĖą┤čāčēąĖąĄ ą║ ąŻč乥 ąŠčé ąĪč鹥čĆą╗ąĖčéą░ą╝ą░ą║ą░, č鹊 ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ
ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ čłčéčāčĆą╝ąŠą▓ą░čéčī ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčāčÄ ą┤ąŠčĆąŠą│čā. ąöčĆčāą│ąŠą│ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ą░ ąĮąĄčé. ąóąŠą╗čīą║ąŠ čéčāą┤ą░,
ąĘą░ ą╝ą░ą│ąĖčüčéčĆą░ą╗čī, ąĖąĮą░č湥 č湥čĆąĄąĘ čüčāčéą║ąĖ, ą░ č鹊 ąĖ čĆą░ąĮčīčłąĄ, ą┐ąŠą╗ą║ ą▒čāą┤ąĄčé ąŠą▒čĆąĄč湥ąĮ,
ą┐čĆąĖąČą░čéčŗą╣ ą║ ┬½čćčāą│čāąĮą║ąĄ┬╗ čü čéčĆąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ.
ąÉ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗčģ čüąĖą╗ ąĖ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ ą£ą░čģąĖąĮą░ čüąŠ
čłčéą░ą▒ąŠą╝ ąĘą░ čĆąĄą║ąŠą╣ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ąĮąĄ ą▒čŗčéčī: ą┐ąŠą╗ą║ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ čāąČąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗
ąĮąĖ čüą▓čÅąĘąĖ, ąĮąĖ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąŠą▓ ąĖ ą╝ąŠčéą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠ ą│ąŠčĆčÅč湥ą╣ čüč鹥ą┐ąĖ ą▓ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ čüą▓ąŠąĖčģ,
ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čĆą░ąĘ ąĮą░čéčŗą║ą░čÅčüčī č鹊 ąĮą░ ą▒ąĄą╗ąŠč湥čģąŠą▓, č鹊 ąĮą░ ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊 ąĖąĮčŗąĄ ą▓čĆą░ąČčīąĖ
čćą░čüčéąĖ. ąÆ ą▒ąŠą╣ ąĮąĄ ą▓čüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ, ą░ ą╗ąĖčłčī ąŠčéčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ, ąŠčéą▒ąĖą▓ą░čÅčüčī, ą│ą╗čāą▒ąČąĄ ą▓ čüč鹥ą┐čī
ąĖ ąĮąŠčćčīčÄ ąŠą┐čÅčéčī ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī ą║ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ. ąöąŠą╗ąĄčéą░ą╗ąĖ čüą╗čāčģąĖ, ą▒čāą┤č鹊
ąŻčäąĖą╝čüą║ąĖą╣ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ąĪąŠą▓ąĄč鹊ą╝, č湥ą║ą░ ąĖ ą╝ąĖą╗ąĖčåąĖąĄą╣ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ ąĘą░
┬½čćčāą│čāąĮą║čā┬╗ ąĖ čāą║čĆąĄą┐ąĖą╗čüčÅ ą│ą┤ąĄ‑č鹊 ąĮą░ čĆąĄą║ąĄ ąŻč乥. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮą░ ą┐čāčéčÅčģ, ą│ą┤ąĄ ą▒čŗ ąĮąĖ
ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ ą┐ąŠą╗ą║ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ ą║ ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮčā, ą▓čüčÄą┤čā čüč鹊čÅą╗ąĖ ąĘą░ą▒ąĖčéčŗąĄ č湥čģą░ą╝ąĖ čŹčłąĄą╗ąŠąĮčŗ.
ąĪąŠąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ą┐ąĄčćą░čéą╗ąĄąĮąĖąĄ, ą▒čāą┤č鹊 ą▓čüčÅ ąĀąŠčüčüąĖčÅ ą┐ąĄčĆąĄčĆąĄąĘą░ąĮą░ ąŠą┤ąĮąĖą╝
ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮčŗą╝ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝. ąæąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠčüčéčī čéą░ą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ
ąŠą▒ąĄčüą║čāčĆą░ąČąĖą▓ą░ą╗ą░ ąĖ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ą░ čéąĖčģąŠąĄ, ąĘą╗ąŠąĄ ąŠčéčćą░čÅąĮąĖąĄ.
ąæčŗą▓čłąĖą╣ čłčéą░ą▒čü‑ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąæąĄčĆąĄąĘąĖąĮ
ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┤ą▓čāčģ ą╗ąĄčé ą│ąĄčĆą╝ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą┐ąŠąĮčÅčéčī ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║čāčÄ, ąĮą░
ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą╝ąĄčüčÅčå ąĮą░ąĘą░ą┤. ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ą░ čüčéčĆą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░: ą▒ąĄąĘ ąŠą║ąŠą┐ąŠą▓ ąĖ
čéčŗą╗ą░, ą▒ąĄąĘ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ čłčéą░ą▒ą░, ą▒ąĄąĘ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅŌĆ” ą┤ą░ ąĖ ą▒ąĄąĘ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ
čäčĆąŠąĮčéą░, ąĖą▒ąŠ ą║ąŠą│ą┤ą░ čäčĆąŠąĮčé ą▓ąĄąĘą┤ąĄ, ą║čāą┤ą░ ąĮąĖ ą┐ąŠą╣ą┤ąĖ, č鹊 čŹč鹊 čāąČąĄ ąĮąĄ čäčĆąŠąĮčéŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓čŗčéą░čēąĖą╗ ąĖąĘ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮą░ čćą░čüčŗ ąĖ
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąĖčüčī: čüą╗ąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čüčéčĆąĄą╗ą║ąĖ
ąĘą░ą╝ąĄčĆą╗ąĖ ąĮą░ ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéąĖ. ąś čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą▒čŗ ą┐ąŠč鹊ą╝ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮąĖ ą║čĆčāčéąĖą╗ ąĘą░ą▓ąŠą┤, ąĮąĖ
čéčĆčÅčü ąĖčģ ŌĆö čćą░čüčŗ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖ. ąÆąĖą┤ąĮąŠ, ąĖčüą┐ąŠčĆčéąĖą╗ąĖčüčī ąŠčé čāą┤ą░čĆą░ ą╝ąŠą╗ąĮąĖąĖ, ą░ ą╝ąŠąČąĄčé,
ąĮą░ čŹč鹊ą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ ąĖ čüą░ą╝ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠčüčī?..
ą×ą║ą░ąĘą░ą▓čłąĖčüčī ą▓ ąæą░čłą║ąĖčĆąĖąĖ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ ą▓čüčÄ ąĀąŠčüčüąĖčÄ ą║ą░ą║ ą▒ąĄčüą║čĆą░ą╣ąĮčÄčÄ
ą│ąŠčĆčÅčćčāčÄ čüč鹥ą┐čī, ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą╝ąĄčéą░ą╗ąĖčüčī ąŠčéčĆčÅą┤čŗ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĖ ą▓čüąĄ
čģąŠč鹥ą╗ąĖ ą┐ąĖčéčī, ą┐ąĖčéčī! ąĢčüą╗ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī ą▓ąŠą┤ą░, č鹊 ąŠąĮą░ ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ą░čüčī ą│ąŠčĆčÅč湥ą╣
ąĖ ąĮąĄ čāč鹊ą╗čÅą╗ą░ ąČą░ąČą┤čŗ, ąĖ ąŠčüčéčāą┤ąĖčéčī ąĄąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą│ą┤ąĄ; ąĖą╗ąĖ, ąĮą░ ą▓ąĖą┤ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮą░čÅ ąĖ
čćąĖčüčéą░čÅ, ąŠąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą│ąŠčĆčīą║ąŠ‑čüąŠą╗ąĄąĮąŠą╣, ąĮąĄ ą│ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┤ą╗čÅ ą┐ąĖčéčīčÅ; ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖ
ą┐čĆąĄčüąĮą░čÅ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ąĮą░ą┐ąŠąĖčéčī ąČą░ąČą┤čāčēąĖčģ: čĆą░ąĘą┤čāą▓ą░čÅ ąČąĄą╗čāą┤ą║ąĖ, ąŠąĮą░ čüą║ąŠčĆąŠ
ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▒ąĄą╗čŗą╝ąĖ čĆą░ąĘą▓ąŠą┤čīčÅą╝ąĖ ąĮą░ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ą░čģ. ąöąĮąĄą╝ ą╗čÄą┤ąĖ ąČą┤ą░ą╗ąĖ ąĮąŠčćąĖ,
čćč鹊ą▒čŗ ąŠčéą┤ąŠčģąĮčāčéčī ąŠčé ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠą╣ ą│ąŠąĮą║ąĖ ąĖ čģąŠčéčÅ ą▒čŗ čćčāčéčī ąŠčüčéčāą┤ąĖčéčī č鹥ą╗ąŠ ąĖ
čāąĮčÅčéčī ą║ą╗ąŠą║ąŠčćčāčēčāčÄ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ ą║čĆąŠą▓čī. ąÉ ąĮąŠčćčīčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÅ ąŠčüčéčŗą▓ą░ą╗ą░ ąĖ ąĮą░ čüą╝ąĄąĮčā
ąČą▒čĆčā ąĮą░ą▓ą░ą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ąĖą║ąĖą╣ čģąŠą╗ąŠą┤, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ą▓ąĮąŠą▓čī čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī č鹥ą┐ą╗ą░ŌĆ”
ąÆ čŹč鹊ą╝ ąŠą│ąĮąĄ, ą▓ čŹč鹊ą╣ ą▓čüąĄą╗ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ąČą░ąČą┤ąĄ
čāą│ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ č湥ą│ąŠ‑č鹊 ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ, ąĮąĄą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠą│ąŠ ą┤ąŠąĮčŗąĮąĄ ąĖ ą┐ąŠą║ą░
ąĮąĄą┐ąŠčüčéąĖąČąĖą╝ąŠą│ąŠŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ą▓ąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖčéčī, ą║ą░ą║
čüą╗ąŠąČąĖčéčüčÅ ą┤ąĄąĮčī, čćč鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘąŠą╣ą┤ąĄčé ą║ ą▓ąĄč湥čĆčā, ąĖ ą▓ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ čüą░ą╝ą░ čüąŠą▒ąŠą╣
ąĮą░čĆąĖčüąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ą║ą░čĆčéąĖąĮą░: ą│čāčüč鹊ą╣ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčéąĮčŗą╣ ąŠą│ąŠąĮčī ąŠčé ąĮą░čüčŗą┐ąĖ ąĖ čĆąĄą┤ąĄčÄčēą░čÅ,
ąĖąĘąŠčĆą▓ą░ąĮąĮą░čÅ čåąĄą┐čī ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓ ą┐ąŠą╗ą║ą░, čĆą░ąĘą▓ąĄčĆąĮčāčéą░čÅ čäčĆąŠąĮč鹊ą╝ ą║
ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮąŠą╣ ą╝ą░ą│ąĖčüčéčĆą░ą╗ąĖ. ąÉ ąĮą░ą┤ ą▓čüąĄą╝ čŹčéąĖą╝ ŌĆö čüą╗ąĄą┐čÅčēąĄąĄ čüąŠą╗ąĮčåąĄŌĆ”
┬½ąØąĄčé, ąĮąĄčé, čéą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓č湥čĆą░, ŌĆö ąÉąĮą┤čĆąĄą╣
ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ čüąŠčüčĆąĄą┤ąŠč鹊čćąĖčéčī ą╝čŗčüą╗ąĖ ąĮą░ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝. ŌĆö ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą▓čüąĄ ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčé
ąĖąĮą░č湥ŌĆ”┬╗
ąÆą┤čĆčāą│ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗: ą×ą╗čÅ! ąōą┤ąĄ ąŠąĮą░
č鹥ą┐ąĄčĆčī? ąóą░ą╝, ąĘą░ ┬½čćčāą│čāąĮą║ąŠą╣┬╗, ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąŠą╝ ąĖ ąŻčäąĖą╝čüą║ąĖą╝ ąĪąŠą▓ąĄč鹊ą╝,
ąĖą╗ąĖ ąĘą░ą╗ąŠąČąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąĄą╗ąĖ čü čüąŠą▒ąŠą╣, ą░ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ąĄ?
ąØą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčéčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ą║čĆą░čüąĮčŗąĄ, ą▒čŗą╗ą░ ą┐ą░ąĮąĖą║ą░, ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī, ą▓ čüčāąĄč鹥
ąĖ ąĮąĄčĆą░ąĘą▒ąĄčĆąĖčģąĄ ąŠ ąĮąĖčģ ąĘą░ą▒čŗą╗ąĖ, ą░ ą▒ąĄą╗ąŠč湥čģąĖ ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĖ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĖą╗ąĖ
čüąĄčüčéčĆčā?
ąÜčĆą░čüąĮčŗąĄŌĆ”
ąÆčüčÅą║ąĖą╣ čĆą░ąĘ, ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÅ ą┐čĆąŠ čüąĄą▒čÅ čŹč鹊
čüą╗ąŠą▓ąŠ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čüą┐ąŠčģą▓ą░čéčŗą▓ą░ą╗čüčÅ, čćč鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠąĮ č鹊ąČąĄ ┬½ą║čĆą░čüąĮčŗą╣┬╗ ŌĆö
ą▓ąŠąĄąĮčüą┐ąĄčå, ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ą┐ąŠą╗ą║ą░. ąś ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčéčī ą║ ąĮąŠą▓ąŠą╝čā čüą▓ąŠąĄą╝čā
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÄ, čüą╝ąĖčĆąĖčéčīčüčÅ čü čüčāą┤čīą▒ąŠą╣. ąźąŠčéčÅ ą▒čŗ ą┤ąŠ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą┐ąŠą║ą░ ąŠąĮ ąĘą┤ąĄčüčī, ą▓
čüčāčģąŠą╣ ą▒ą░čłą║ąĖčĆčüą║ąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĖ, ą░ čüąĄčüčéčĆą░ ą×ą╗čÅ ŌĆö čéą░ą╝, ą▓ ąĘą░ą╗ąŠąČąĮąĖą║ą░čģ.
ąś ą│ą┤ąĄ‑č鹊 ą▓ ąŻč乥 ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ ąĄčēąĄ ą▒čĆą░čé
ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆ. ą£ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī, ąĄą╝čā čāą┤ą░čüčéčüčÅ čüą┐ą░čüčéąĖ, ą▓čŗčĆčāčćąĖčéčī ą×ą╗čÄ?!
ą£čŗčüą╗čī čŹčéą░ č鹥ą┐ą╗ąĖą╗ą░ ąĮą░ą┤ąĄąČą┤čā. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▒čŗ
ąŠąĮąĖ ąŠčüčéą░ą╗ąĖčüčī ąČąĖą▓čŗ, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▒čŗ ąŠąĮąĖŌĆ”
ąóąŠą│ą┤ą░ ą▓čüąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖčéčüčÅ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┐ąŠą╗čāčćąĮąŠ ŌĆö ąĖ
čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĖą╣ ą┤ąĄąĮčī, ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖąĄ; ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ čāą│ą░čüąĮąĄčé čüčéčĆą░ąĮąĮą░čÅ
ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮą░čÅ ą▓ąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠąĮąĖ ą▓čüąĄ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčüčÅ ą┤ąŠą╝ąŠą╣, ą▓ ąæąĄčĆąĄąĘąĖąĮąŠ. ąś ą▒čāą┤ąĄčé ą╝ąĖčĆŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓čŗą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ąĖ ąĘą░čłą▓čŗčĆąĮčāą╗ ą▓ čéčĆą░ą▓čā
ąĘą░čéą▓ąŠčĆ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║ąĖ, ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆąŠą╝. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čüčéčŗčćą║ąĖ čü
ą▒ąĄą╗ąŠč湥čģą░ą╝ąĖ ą╗ąĖčłąĮąĖąĄ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║ąĖ ąĮąĄą║čāą┤ą░ ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąĄą▓ą░čéčī. ąØąĄčüčéąĖ čéčÅąČąĄą╗ąŠ, ą░
ą▒čĆąŠčüąĖčéčī ŌĆö čéčĆąŠč乥ą╣ ą▓čĆą░ą│čā. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĘą░čéą▓ąŠčĆą░ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą╝ą░ą╗ąŠ, čéčĆąĄčģą╗ąĖąĮąĄą╣ą║ą░
ąĄčēąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ą░čüčī ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓čüą░ą┤ąĖą╗ čłčéčŗą║ ą▓ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĖ ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ
čüą╗ąŠą╝ą░čéčī ąĄą│ąŠ: ą│ąĮčāą╗, ąĮą░ą╗ąĄą│ą░čÅ č鹥ą╗ąŠą╝ ąĮą░ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤, čĆą░čüą║ą░čćąĖą▓ą░ą╗ ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ
čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ŌĆö č湥čéčŗčĆąĄčģą│čĆą░ąĮąĮąŠąĄ ąČą░ą╗ąŠ ą┐čĆčāąČąĖąĮąĖą╗ąŠ ąĖ ą▓čŗą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖąĘ ąĘąĄą╝ą╗ąĖŌĆ”
ąŚą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ čüč鹊čÅą╗ ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣, ą▒ąŠčĆąŠą┤ą░čéčŗą╣
ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĄčå ą▓ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą╣ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĄ, čēčāčĆąĖą╗čüčÅ, ą┐ąŠąĘąĄą▓čŗą▓ą░ą╗, ąĘčÅą▒ą║ąŠ
ą▓čüčéčĆčÅčģąĖą▓ą░ą╗ ą┐ą╗ąĄčćą░ą╝ąĖ.
ŌĆö ą¤ąŠą╝ąŠą│ąĖ, ŌĆö ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ŌĆö ąöą░ą╗ą░čüčī ąŠąĮą░ č鹥ą▒ąĄ, ŌĆö ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå. ŌĆö ąØąĄ ą╗ąŠą╝ą░ą╣ ą┤ąŠą▒čĆąŠ, ą║ą░ą║‑ąĮąĖą║ą░ą║ čüčéą░čĆą░ą╗ąĖčüčī, ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ. ą¢ą░ą╗ą║ąŠŌĆ”
ąÆąŠąĮ ą╗čāčćčłąĄ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ą╣. ą¤ą╗čŗą▓čāčéŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓čŗčłąĄą╗ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓čāčÄ ą║čĆąŠą╝ą║čā: ą┐ąŠ
čĆąĄą║ąĄ, čåąĄą┐ą╗čÅčÅčüčī ąĘą░ ą▒čĆąĄą▓ąĮą░, ą┐ą╗čŗą╗ąĖ ą╗čÄą┤ąĖ. ąÆ ą▒ąĖąĮąŠą║ą╗čī čÅčüąĮąŠ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ąĖą┤ąĮčŗ
ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą╗ąĖčåą░, čłąĖčĆąŠą║ąŠ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĖ čĆčéčŗ. ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣
čćč鹊‑č鹊 ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąĖ, ąŠčéą┐ą╗ąĄą▓čŗą▓ą░čÅ ą▓ąŠą┤čā, ąŠą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ąĘą░ą┤. ą×čé ą▓ąĘą▓ąŠą┤ą░
ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčīŌĆ”
ą¤čĆąĖą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čÅ čłą░čłą║čā, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čüą┐čāčüčéąĖą╗ ąĮąŠą│ąĖ
čü ąŠą▒čĆčŗą▓ą░ ąĖ ą┐ąŠą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ąĮąĖąĘ. ą¤ąŠą║ą░ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤čćąĖą║ąĖ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąČą░ą╗ąĖčüčī ą║ ą▒ąĄčĆąĄą│čā,
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čāą╝čŗą╗čüčÅ, čüą┐ąŠą╗ąŠčüąĮčāą╗ ąĮą░č鹥ą╗čīąĮčāčÄ čĆčāą▒ą░čģčā. ąĪčŗčĆą░čÅ ąĖ ą┐čĆąŠčģą╗ą░ą┤ąĮą░čÅ, ąŠąĮą░
ąĄčēąĄ ąĮą░ ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčéą┤ą░ą╗ąĖčé ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĘąĮąŠą╣ąĮąŠąĄ čüąŠą╗ąĮčåąĄ ą▓ąĮąŠą▓čī
ą┐čĆąĖą┐ąĄč湥čé ą┐ą╗ąĄčćąĖ ąĖ čüą┐ąĖąĮčā.
ąÜčĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ ą▓čŗą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ą▓ąŠą┤čŗ,
ą┐ą░ą┤ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠą╣ ąŠčéą║ąŠčü, čĆą░čüą║ąĖąĮčāą▓ čĆčāą║ąĖ, ą┤čŗčłą░ą╗ąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠ, ąĘą░ą┐ą░ą╗ąĄąĮąĮąŠ.
ąÜč鹊‑č鹊 ą║ą░čłą╗čÅą╗, ąŠčéčĆčŗą│ąĖą▓ą░čÅ ą▓ąŠą┤čā. ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ŌĆö č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čüčĆąĄą┤ąĮąĖčģ ą╗ąĄčé, ą▓
ą┐ąĄąĮčüąĮąĄ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą▓ą░č鹊ą╝ ą░ąĮą│ą╗ąĖą╣čüą║ąŠą╝ čäčĆąĄąĮč湥 ŌĆö čüąĮčÅą╗ čü ą▒čĆąĄą▓ąĮą░ čüą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗąĄ
čüą░ą┐ąŠą│ąĖ ąĖ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ąÉąĮą┤čĆąĄčÄ. ąĪč鹊čÅą╗ ą▒ąŠčüąŠą╣, ą╝ąŠą║čĆčŗą╣, ąĮąŠ čāčüčéą░ą╗ąŠčüčéąĖ ąĮąĄ
ąĘą░ą╝ąĄčćą░ą╗ąŠčüčī, čĆą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 ą║čĆą░čüąĮąŠą▓ą░čéčŗąĄ, ąĮą░ą▓čŗą║ą░čé, ą│ą╗ą░ąĘą░ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ąĖ čüą║ą▓ąŠąĘčī
ą╗ąĖąĮąĘčŗ ą┐čĆąĖčüčéą░ą╗čīąĮąŠ ąĖ čéčÅąČąĄą╗ąŠą▓ą░č鹊.
ŌĆö ą¦č鹊 čéą░ą╝? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ, ą▓čŗą╗ąĖą╗ ą▓ąŠą┤čā ąĖąĘ
ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠą╣ ą║ąŠą╗ąŠą┤ą║ąĖ ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖą╗ ą┐ą░čéčĆąŠąĮčŗ. ą¤ąŠč鹊ą╝ čéą░ą║ ąČąĄ ąĮąĄ čüą┐ąĄčłą░ ą▓ą╗ąŠąČąĖą╗
ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▓ ą║ąŠą▒čāčĆčā, ąĮąŠ ą║čĆčŗčłą║čā ąĮąĄ ąĘą░čüč鹥ą│ąĮčāą╗.
ŌĆö ą£ą░čģąĖąĮ ą┐čĆąĄą┤ą░ą╗, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ ąĖ ą▓čüą║ąĖąĮčāą╗
ąĮą░ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░. ŌĆö ą£ą░čģąĖąĮ ąĮą░čåąĄą┐ąĖą╗ ą┐ąŠą│ąŠąĮčŗ. ąś ą▓čüąĄ ą▒čŗą▓čłąĖąĄ
ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗŌĆ” ą¤ą░čĆčéąĖą╣ąĮčŗčģ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗čÅą╗ąĖ.
ŌĆö ąæčāą┤ąĄą╝ ą┐čĆąŠą▒ąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ąĘą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčāčÄ
ą┤ąŠčĆąŠą│čā, ŌĆö ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĖ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖą╗ čģąŠą┤ čłą░čłą║ąĖ ą▓ ąĮąŠąČąĮą░čģ. ŌĆö ąŻą╣ą┤ąĄą╝
ą┤ą░ą╗čīčłąĄ ąŠčé ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ ŌĆö ąĖ ą┐čĆąŠą▒čīąĄą╝čüčÅ.
ŌĆö ąØą░ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ŌĆö č湥čģąĖ! ŌĆö ą▓ąŠąĘą╝čāčēąĄąĮąĮąŠ
čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ. ŌĆö ąÆą░ą╝ ą╝ą░ą╗ąŠ ą▓č湥čĆą░čłąĮąĄą│ąŠ?
ŌĆö ąÉ ą▓čŗ ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ, ąŠąĮąĖ ąĮą░čü ą▒ą╗ąĖąĮą░ą╝ąĖ
ą▓čüčéčĆąĄčéčÅčé?! ŌĆö č鹊ąČąĄ ą▓ąĘą▓ąĖąĮčéąĖą╗čüčÅ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąØą░ą┤ąŠ ąĖčüą║ą░čéčī čüą╗ą░ą▒ąŠąĄ ą╝ąĄčüč鹊 ąĖ
ą┐čĆąŠčĆčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĮąŠčćčīčÄ!.. ąØąŠčćčīčÄ ą┐čĆąŠą╣ą┤ąĄą╝, ąŠčéą┤ąŠčģąĮčāčé ą╗čÄą┤ąĖ ŌĆö ąĖ ą┐čĆąŠą╣ą┤ąĄą╝.
ąØąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąŠąĮ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ čüčĆąĄą┤ąĖ
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą│ąŠ ą┐ą░čĆąĮčÅ ą▓ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĄ čü ą┐ąŠą│ąŠąĮą░ą╝ąĖ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░.
ŌĆö ąśąĘ ą▓ą░čłąĖčģ, ŌĆö ą║ąĖą▓ąĮčāą╗ ąĮą░ ą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ą┐ąĄčĆąĄčģą▓ą░čéąĖą▓ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ. ŌĆö ąÆčüąĄ ą┐ąŠą│ąŠąĮčŗ ąĮą░čéčÅąĮčāą╗ąĖŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║čā, ŌĆö ą┐ąŠą│ąŠąĮčŗ
čüą▓ąĄčłąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čü čāąĘą║ąĖčģ ąĖ ą┐ąŠą║ą░čéčŗčģ ą┐ą╗ąĄčć, ą╝ąŠą║čĆą░čÅ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ą░ ą┐čĆąĖą╗ąĖą┐ą╗ą░ ą║
č鹥ą╗čā; ą▒ąŠčüčŗąĄ čüčéčāą┐ąĮąĖ ąĮąŠą│ ą▒ąĄą╗ąĄą╗ąĖ ąĮą░ čüčŗčĆąŠą╝ ą┐ąĄčüą║ąĄŌĆ”
ŌĆö ąÜą░ą║ ąČąĄ čŹč鹊 čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī, ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║? ŌĆö
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ŌĆö ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ, ŌĆö čéčāčüą║ą╗ąŠ ą▓čŗą┤ą░ą▓ąĖą╗ č鹊čé ąĖ
ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░. ŌĆö ą» ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ą┐ąŠą╣ą╝čā. ąØąĖč湥ą│ąŠ.
ąØą░ ąŠą▒čĆčŗą▓ąĄ ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠčüąĄąĮ čüč鹊čÅą╗ąĖ
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ. ą×ą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą▓ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║čā, čüą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ čü čāčüčéčāą┐ą░ ąĖ
ą┐ąŠą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ąĮąĖąĘ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ čłą╗ąĄą╣čä ą┐čŗą╗ąĖ. ąś čüą╗ąĄą┤ąŠą╝, ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą╝ąĄčüčéą░čģ,
ą▓čüą┐čŗčģąĮčāą╗ąŠ ąĄčēąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐čŗą╗čīąĮčŗčģ ą▓ąĖčģčĆąĄą╣. ąÜąŠąĮčāčüčŗ ą┐ąĄčüą║ą░ ą┐ąŠ ąŠčéą║ąŠčüčā čĆąŠčüą╗ąĖ
ąĖ ą┤ąŠą▒čĆąĄą╗ąĖ, ą║ą░ą║ č鹥čüč鹊 ą▓ ą║ą▓ą░čłąĮąĄ.
ŌĆö ąØą░ąĘą░ą┤! ŌĆö ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ąĖ
ą┐ąŠč鹊čĆąŠą┐ąĖą╗ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓, ą┐čĆąĖą┐ą╗čŗą▓čłąĖčģ čü ąĮąĖą╝: ŌĆö ąØą░ą▓ąĄčĆčģ! ąæčŗčüčéčĆąŠ!
ąæčŗčüčéčĆąŠ, č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĖ!
ąÜčĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ čü
ąĘąĄą╝ą╗ąĖ, ą║č鹊‑č鹊 ą┐ąŠą┤č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░, čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÅ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║ąŠą╣ ąĮą░ą▓ąĄčĆčģ.
ą¤čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ ą▓ą┤čĆčāą│ ą▓čåąĄą┐ąĖą╗čüčÅ ą▓ čĆčāą║ą░ą▓ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ, ąĘą░čģą╗ąŠą┐ą░ą╗ ą│čāą▒ą░ą╝ąĖ, čüąĖą╗čÅčüčī
čćč鹊‑č鹊 čüą║ą░ąĘą░čéčī, ąĮąŠ ąĮąĄ čüą╝ąŠą│ ą┐čĆąŠąĖąĘąĮąĄčüčéąĖ ąĮąĖ čüą╗ąŠą▓ą░ ąĖ ą╗ąĖčłčī čéą░čĆą░čēąĖą╗
ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ čüą▓ąĄčéą╗čŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░. ąÜčĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå ą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ ąĘą░ čĆčāą║čā, ą┐ąŠą▓ą╗ąĄą║ ą▓
ą│ąŠčĆčā.
ąŻ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆčŗą▓ą░ ą┐ąŠ‑ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╝čā č鹊ą╗ą║ą╗ąĖčüčī
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ, ą╝ą░čģą░ą╗ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čćč鹊‑č鹊 ąŠą▒čüčāąČą┤ą░ą╗ąĖ ąĖ čüą┐ąŠčĆąĖą╗ąĖ. ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣
ąČą┤ą░ą╗, čüčéą░čĆą░čÅčüčī ą┐ąŠą╣ą╝ą░čéčī ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ.
ŌĆö ąÉ ą▓čŗ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▒ąĄčĆąĄą│ą╗ąĖ čüąĄą▒ąĄ ą┐ąŠą│ąŠąĮčŗ? ŌĆö
ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ, čüąĮčÅą▓ ą┐ąĄąĮčüąĮąĄ, ą▓ą┐ąĖą╗čüčÅ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ. ąóąŠčé ą╝ąŠą╗čćą░
čĆą░čüą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ čäčĆąĄąĮčć ą┐ąŠą┤ čĆąĄą╝ąĮčÅą╝ąĖ, ą┐ąŠčéčĆąŠą│ą░ą╗ ą┐ą░ą╗čīčåą░ą╝ąĖ ąĮąŠąČąĮčŗ.
ą×čé ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ą┐ą░čģą╗ąŠ ą║ą░ą║ ąŠčé ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░,
ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ą┐čĆąŠą╗ąĄąČą░ą▓čłąĄą│ąŠ ą▓ ą▓ąŠą┤ąĄ.
ŌĆö ą» ą┤ą░ą╗ čüą╗ąŠą▓ąŠ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąÉ ą┐ąŠč鹊ą╝, ą▓čŗ ąČąĄ ąĘąĮą░ąĄč鹥, ą╝ąŠčÅ čüąĄčüčéčĆą░ ąŠčüčéą░ą╗ą░čüčī ąĘą░ą╗ąŠąČąĮąĖčåąĄą╣ŌĆ”
ŌĆö ąŚąĮą░čÄ, čÅ ą▓čüąĄ ąĘąĮą░čÄ, ŌĆö ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗
ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ. ŌĆö ą£ą░čģąĖąĮ č鹊ąČąĄ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ čüą╗ąŠą▓ąŠ. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ą░čłąĖ čüą╗ąŠą▓ą░, ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ą░
ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąŠč鹊賹Ąą╗ ą║ ą▓ąŠą┤ąĄ ąĖ čüčéą░ą╗ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ą║
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą╝čā. ąĪčéąĖčüąĮčāą╗ čĆčāą║ąĖ, čüčåąĄą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ ą┐ąŠčÅčüąĮąĖčåąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆčģčā čłčāą╝
čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ, ą║čĆąĄą┐ą╗ąĖ ą▓ąŠąĘą╝čāčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠą╗ąŠčüą░: ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ąĮą░ąĘčĆąĄą▓ą░ą╗ ą╝ąĖčéąĖąĮą│.
ŌĆö ąÜąŠą╝čā ą▓čŗ ąĮąŠčćčīčÄ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ čüąĖą│ąĮą░ą╗čŗ? ŌĆö
ąČąĄčüčéą║ąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ. ŌĆö ą» ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą║ąŠčüčéčĆčŗ.
ŌĆö ąÜąŠčüčéčĆąŠą▓ ąĮąĄ ąČą│ą╗ąĖ, ŌĆö ąĮąĄ ąŠą▒ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░čÅčüčī,
ą▒čĆąŠčüąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąÆčüąĄ čüą┐ą░ą╗ąĖŌĆ”
ŌĆö ąØąŠ čÅ čüą░ą╝! ąĪą░ą╝ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąŠą│ąĮąĖ!
ŌĆö ą×ą│ąĮąĖ? ŌĆö ą╝ąŠčĆčēą░čüčī, ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąæąĄčĆąĄąĘąĖąĮ. ŌĆö ąöą░, ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą│ąĮąĖ. ąÜčāą┐ą░ą╗čīčüą║ą░čÅ ąĮąŠčćčī ąĮčŗąĮč湥, ą┐ą░ą┐ąŠčĆąŠčéąĮąĖą║ čåą▓ąĄą╗. ŌĆö
ąś, čĆąĄąĘą║ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆąĮčāą▓čłąĖčüčī, ą┐ąŠą╗ąĄąĘ ą▓ ą│ąŠčĆčā ą┐ąŠ ąĘčŗą▒ą║ąŠą╝čā ą┐ąĄčüą║čā.
ŌĆö ą¦č鹊? ŌĆö ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčÅą╗ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣,
čāčüčéčĆąĄą╝ą╗čÅčÅčüčī čüą╗ąĄą┤ąŠą╝. ŌĆö ą¦č鹊 ąĘą░ ą│ą╗čāą┐ąŠčüčéčī? ąÜą░ą║ąŠą╣ ą┐ą░ą┐ąŠčĆąŠčéąĮąĖą║? ą»
čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░čÄ: ą║č鹊 ąČąĄą│ ąŠą│ąĮąĖ?
ą¤ąĄčüąŠą║ ąŠą┐ą╗čŗą▓ą░ą╗ ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, čāč鹥ą║ą░ą╗
ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ąĮąŠą│, ąĖ ąÉąĮą┤čĆąĄčÄ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ąŠąĮ čüč鹊ąĖčé ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥, čģčāąČąĄ č鹊ą│ąŠ ŌĆö
čüą┐ąŠą╗ąĘą░ąĄčé ą▓ąĮąĖąĘ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čŹč鹊ą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĄą╣. ąś čćč鹊 ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą▓ą┤čĆčāą│ čāč鹥čĆčÅą╗ą░ čüą▓ąŠčÄ
ą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮčāčÄ čéą▓ąĄčĆą┤čīŌĆ”
ąÜąŠą│ą┤ą░ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čü ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆąŠą╝ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ąĖčüčī ąĮą░
ą▒ąĄčĆąĄą│, čüčéąĖčģąĖą╣ąĮčŗą╣ ą╝ąĖčéąĖąĮą│ čāąČąĄ ą▒čāčłąĄą▓ą░ą╗ ą▓ąŠą▓čüčÄ. ąóąŠčćąĮąĄąĄ, čŹč鹊 ą▒čŗą╗ čüčāą┤,
ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čüčĆąĄą┤ąĖ č鹊ą╗ą┐čŗ čüč鹊čÅą╗ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║, ą░ čĆčÅą┤ąŠą╝, čā ąĄą│ąŠ ąĮąŠą│, čüąĖą┤ąĄą╗
ą┐ą╗ąĄčćąĖčüčéčŗą╣ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ ą▒ą░čłą║ąĖčĆ ŌĆö ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆąŠą▓ą░ą▓čłąĖą╣ ą┤ąŠąĘąŠčĆąĮčŗą╣, ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║čā
ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮą░čłąĄą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ŌĆö ąÜąŠąĮčī ą▓ čüč鹥ą┐ąĖ čƹȹ░ą╗, čÅ ą┐ąŠčłąĄą╗, ŌĆö
ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗ ą▒ą░čłą║ąĖčĆ. ŌĆö ąÜąŠąĮčī čƹȹ░ą╗, ą┤čāą╝ą░ą╗, ą┐ąŠą╣ą╝ą░čÄ, ą╝ąŠą╣ ą║ąŠąĮčī ą▒čāą┤ąĄčéŌĆ”
ŌĆö ą¤ąŠč湥ą╝čā ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║čā ą▒čĆąŠčüąĖą╗?! ŌĆö ąŠčĆą░ą╗ąĖ ąĄą╝čā
čüąŠ ą▓čüąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ. ŌĆö ąÆ čĆą░čüčģąŠą┤! ąÆ čĆą░čüčģąŠą┤ ąĄą│ąŠ, čüčāą║čā!
ąÉ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░ ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąĮąĄ čéčĆąŠą│ą░ą╗ąĖ, ąĮąĄ
ąĘą░ą┤ąĖčĆą░ą╗ąĖ, ąĖ ąŠąĮ čüč鹊čÅą╗ ąŠčéčćčāąČą┤ąĄąĮąĮčŗą╣, čüčüčāčéčāą╗ąĖą▓čłąĖą╣čüčÅ.
ąÆąŠąĘą▒čāąČą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ čüč鹊čÅčéčī ąĮą░
ą╝ąĄčüč鹥, ą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąĄčüą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠčćąĮąŠ, ą▒ąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ: ą║č鹊‑č鹊 ą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ
ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčīčüčÅ ąĮą░ą┤ č鹊ą╗ą┐ąŠą╣ ąĖ čüą║ą░ąĘą░čéčī čĆąĄčćčī, ąĮąŠ ąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ŌĆö ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī
čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą▓čüąĄą╝ čüčĆą░ąĘčā. ą¦č鹊‑č鹊 ą▒ąĄąĘčāą╝ąĮąŠąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ čŹč鹊ą╣ čüčéčĆą░čüčéąĖ.
ąöąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆ č鹊ąČąĄ čüčéą░ą╗ ą║čĆąĖčćą░čéčī, čüą▓ąĄčĆą║ą░čÅ
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, ąĮąŠ čüą╗ąŠą▓ą░ ąĄą│ąŠ č鹊ąĮčāą╗ąĖ ą▓ ą│čāą╗ąĄ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓. ą×ą┐čĆą░ą▓ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĄą╝čā ą▒čŗą╗ąŠ
ą▒ąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ ŌĆö ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ čüą╗čāčłą░ą╗.
ŌĆö ą¤ąŠą┤čŗčģą░čéčī ŌĆö čéą░ą║ ą▓čüąĄą╝! ŌĆö ąŠčĆą░ą╗ ąĖ
ą║čĆčāąČąĖą╗čüčÅ ą▓ č鹊ą╗ą┐ąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆčāą║ąĖą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå čü ąŠą▒ąŠąČąČąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čüąŠą╗ąĮčåąĄą╝
ą┐ą╗ąĄčćą░ą╝ąĖ. ŌĆö ąśčłčī čģąĖčéčĆąŠąĘą░ą┤čŗą╣! ąÆ ą║čāčüčéčŗ?!
ąØą░ą┤ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą║ą░čćą░ą╗ą░čüčī ą▓ąŠčĆąŠąĮąĄąĮą░čÅ
čüčéą░ą╗čī čłčéčŗą║ąŠą▓, ą▒čāą┤č鹊 čéčĆą░ą▓ą░ ą┐ąŠą┤ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą▓ą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓ ą╗ąĖčåą░ ŌĆö
ą╝ąĄą╗čīą║ą░ą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ čĆą░čüą║čĆčŗčéčŗąĄ čĆčéčŗ, ą▓čŗą┐čāč湥ąĮąĮčŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░, ąĘą░ą│ąŠčĆąĄą╗čŗąĄ ą┤ąŠ
č湥čĆąĮąŠčéčŗ čüą║čāą╗čŗŌĆ” ąØąĖ ąŠą┤ąĖąĮ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ ą┐ąŠą╣ą╝ą░ąĮ, ąĖ ąĮą░ čŹč鹊ą│ąŠ,
čüąĄą╝ąĮą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą┐ąŠ čüč湥čéčā, ąŠą▒čĆčāčłąĖą▓ą░ą╗čüčÅ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓ąĄčüčī ą│ąĮąĄą▓.
ąś č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▒ąŠąĄčå čü ą▒ą╗ąĄą┤ąĮčŗą╝ ą┤ąĄą▓ąĖčćčīąĖą╝ ą╗ąĖčåąŠą╝
čüąĖą┤ąĄą╗ ą┐ąŠą┤ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╝ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮą║ąĄ ąĖ č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ąČąĄą▓ą░ą╗ ą┐čłąĄąĮąĖčåčā, ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą░čÅ ąĄąĄ
ąĖąĘ čüąĖą┤ąŠčĆą║ą░. ąöą░ ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå ą╗ąĄąĮąĖą▓ąŠ ą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ čā ąŠą▒čĆčŗą▓ą░, ą┤ąĄčƹȹ░ ą▓
čĆčāą║ą░čģ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║čā, ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮčāčÄ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆąŠą╝. ąÉ ąĄčēąĄ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą╗ąĄąČą░čéčī ąĮą░
ąĘąĄą╝ą╗ąĄ čéčÅąČąĄą╗ąŠčĆą░ąĮąĄąĮčŗąĄ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ č鹥, čćč鹊 čāą╝ąĄčĆą╗ąĖ ąŠčé čĆą░ąĮ čŹč鹊ą╣ ą│čĆąŠąĘąŠą▓ąŠą╣
ąĮąŠčćčīčÄ ąĖ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠčģąŠčĆąŠąĮąĄąĮčŗ.
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐čĆąŠą▒čĆą░ą╗čüčÅ ą║ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčéčćąĖą║čā,
ą▓čŗą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ąĖąĘ ąĄą│ąŠ čĆčāą║ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčé ąĖ ą┤ą░ą╗ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ. ąōčāą╗
čĆą░ąĘąŠą╝ čüą╝ąŠą╗ą║, ąĖ ą╗ąĖčłčī čéčÅąČąĄą╗ąŠąĄ ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄ ą▓čŗčĆčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖąĘ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗčģ čĆč鹊ą▓.
ŌĆö ą¤ąŠą╗ą║! ąĪčéčĆąŠą╣čüčÅ! ŌĆö ąĮą░ą┐čĆčÅą│ą░čÅčüčī,
čüą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ąóąĄčüąĮčÅčüčī, ą▒ąŠą╣čåčŗ čĆą░ąĘąŠą╝ą║ąĮčāą╗ąĖ ą║ąŠą╗čīčåąŠ,
ą▓čŗčüčéčĆąŠąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą╗čāą║čĆčāą│ąŠą╝, ą╗ąĖčåą░ą╝ąĖ ą║ ąŠą▒čĆčŗą▓čā. ą¤čĆąŠą║ą░čéąĖą╗čüčÅ čłąĄą╗ąĄčüčéčÅčēąĖą╣
čłąĄą┐ąŠčé, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ąĄč鹥čĆ ą┐ąŠ ą║ąŠą▓čŗą╗čÄ.
ą¤čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║, čĆą░čüą┐čĆčÅą╝ąĖą▓čłąĖčüčī, ą┐ąŠą┐čĆą░ą▓ąĖą╗
ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║čā ŌĆö ą┐ąŠą┤čüąŠčģčłąĖą╣ ą▒ąĄą╗čŗą╣ ą┐ąĄčüąŠą║ ąĮą░ ąĄąĄ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ąĄ čéąĖčģąŠ ąŠą┐ą░ą╗ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗čÄ.
ŌĆö ą¤čĆąĖą│ąŠą▓ąŠčĆ ąĮą░čĆąŠą┤ą░ čüą╗čŗčłą░ą╗ąĖ? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣.
ŌĆö ąŻ ąĮą░čü ąĮąĄčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ čüčāą┤ąĖčéčī, ŌĆö ą▒čĆąŠčüąĖą╗
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąś čŹč鹊 ąĮąĄ ą╝ąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ŌĆö čüčāą┤ąĖčéčī.
ŌĆö ąĪčāą┤ čüąŠčüč鹊čÅą╗čüčÅ, ŌĆö ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣. ŌĆö ą¤čĆąĖą│ąŠą▓ąŠčĆ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄč鹥?
ŌĆö ąŚą░ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆčüčéą▓ąŠ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ
čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗, ŌĆö ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĖ čāą╝ąŠą╗ą║.
ŌĆö ąÉ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄą╗ąĖ? ŌĆö ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą╝ąŠčéąĮčāą╗
ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░, ąĘą░č鹥ą╝ ą▓ąĮąŠą▓čī ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąÉąĮą┤čĆąĄčÄ. ŌĆö ąś
ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗ą░ ąĮąĄ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ, čéą░ą║, ą┐ąŠ‑ą▓ą░čłąĄą╝čā?
ŌĆö ą¤ąŠ‑ą╝ąŠąĄą╝čā, ąŠąĮ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤ą░ą▓ą░ą╗, ŌĆö ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąĢą│ąŠ ą║č鹊‑č鹊 ą┐čĆąĄą┤ą░ą╗ŌĆ” ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, ą╝ąĮąĄ čéčĆčāą┤ąĮąŠ ą┐ąŠąĮčÅčéčīŌĆ”
ą×ąĮ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║čā ąĖ ą║čĆą░ąĄą╝ ą│ą╗ą░ąĘą░
čāą▓ąĖą┤ąĄą╗, čćč鹊 ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą┤ąŠčüčéą░ąĄčé ą╝ą░čāąĘąĄčĆ. ą¤čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ ąČą┤ą░ą╗ č湥ą│ąŠ‑č鹊 ąŠčé
ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ, ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ąČą░ą┤ąĮąŠ ąĖ ą▓čüąĄ ąŠčéčĆčÅčģąĖą▓ą░ą╗, ąŠčéčĆčÅčģąĖą▓ą░ą╗ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĖ,
ą▓čŗą▒ąĖą▓ą░čÅ ą▒ąĄą╗ąĄčüčāčÄ ą┐čŗą╗čī.
ŌĆö ąÆ čéą░ą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ŌĆö ąŠč鹊ą╣ą┤ąĖč鹥! ŌĆö
čüą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣. ŌĆö ą¤ąŠ ąĘą░ą║ąŠąĮą░ą╝ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĘą░
ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆčüčéą▓ąŠ ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ŌĆö čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüčéčĆąŠąĄą╝!
ŌĆö ą¤čĆąŠčüčéąĖ, ą▒čĆą░čé, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąĮąĄ ą│ą╗čÅą┤čÅ
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĖ ąŠč鹊賹Ąą╗.
ŌĆö ąŚą░ čćč鹊? ŌĆö ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗čüčÅ ąĘą░
ąĮąĖą╝, ąĮąĄąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čĆą░čüčüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ. ŌĆö ąÜą░ą║ ŌĆö ą┐čĆąŠčüčéąĖ?!
ąÉ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ č鹥ą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ą┐ąŠą┤ą░ą╗ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčā ą▓ ąĮą░č鹥ą╗čīąĮąŠą╣ čĆčāą▒ą░čģąĄ, ą┐ąŠą┤ą┐ąŠčÅčüą░ąĮąĮąŠą╣ čĆąĄą╝ąĮąĄą╝ čü ą┐ąŠą┤čüčāą╝ą║ąŠą╝.
ąóąŠčé ą╝ąĄčģą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖ ą┐čĆąŠčéčÅąĮčāą╗ čĆčāą║čā, čćč鹊ą▒čŗ ą▓ąĘčÅčéčī ą╝ą░čāąĘąĄčĆ, ąĮąŠ čéčāčé ąČąĄ
ąŠčéą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ąĄąĄ, ą┐ąŠą┐čÅčéąĖą╗čüčÅ, ą▓ąČąĖą╝ą░čÅčüčī čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ą▓ ą┐ą╗ąŠčéąĮčāčÄ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║čāčÄ
ą╝ą░čüčüčā. ąÉ čüč鹊čÅčēąĖą╣ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ąĮąĖą╝ ą▓ąĄčüąĮčāčłčćą░čéčŗą╣ ą▒ąŠąĄčå čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ čĆčāą║ąĖ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮčā.
ąĪčéčĆąŠą╣ ąĘą░ą╝ąĄčĆ, ąĘą░čéą░ąĖą╗ ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄ. ąøčÄą┤ąĖ ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąŠčéą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī, ą╗ąĖą▒ąŠ
ąŠą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĮą░ č湥čĆąĮčŗą╣ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ ą▓ čĆčāą║ąĄ
ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░.
ŌĆö ąöąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīčåčŗ ąĄčüčéčī? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ąŠą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░čÅ čüčéčĆąŠą╣.
ąÜčĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖ. ąĪą╗čŗčłąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ,
ą║ą░ą║ ą▒ąŠčĆą╝ąŠč湥čé ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆ čā ąŠą▒čĆčŗą▓ą░ ŌĆö ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ, ą╝ąŠą╗ąĖą╗čüčÅŌĆ”
ŌĆö ąÆčŗ ąČąĄ čüą░ą╝ąĖ ą▓čŗąĮąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖą│ąŠą▓ąŠčĆ! ŌĆö
ą┐ąŠą┤ą▒ąŠą┤čĆąĖą╗ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ. ŌĆö ąÉ ą┐čĆąĖą▓ąĄčüčéąĖ ą▓ ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄą║ąŠą╝čā? ąĀą░ąĘą▓ąĄ ą╝ą░ą╗ąŠ
ą┐ąŠą│ąĖą▒ą╗ąŠ ą▓ą░čłąĖčģ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣ ąĖąĘ‑ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗ąĄą╣ ąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮčŗ?
ŌĆö ąöąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆą░ ą▒čŗ ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄčéčī ąĮą░ą┤ąŠ, ŌĆö
ąĮąĄčüą╝ąĄą╗ąŠ ąŠčéą║ą╗ąĖą║ąĮčāą╗čüčÅ ą║č鹊‑č鹊 ąĖąĘ ą│čāčēąĖ čüčéčĆąŠčÅ. ŌĆö ąŁą┤ą░ą║‑č鹊 ąĖ čüą▓ąŠąĖčģ
ą┐ąĄčĆąĄčģą╗ąĄčłčłąĄą╝ŌĆ”
ŌĆö ąÉ ąŠąĮ ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄą╗ ą▓ą░čü, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒ąĄąČą░ą╗? ŌĆö
ąĘą░čüčéčĆąŠąČąĖą╗čüčÅ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣.
ŌĆö ąöą░ą║ ąĮąĄ čüč鹥čĆą┐ąĄą╗, ą▓ąĄčĆąĮąŠ, ŌĆö ą┐ąŠčüą╗čŗčłą░ą╗ąŠčüčī
čü ą┐čĆą░ą▓ąŠą│ąŠ čäą╗ą░ąĮą│ą░. ŌĆö ąØąĄ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ čéą░ą║čā ą▓ąŠą╣ąĮčā čüč鹥čĆą┐ąĖčé. ą¤ąŠąČą░ą╗ąĄčéčī ą▒čŗŌĆ”
ŌĆö ą¤ąŠąČą░ą╗ąĄčéčī?! ŌĆö ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ ąĖ
ąĘą░ą║ąŠą╗ąŠą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ ą▓ čüčéčĆąŠčÄ, ą▓čŗčĆčŗą▓ą░čÅčüčī ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤, ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆčāą║ąĖą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå. ŌĆö
ąÉ ąĮą░čü ą║č鹊 ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄąĄčé?! ąØą░ą╝ čüąĮąŠą▓ą░ ąĮą░ čüą╝ąĄčĆčéčī, ą░ ąŠąĮ, čģąĖčéčĆąŠąĘą░ą┤čŗą╣, ą▓
ą║čāčüčéčŗ?! ŌĆö ąÆčŗą┐čāčéą░ą▓čłąĖčüčī ąĖąĘ čüčéčĆąŠčÅ, ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆčāą║ąĖą╣ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą║ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║čā ąĖ
ą▒ą░čłą║ąĖčĆčā, ą┐ąŠčéčĆčÅčü ą║čāą╗ą░ą║ą░ą╝ąĖ. ŌĆö ąÜ čüč鹥ąĮą║ąĄ! ą×ą▒ąŠąĖčģ!
ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ čāą┤ąŠą▓ą╗ąĄčéą▓ąŠčĆąĄąĮąĮąŠ čģą╝čŗą║ąĮčāą╗ ąĖ
ą┐čĆąŠčéčÅąĮčāą╗ ąĄą╝čā ą╝ą░čāąĘąĄčĆ, ąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆčāą║ąĖą╣ ą▓ čÅčĆąŠčüčéąĖ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĄą│ąŠ.
ŌĆö ą£čŗ ąČ čéą░ą║ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖčÄ čĆą░ąĘą▒ą░ąĘą░čĆąĖą╝!
ąöąŠą▒čĆąĄąĮčīą║ąĖąĄ, čćč鹊 ą╗ąĖ?! ą×ąĮąĖ ąĮą░ čćčāąČąŠą╝ ą│ąŠčĆą▒čā ą▓ čĆą░ą╣! ŌĆö ą▓ąĮąŠą▓čī ą┐ąŠčéčĆčÅčü
ą║čāą╗ą░ą║ą░ą╝ąĖ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆą░ ąĖ ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░. ŌĆö ąÉ ą╝čŗ ŌĆö ąĮą░ ą░ą╗čéą░čĆčī
čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ą╗čÅąČąĄą╝?! ŌĆö ą×ąĮ ą┤ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą║ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆčā, ą┐čĆąŠčéčÅąĮčāą╗ čĆčāą║čā. ŌĆö ąöą░ą╣! ą£ąĮąĄ
ą┤ą░ą╣! ŌĆö ą▓čŗčģą▓ą░čéąĖą╗ čā ąĮąĄą│ąŠ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ. ŌĆö ą» ąĖą╝ ą┐ąŠą║ą░ąČčā, ą║ą░ą║ ą▒ąĄą│ą░čéčī! ąĪčćą░čü
čģą╗ąĄą▒ąĮąĄč鹥 ą║čĆąŠą▓čāčłą║ąĖ, ą│ą░ą┤čŗ! ŌĆö ą¦ąĄčĆąĄąĘ čüąĄą║čāąĮą┤čā ąŠąĮ ą▒čŗą╗ čāąČąĄ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ
ą┐čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║ą░. ąĀčŗą▓ą║ąŠą╝ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ąĘą▓ąĄąĮčÅčēąĖą╝
ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝: ŌĆö ąĪčŗą╝ą░ą╣ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║čā!
ą¤čĆą░ą┐ąŠčĆčēąĖą║, ą│ą╗čÅą┤čÅ čüąĮąĖąĘčā ą▓ą▓ąĄčĆčģ, ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗
ą┐ąŠą┤ąŠą╗ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĖ; ą▒ą░čłą║ąĖčĆ ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ąĮą░ ąĮąĖčģ čüąŠ čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣ ąĮąĄąĮą░ą▓ąĖčüčéčīčÄ.
ąĢą┤ą▓ą░ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ą░ ą┐ąŠą║čĆčŗą╗ą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā,
ą┐ą░ą╗ą░čć‑ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗ąĄčå ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ ą▓ ąĘą░čéčŗą╗ąŠą║, ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆčā:
ŌĆö ąÉ čéčŗ, ą▒ą░čüčāčĆą╝ą░ąĮ?!
ąóąŠčé čüą░ą╝ ą▓čüčéą░ą╗ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, čüąŠą│ąĮčāą╗ ą╝ąŠčēąĮčāčÄ
čłąĄčÄ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ą░ ą┐čāčüčéą░čÅ ą│ąŠčĆčÅčćą░čÅ ą│ąĖą╗čīąĘą░ čāą┤ą░čĆąĖą╗ą░ ą▓ čüčéą▓ąŠą╗ čüąŠčüąĮčŗ,
ąŠčéčüą║ąŠčćąĖą╗ą░ ą║ ąÉąĮą┤čĆąĄčÄ ąĖ čåą░čĆą░ą┐ąĮčāą╗ą░ ąĄą╝čā čēąĄą║čā. ą×ąĮ ąĘą░ąČą░ą╗ čĆą░ąĮą║čā ą╗ą░ą┤ąŠąĮčīčÄ,
čüą│ą╗ąŠčéąĮčāą╗ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ čüčāčģąĖą╝ ą│ąŠčĆą╗ąŠą╝.
ąÉ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ąŠč鹊ą▒čĆą░ą╗, ą▓čŗčĆą▓ą░ą╗
ą╝ą░čāąĘąĄčĆ čā ą┤ąŠą▒čĆąŠą▓ąŠą╗čīčåą░ ŌĆö č鹊čé, čüą▓ąĄčĆą║ą░čÅ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, ą▓čŗąĖčüą║ąĖą▓ą░ą╗ ą║ąŠą│ąŠ‑č鹊 ą▓
č鹊ą╗ą┐ąĄ ąĖ ąŠą┐ą░čüąĮąŠ ą▓ąŠą┤ąĖą╗ čüčéą▓ąŠą╗ąŠą╝.
ąĪčéčĆąŠą╣ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗. ąøčÄą┤ąĖ ą┤čāą│ąŠą╣ čüč鹊čÅą╗ąĖ ąĮą░
čüą║ą╗ąŠąĮąĄ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠą│ąŠ čāčüčéčāą┐ą░ ąĖ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąĖ čģąŠčĆ, ą▓čŗčüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮą░ čüčåąĄąĮąĄ. ąØąŠ
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą┐ąŠą╣ą╝ą░čéčī ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ą░ ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ąŠą┐čāčēąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ąĄą║. ąøąĖčłčī
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå, čćč鹊 ą║čĆą░ą┤čāčćąĖčüčī ąĄą╗ ą┐čłąĄąĮąĖčåčā, ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓ąŠ ąĖ ą┐ą╗čāč鹊ą▓ą░č鹊
ąŠąĘąĖčĆą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠ čüč鹊čĆąŠąĮą░ą╝.
ŌĆö ąŻą▒čĆą░čéčī! ŌĆö ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ą┐čĆčÅčćą░
ą╝ą░čāąĘąĄčĆ, ąĖ ą║ąĖą▓ąĮčāą╗ ąĮą░ čéčĆčāą┐čŗ.
ą¤ą░ą╗ą░čć čüčéą░čēąĖą╗ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗čÅąĮąĮčŗčģ ą║ ąŠą▒čĆčŗą▓čā ąĖ
čüą┐čāčüčéąĖą╗ ą▓ąĮąĖąĘ. ąöą▓ą░ ą┐čŗą╗čīąĮčŗčģ čłą╗ąĄą╣čäą░ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī ą║ ą▓ąŠą┤ąĄ; ą┐ąŠč鹥ą║, ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗
ąĘčŗą▒ą║ąĖą╣ ą┐ąĄčüąŠą║ŌĆ”
ŌĆö ą¤ąŠ‑ąŠą╗ą║! ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠ! ŌĆö ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ čéčāčé ąÉąĮą┤čĆąĄą╣
ąĖ čüčĆą░ąĘčā ąĘą░ą╝ąŠą╗čćą░ą╗, čćčāą▓čüčéą▓čāčÅ, čćč鹊 ąĮąĄ čüą╝ąŠąČąĄčé ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ. ŌĆö ąĪą╗čāčłą░ą╣
ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ, ŌĆö ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĖą╗ čāąČąĄ čéąĖčłąĄ. ŌĆö ąæčāą┤ąĄą╝ ą┐čĆąŠčĆčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĘą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčāčÄ ą┤ąŠčĆąŠą│čā
ąĮąŠčćčīčÄ. ąÆ čüč鹥ą┐čī čāčģąŠą┤ąĖčéčī ąĮąĄą╗čīąĘčÅ, čéą░ą╝ ą│ąĖą▒ąĄą╗čī. ąöąŠ ąĮąŠčćąĖ ąĮą░ą┤ąŠ čāą╣čéąĖ
ą┐ąŠą┤ą░ą╗čīčłąĄ ąŠčé ą│ąŠčĆąŠą┤ą░, čéčāą┤ą░, ą│ą┤ąĄ č湥čģąĖ ąĮą░čü ąĮąĄ ąČą┤čāčéŌĆ”
ąōą┤ąĄ‑č鹊 ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ čüčéčĆąŠčÅ, ą▓ ąĄą│ąŠ ą┐ą╗ąŠčéąĮąŠą╝
čćčĆąĄą▓ąĄ, ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ ą║čĆčāč鹊ąĄ čłąĄą▓ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ, ąĖ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ čłąĄčĆąĄąĮą│ąĖ ą▓čŗą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ
ą▒ąŠčüąŠą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå ą▒ąĄąĘ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║ąĖ.
ŌĆö ą×ą┐čÅčéčī ąĮą░ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčéčŗ?! ŌĆö ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆö
ąØą░ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčéčŗ ąĮą░čü?! ąŻąČ ą╗čāčćčłąĄ čüčéčĆąĄą╗čÅą╣č鹥! ąĪčéčĆąĄą╗čÅą╣č鹥! ŌĆö čĆą▓ą░ąĮčāą╗
ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║čā ąĮą░ ą│čĆčāą┤ąĖ. ŌĆö ąÆčüąĄčģ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī čģąŠčéąĖč鹥?! ŌĆö ąæąĄą╗čŗąĄ ąŠčé ą▒ąĄčłąĄąĮčüčéą▓ą░
ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĄą│ąŠ ą╗ąĄąĘą╗ąĖ ąĖąĘ ąŠčĆą▒ąĖčé, ą┐ąĄčĆąĄą║ąŠčłąĄąĮąĮąŠąĄ ą╗ąĖčåąŠ ą┐ąŠą▒ą╗ąĄą┤ąĮąĄą╗ąŠ ąĖ ąĘą░ąŠčüčéčĆąĖą╗čüčÅ
ąĮąŠčü.
ŌĆö ąÆ čüčéčĆąŠą╣! ŌĆö ą┐čĆąŠčģčĆąĖą┐ąĄą╗ ąæąĄčĆąĄąĘąĖąĮ ąĖ,
čüčģą▓ą░čéąĖą▓ ą┐ą░ąĮąĖą║ąĄčĆą░ ąĘą░ ą│čĆčāą┤ą║ąĖ, ą▓ą┤ą░ą▓ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ą▓ ą│čāčēčā ą╗čÄą┤ąĄą╣. ą¤ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ ą┤čāčģ,
ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓, čüą║ą░ąĘą░ą╗ čéąĖčģąŠ: ŌĆö ąŁč鹊 ą▓ąŠą╣ąĮą░. ąóą░ą║ą░čÅ čāąČ ąŠąĮą░ŌĆ”
ą▒ąĄčüą┐ąŠčēą░ą┤ąĮą░čÅ!..
ą¤ąŠą╣ą╝ą░ą╗ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąĄą╗ ą┐čłąĄąĮąĖčåčā:
ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ čŹč鹊čé čéčĆąĄą┐ąĄčéą░ą╗, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąŠą│ąŠąĮąĄą║ čüą▓ąĄčćąĖ ąĮą░ ą▓ąĄčéčĆčā. ąŚą░ą╝ąĄčéąĖą╗ čćčīčÄ‑č鹊
čĆčāą║čā, ąŠčüąĄąĮčÅčÄčēčāčÄ čüąĄą▒čÅ ą║čĆąĄčüč鹊ą╝.
ŌĆö ąÉ ąĘąĮą░ąĄą╝! ąŚąĮą░ąĄą╝, ą▓ą░čłąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆąŠą┤ąĖąĄ! ŌĆö
čĆą░ąĘą┤ą░ą╗čüčÅ ą│čāčüč鹊ą╣ ąĖ čüąĖą╗čīąĮčŗą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü ą▓ čüčéčĆąŠčÄ. ŌĆö ąŻ č鹥ą▒čÅ čüąĄčüčéčĆčā ą▓ ąĘą░ą╗ąŠą│
ą▓ąĘčÅą╗ąĖ! ą×ąĮą░ ąĘą░ čćčāą│čāąĮą║ąŠą╣! ąÆąŠčé čéčŗ ąĖ ą│ąŠąĮąĖčłčī ąĮą░čü ą┐ąŠą┤ ą┐čāą╗ąĄą╝ąĄčéčŗ!
ŌĆö ą¤ąŠ ąĮą░čłąĖą╝ čüą┐ąĖąĮą░ą╝ čģąŠč湥čłčī č湥čĆąĄąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘą║čā
ą┐čĆąŠčĆą▓ą░čéčīčüčÅ? ŌĆö ą┐ąŠą┤čģą▓ą░čéąĖą╗ ą┤čĆčāą│ąŠą╣. ŌĆö ąØąĄčé, ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ą░! ąØąĄ ą▓čŗą╣ą┤ąĄčé! ąÆ čüč鹥ą┐čī
ą┐ąŠą╣ą┤ąĄą╝! ąÆ čüč鹥ą┐čī! ąŻ ąĮą░čü č鹊ąČąĄ čüąĄčüčéčĆčŗ ąĄčüčéčī! ąś ą▒čĆą░čéčīčÅ! ąś ą┤ąĄčéąĖ!
ŌĆö ąóą▓ąŠąĖ ą┐ąŠą┤ ąŠčģčĆą░ąĮąŠą╣ čģąŠą┤čÅčé, ą░ ąĮą░čłąĖ?! ŌĆö
ą▓ąĘą▓ąĖąĮčéąĖą╗čüčÅ ą┐ą░ąĮąĖą║ąĄčĆ ą▓ čĆą░ąĘąŠčĆą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░ ą│čĆčāą┤ąĖ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĄ. ŌĆö ąōą┤ąĄ ąĮą░čłąĖ?!
ąöą░ ąĖčģ ą▓ čĆą░čüą┐čŗą╗ ą▓čüąĄčģ ą┐čāčüčéčÅčé! ąŚą░ ąĮą░čü‑č鹊!
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ąĮą░ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░. ąóąŠčé,
ą┐ąŠą┤ąŠąĘą▓ą░ą▓ ą║ąŠąĮąŠą▓ąŠą┤ą░, ąĮąĄčāą║ą╗čĹȹĄ ą▓ąĘą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą╗ąŠčłą░ą┤čī.
ŌĆö ąöą░, ą╝ąŠčÅ čüąĄčüčéčĆą░ ąĘą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣
ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą╣, ŌĆö čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ąØąŠ čÅ ąĘą░ ą▓ą░čłąĖ čüą┐ąĖąĮčŗ ąĮąĄ ą┐čĆčÅčéą░ą╗čüčÅ! ąś ą▓čŗ čŹč鹊
ąĘąĮą░ąĄč鹥. ą» čéą░ą║ąŠą╣ ąČąĄ, ą║ą░ą║ ą▓čŗ. ąś č鹊ąČąĄ ąĮąĄ čģąŠčćčā čāą╝ąĖčĆą░čéčī. ąÆ čüč鹥ą┐ąĖ ąĮą░ą╝
čüą╝ąĄčĆčéčī. ąÆčüąĄą╝! ąÉ č湥čĆąĄąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčāčÄ ą┤ąŠčĆąŠą│čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐čĆąŠą▒ąĖčéčīčüčÅ! ą¤ąŠą║ą░ ąĮąĄ
ą┐ąŠą┤ąŠčłą╗ąĖ ą║ą░ąĘą░ą║ąĖŌĆ”
ą×ąĮ čāąČąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī. ąØą░ą┐čĆąŠčćčī
ą┐ąĄčĆąĄčüąŠčģčłąĄąĄ ą│ąŠčĆą╗ąŠ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▒čŗ čüąŠą╝ą║ąĮčāą╗ąŠčüčī, čüą║ą╗ąĄąĖą╗ąŠčüčī, ąĖ čüčéą░ą╗ąŠ čéčĆčāą┤ąĮąŠ
ą┤čŗčłą░čéčī. ą×ąĮ ą┐ąĄčĆąĄčģą▓ą░čéąĖą╗ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░ ąĖ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąĖą│ ą▓ą┤čĆčāą│ čāą╗ąŠą▓ąĖą╗
ąĘą╗ąŠčĆą░ą┤čüčéą▓ąŠ ą▓ ąĄą│ąŠ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ. ąØą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ čüąĖą┐ą╗čŗą╝ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝
ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą╝čā ąĮąĄą╝ąŠčēąĮčŗą╝ ąĖ ąČą░ą╗ą║ąĖą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą║čĆą░čüąĮčŗą╝ąĖ ą▒ąŠą╣čåą░ą╝ąĖ,
ą┐čĆąĖą▓čŗą║čłąĖą╝ąĖ čüą╗čāčłą░čéčī čĆąĄčćąĖ ą│ąŠčĆčÅčćąĖąĄ ąĖ ą│čĆąŠą╝ą║ąĖąĄ.
ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ, ą│ą░čĆčåčāčÅ ąĮą░ ą║ąŠąĮąĄ, ą▓čüą║ąĖąĮčāą╗ čĆčāą║čā
ąĖ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čüčéčĆą░čüčéąĮąŠ, ąŠčéčĆčŗą▓ąĖčüč鹊:
ŌĆö ąóąŠą▓ą░čĆąĖčēąĖ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ! ąŚą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣
ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą╣ ąĮą░čłąĖ! ąóą░ą╝ ąĪąŠą▓ąĄčéčüą║ą░čÅ ą▓ą╗ą░čüčéčī! ąóą░ą╝ ąŻčäąĖą╝čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ąĖ
čĆąĄą│čāą╗čÅčĆąĮčŗąĄ čćą░čüčéąĖ, čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄ ą▓ąĄčĆąĮąŠčüčéčī čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĖ!
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąŠč鹊賹Ąą╗ ą║ čüąŠčüąĮąĄ, ąĖąĘčāčĆąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣
ą▓ąĄčéčĆą░ą╝ąĖ ąĖ ąĘąĮąŠąĄą╝, ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ą╗ ąŠčéą║ą░čłą╗čÅčéčī č鹊, čćč鹊 ą╝ąĄčłą░ą╗ąŠ ą┤čŗčłą░čéčī ąĖ
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī, ŌĆö ąĮąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī. ąōąŠčĆą╗ąŠ ąŠčé ą║ą░čłą╗čÅ ą▓čŗą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░ąĖąĘąĮą░ąĮą║čāŌĆ”
ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░ ą▒čŗą╗ąŠ čüą╗čŗčłąĮąŠ ąŠč鹊ą▓čüčÄą┤čā. ą×ąĮ
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ, čĆčāą▒ąĖą╗ čĆčāą║ąŠą╣ ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╣ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ:
ŌĆö ą¤ąŠą┤ą╗čŗąĄ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĮąĖą║ąĖ ąĮą░čłąĄą╣
čĆą░ą▒ąŠč湥‑ą║čĆąĄčüčéčīčÅąĮčüą║ąŠą╣ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĖ čģąŠčéčÅčé ąĘą░ąČą░čéčī ą╝ąŠą╗ąŠą┤čāčÄ čĆąĄčüą┐čāą▒ą╗ąĖą║čā ą▓
ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠąĄ ą║ąŠą╗čīčåąŠ! ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖ ą▒čīčÄčé ąĮą░ą╝ ą▓ čüą┐ąĖąĮčā, čüčéčĆąĄą╗čÅčÄčé ą▓ ąĮą░čü
ąĖąĘ‑ąĘą░ čāą│ą╗ą░! ąØąŠ ą╝čŗ ą▓čŗčüč鹊ąĖą╝! ą¤čĆąŠą╗ąĄčéą░čĆąĖą░čéčā ąĀąŠčüčüąĖąĖ č鹥čĆčÅčéčī ąĮąĄč湥ą│ąŠ, ąĖ
ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąĮą░čł ą╗ąŠąĘčāąĮą│ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąŠą┤ąĖąĮ ŌĆö ą┐ąŠą▒ąĄą┤ą░ ąĖą╗ąĖ čüą╝ąĄčĆčéčī!
ąÜčĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåčŗ čüą╗čāčłą░ą╗ąĖ, čüčéčĆąŠą╣ ąĘą░ą╝ąĄčĆ, ąĖ
ą┐ąŠ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĮčŗą╝ ą╗ąĖčåą░ą╝ čüą║ąŠą╗čīąĘąĖą╗ąĖ čüąŠą╗ąĮąĄčćąĮčŗąĄ ą╗čāčćąĖ.
ŌĆö ą£čŗ ąĮąĄ ą┤ą░ą┤ąĖą╝ ą┐čĆąŠą║ą╗čÅčéčŗą╝ čāą│ąĮąĄčéą░č鹥ą╗čÅą╝
čéčĆčāą┤ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĮą░čĆąŠą┤ą░ ąĮą░ą┤čĆčāą│ą░čéčīčüčÅ ąĮą░ą┤ čüą▓ąĄčéą╗ąŠą╣ ąĖą┤ąĄąĄą╣ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ! ŌĆö
ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ. ŌĆö ąÜčĆąĄą┐č湥 ą▓ąŠąĘčīą╝ąĄą╝ ą▓ čĆčāą║ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąĖ ąĘą░čēąĖčéąĖą╝
ąĖąĘą▓ąĄčćąĮčāčÄ ą╝ąĄčćčéčā čĆą░ą▒ąŠč湥ą│ąŠ ą║ą╗ą░čüčüą░! ą¤čĆąŠą╣ą┤ąĄą╝ ąŠčćąĖčüčéąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąŠąČą░čĆąŠą╝ ą┐ąŠ
čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ čåą░čĆčüą║ąĖą╝ ą┐čāčüčéčŗčĆčÅą╝! ąś čü ą║ąŠčĆąĮąĄą╝ ą▓čŗąČąČąĄą╝ ą▓čüčÄ ą│ąĮčāčüąĮčāčÄ čéčĆą░ą▓čā
čĆą░ą▒čüčéą▓ą░ ąĖ ą▒ąĄčüą┐čĆą░ą▓ąĖčÅ!
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠčćčéąĖ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗ ąŠ
ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą╝ ŌĆö ą╝ąĄąČą┤čā ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╝ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĄčĆąŠą╝ ąĖ ąĮą░čüąĖą╗čīąĮąŠ
ą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ ą▓ąŠąĄąĮčüą┐ąĄčåąŠą╝ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖą╣ ą▒čŗčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąŠ, ą┤ą░ ąĖ
ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄą┐ąŠą┤čģąŠą┤čÅčēąĖą╝ ą┤ą╗čÅ ąŠčéą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĖą╣. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ
čüčāčģąŠ ąĖ ąŠą┤ąĮąŠčüą╗ąŠąČąĮąŠ ąŠą▒čĆąŠąĮąĖą╗ ą▓ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆąĄ, čćč鹊 ąŠąĮ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠą┤ą░ čāčćąĖą╗čüčÅ ą▓
ąĪąŠčĆą▒ąŠąĮąĮąĄ, ą┐ąŠčüą╗ąĄ č湥ą│ąŠ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖčÄ ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗ čĆą░ą▒ąŠčćąĖą╝ ąĮą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤. ąÆ
ą┐ąŠą╗ą║čā ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ą▒čŗą╗ čéčĆąĖ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ. ąĢą│ąŠ ą┐čĆąĖčüą╗ą░ą╗ąĖ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘ ą£ą░čģąĖąĮą░ ŌĆö ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ąŻčäčā ąĖ ąŠč鹊ą╣čéąĖ
ą▓ čüč鹥ą┐čī, ąĮą░ čÄą│. ą¤čĆąĖą║ą░ąĘ čü č鹊čćą║ąĖ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ ą▒čŗą╗ ą▒ąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮčŗą╝.
ą£ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčÅčéčī ą│ąŠčĆąŠą┤, ą▓ąĘąŠčĆą▓ą░ą▓ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą┤ąŠčĆąŠąČąĮąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮąŠ ąĖ
ąŠčüąĄą┤ą╗ą░ą▓ ąĮą░čüčŗą┐čī: ą╝čÅč鹥ąČąĮčŗą╣ č湥čģąŠčüą╗ąŠą▓ą░čåą║ąĖą╣ ą║ąŠčĆą┐čāčü ą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠ ┬½čćčāą│čāąĮą║ąĄ┬╗
ąĖ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ąĮ ą║ čüą▓ąŠąĖą╝ čŹčłąĄą╗ąŠąĮą░ą╝. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą┤čćąĖąĮąĖą╗čüčÅ ąĖ čāą▓ąĄą╗
čüą▓ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ą║ ą▓ čüč鹥ą┐čī. ąÜąŠą╝ąĖčüčüą░čĆ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ąĮą░čćą░ą╗ 菹ĮąĄčĆą│ąĖčćąĮąŠ
ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī. ąØą░ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╝ ą╝ąĖčéąĖąĮą│ąĄ ąŠąĮ ą┐ąŠčćčéąĖ čåąĄą╗čŗą╣ čćą░čü ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ čĆąĄčćčī ą┐ąĄčĆąĄą┤
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåą░ą╝ąĖ, ąĖ čüą╗čāčłą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ąĘą░čéą░ąĖą▓ ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄ. ą¤ąŠą╗ą║, čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣
ąĖąĘ ą┤ąĄą╝ąŠą▒ąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé‑ąŠą║ąŠą┐ąĮąĖą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĄą┤ą▓ą░ čāčüą┐ąĄą╗ąĖ čģą╗ąĄą▒ąĮčāčéčī
ą╝ąĖčĆąĮąŠą╣ ąČąĖąĘąĮąĖ, ą║ą░ą║ čüąĮąŠą▓ą░ ąŠčćčāčéąĖą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą┤ čĆčāąČčīąĄą╝, čā ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĄčēąĄ ąĘčāą┤ąĄą╗ą░
čĆą░ąĘčŖąĄą┤ąĄąĮąĮą░čÅ ą▓čłą░ą╝ąĖ ą║ąŠąČą░, ą░ ą┤čāčłąĖ ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗ąĖ ąŠčüčéčŗčéčī ąŠčé ąŠą│ąĮčÅ, ŌĆö ą┐ąŠą╗ą║
čŹč鹊čé, ą┐čĆąĖą▓čŗą║čłąĖą╣ ą║ čĆą░ąĘąĮčŗą╝ ą░ą│ąĖčéą░čåąĖčÅą╝ ąĖ ąŠčĆą░č鹊čĆą░ą╝, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąČąĄ, čüą╗čāčłą░ą╗
ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆą░ ąĖ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąČą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ. ąÆčüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąĖ čüčéčĆąŠąĄą▓čŗąĄ ą┐ąĄčüąĮąĖ, ą▓
ą┐ąŠčģąŠą┤ąĮąŠą╝ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ čłą░ą│, ąĮąĄ ą┐čĆąĄą║ąŠčüą╗ąŠą▓ąĖą╗ąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ą╝. ąŻą╝ąĄą╗
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣, ąĖ čüą╗ąŠą▓ą░ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ čéą░ą║ąĖąĄ, čćč鹊 ą▒čāą┤ąŠčĆą░ąČąĖą╗ąĖ čāčüčéą░ą▓čłąĖčģ
ąŠčé ą▒ąŠąĄą▓ ąĖ ą┐ąŠč鹥čĆčī ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝
ąĘą░ą▓ąŠčĆą░ąČąĖą▓ą░ą╗ąĖ.
ŌĆö ąĢčüą╗ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą╝čŗ čāą╝čĆąĄą╝, ŌĆö ąĘą▓ąĄąĮąĄą╗ ąĮą░ą┤
ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ ą▒ąŠą╣čåąŠą▓ ąĄą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčü, ąĖ čŹčģąŠ ąŠčéą║ą╗ąĖą║ą░ą╗ąŠčüčī ąĘą░ čĆąĄą║ąŠą╣, ŌĆö ąĮą░čłąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ
čüą▓ąŠą▒ąŠą┤čŗ ąĮąĄ čāą╝čĆąĄčé! ąĪą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą╣ čåąĄąĮąŠą╣ ąĘą░ ąĮąĄąĄ ąĘą░ą┐ą╗ą░č湥ąĮąŠ ŌĆö ą║čĆąŠą▓čīčÄ
ąĮą░čłąĖčģ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣! ąŚą░ čŹčéčā ą║čĆąŠą▓čī č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣, ą┐ą░ą▓čłąĖčģ ąŠčé ą┐ąŠą┤ą╗čŗčģ čĆčāą║
ą▒ąĄą╗ąŠč湥čģąŠą▓, ą╝čŗ ą┐ąŠą╣ą┤ąĄą╝ ą▓ ą▒ąŠą╣. ąś ą┐čĆąŠčĆą▓ąĄą╝čüčÅ! ąś ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖą╝! ą¤ąŠą▒ąĄą┤ą░ ąĖą╗ąĖ
čüą╝ąĄčĆčéčī!
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣, čüą╗čāčłą░čÅ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąŠčēčāčēą░čÅ
ąĘąĮąŠą▒čÅčēąĖą╣ čģąŠą╗ąŠą┤ąŠą║ ąŠčé ąĄą│ąŠ čüą╗ąŠą▓, čéčĆąŠą│ą░ą╗ ą┐ą░ą╗čīčåą░ą╝ąĖ ąĮą░ą┤ą▒čĆąŠą▓ąĮčāčÄ ą┤čāą│čā,
ąĮą░ąĖčüą║ąŠčüčī ą┐ąĄčĆąĄč湥čĆą║ąĮčāčéčāčÄ ą┤ą░ą▓ąĮąĖą╝, ąĄčēąĄ ą┤ąĄčéčüą║ąĖą╝ čłčĆą░ą╝ąŠą╝. ąōą╗ą░ą┤ąĖą╗ ąĖ č鹥čĆ ąĄą│ąŠ,
čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ čģąŠč鹥ą╗ čĆą░ąĘą╝čÅą│čćąĖčéčī ą║čĆąĄą┐ą║ąĖą╣ ąĖ ąČąĄčüčéą║ąĖą╣ čĆčāą▒ąĄčå. ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ą░ čüčéą░čĆą░čÅ
ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ą░, čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮą░čÅ ąĮą░ čāčĆąŠą▓ąĄąĮčī ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čéą░, ŌĆö ąŠčēčāą┐čŗą▓ą░čéčī čłčĆą░ą╝. ąÜąŠą│ą┤ą░‑č鹊
ą▓ ą┤ąĄčéčüčéą▓ąĄ ąŠąĮ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ąĮąĄ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ ąĘą░ąČąĖčéčī čĆą░ąĮąĄ, čüą║ąŠą▓čŗčĆąĖą▓ą░ą╗ čü ąĮąĄąĄ ą║ąŠčĆąŠčüčéčā,
čĆą░ąĘą┤ąĖčĆą░ą╗ ą┤ąŠ ą║čĆąŠą▓ąĖ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ąĄčüą╗ąĖ ą▓ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░ą╗čüčÅ. ą×ą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ą┤čÅą┤čÅ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ,
ąĖą╝ąĄą▓čłąĖą╣ ą▓ ąĖąĮąŠč湥čüčéą▓ąĄ ąĖą╝čÅ ąöą░ąĮąĖąĖą╗, ą┐čĆąĖą│ą╗čÅą┤ąĄą▓čłąĖčüčī ą║ ą┐ą╗ąĄą╝čÅąĮąĮąĖą║čā, čüą║ą░ąĘą░ą╗,
čćč鹊 ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮą░čÅ čüčéčĆą░čüčéčī ŌĆö ą║ąŠą▓čŗčĆčÅčéčī čĆą░ąĮčŗ ąĖ ą║ąŠčĆąŠčüčéčŗ ŌĆö ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░,
ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝čā ą▓čŗą┐ą░ą┤čāčé ąĮą░ ą┤ąŠą╗čÄ ąĮąĖčēąĄčéą░, ą│ąŠčĆąĄ ąĖ ąĮąĄčüčćą░čüčéčīąĄ. ąÆąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐čĆąŠčüč鹊
ą┐čāą│ą░ą╗, ąĮąŠ čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄčéą░ ą┤čÅą┤ąĖ ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąĄčĆąĮąŠą╣ŌĆ”
ąÜą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čüč鹊ą╗čīą║ąŠ čüąŠą▒čŗčéąĖą╣ ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ą▓
č鹊 čāčéčĆąŠ ąĮą░ ą╗ąĄčüąĖčüč鹊ą╝ ą▒ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠą╝ čāčüčéčāą┐ąĄ, ą░ čłąĄą╗ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╗ąĖčłčī čüąĄą┤čīą╝ąŠą╣ čćą░čü,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą╗ą║, čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĖą▓čłąĖčüčī ą┐ąŠčĆąŠčéąĮąŠ, ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ čĆąĄą║čā ąĖ ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗čüčÅ ą║ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣
ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ, ąĘą░ą▒ąĖčĆą░čÅ ą▓ąŠčüč鹊čćąĮąĄąĄ, čćč鹊ą▒čŗ čāą╣čéąĖ ąŠčé ąŻčäčŗ, ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮąĮąŠą╣
č湥čģąŠčüą╗ąŠą▓ą░čåą║ąĖą╝ ą║ąŠčĆą┐čāčüąŠą╝. ąóčĆąĖ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮčŗ čłą░ą│ą░ą╗ąĖ ąĮą░ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ,
ąĖ čéčĆąĖ čłąĖčĆąŠą║ąĖčģ čüą╗ąĄą┤ą░ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĘą░ ąĮąĖą╝ąĖ, čĆą░čüč湥čĆčćąĖą▓ą░čÅ ąĮą░ą║ą░ą╗čÅą▓čłčāčÄčüčÅ
čüč鹥ą┐čī. ąÆčŗą▒ąĖčéą░čÅ ąČąĄčüčéą║ą░čÅ čéčĆą░ą▓ą░ ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ čāąČąĄ ąĮąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ą▒čŗą╗ą░ ą▓čüčéą░čéčī, ąĖ
čŹčéąĖ ą┐čĆąŠč鹊čĆąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐čāčéąĖ, ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ąĮąĄ ąĘą░čĆą░čüčéčāčé č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ąŠą╗ą│ąŠ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣
ą╝ąĄčĆąĄ ą┤ąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą│ąŠ ą╗ąĄčéą░, ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą║ą╗čÄąĮąĄčéčüčÅ ąĖ ąĮąĄ ą▓ąĘąŠą╣ą┤ąĄčé čüąĄą╝čÅ,
ąŠą▒ą╝ąŠą╗ąŠč湥ąĮąĮąŠąĄ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓č鹊ą┐čéą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ ą┐čŗą╗čīąĮčāčÄ,
ą│ąŠčĆčÅčćčāčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ čéčĆą░ą▓ą░ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ą░čüčī, čĆą░čüą┐čĆčÅą╝ą╗čÅčÅčüčī čü čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ čéčĆąĄčüą║ąŠą╝ ąĖ
čłąŠčĆąŠčģąŠą╝, čü ą║ą░ą║ąĖą╝ ą┐ą░ą┤ą░ą╗ą░ ą┐ąŠą┤ čüą░ą┐ąŠą│ą░ą╝ąĖ ąĖ ą▒ąŠčéąĖąĮą║ą░ą╝ąĖ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ąĖą┤čāčēąĖčģ.
ą¤ąŠč鹊čĆą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čÅ čĆąŠčéčā ą┐čĆą░ą▓ąŠą│ąŠ čäą╗ą░ąĮą│ą░ ąĖ ą┐čĆąĖčłą┐ąŠčĆąĖą▓ą░čÅ ą║ąŠąĮčÅ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąŠą▒ąŠą│ąĮčāą╗
ąĄąĄ čü čéčŗą╗ą░ ąĖ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗, čćč鹊 č鹊čĆąĮą░čÅ ą┤ąŠčĆąŠą│ą░ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ
ąĘą░ą│ą╗ą░ąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ čéą░ą╝, ą▓ą┤ą░ą╗ąĖ, ąĄąĄ čāąČąĄ ąĮąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖčéčī čüčĆąĄą┤ąĖ ą║ąŠą╗čŗčģą░čÄčēąĖčģčüčÅ
ą┐ąŠą┤ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝ čéčĆą░ą▓. ąæčāą┤č鹊 čéčĆąĖ ą▓ąĖčģčĆčÅ ą┐čĆąŠą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ ą┐ąŠ čüč鹥ą┐ąĖ, ą▓čŗčüč鹥ą╗ąĖą╗ąĖ
čéčĆą░ą▓čŗ, ąĮąŠ ąĄą┤ą▓ą░ ąŠčéą┐čĆčÅąĮčāą╗ ą▓ąĄč鹥čĆ ŌĆö ąĖ ąĮąĖ čüą╗ąĄą┤ą░, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĮą░ ą▓ąŠą┤ąĄŌĆ”
ąÜąŠą│ą┤ą░ čĆąĄą║ą░ ąæąĄą╗ą░čÅ ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ą░ ąĖąĘ ą▓ąĖą┤čā ąĖ
ą┐ąŠą╗ą║ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▓ ąŠčéą║čĆčŗč鹊ą╣ čüč鹥ą┐ąĖ, čĆąŠčéčŗ ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ čüčéą░ą╗ąĖ ąČą░čéčīčüčÅ ą┤čĆčāą│ ą║
ą┤čĆčāą│čā, ą║ą░ą║ ą╗čÄą┤ąĖ, ąŠčćčāčéąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓ ą│čāčüč鹊ą╝, ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝ąŠą╝ ą╗ąĄčüčā. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣
ą┐čĆąŠčüą║ą░ą║ą░ą╗ ąĮą░ ą╗ąĄą▓čŗą╣ čäą╗ą░ąĮą│, ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ą╝ čüąŠčģčĆą░ąĮčÅčéčī ą┤ąĖčüčéą░ąĮčåąĖčÄ;
ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ ąĮą░ ą┐čĆą░ą▓čŗą╣ čäą╗ą░ąĮą│ ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąŠą│ąŠ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ č湥ą╝ ą│ą╗čāą▒ąČąĄ čāčģąŠą┤ąĖą╗ ą┐ąŠą╗ą║ ą▓
ą▒ąĄą╗ąĄčüąŠąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ čüč鹥ą┐ąĖ, č鹥ą╝ ą┐ą╗ąŠčéąĮąĄąĄ čüčģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī čĆąŠčéčŗ.
ą¤ąŠą╝ąĄčéą░ą▓čłąĖčüčī ą╝ąĄąČą┤čā ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮą░ą╝ąĖ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣
ą┐ąŠą┤čŖąĄčģą░ą╗ ą║ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣, čüą┐ąĄčłąĖą╗čüčÅ ąĖ ą▓ąĘčÅą╗ ą║ąŠąĮčÅ ą▓ ą┐ąŠą▓ąŠą┤. ąØą░ čģąŠą┤čā ąŠčéčüč鹥ą│ąĮčāą╗
ąŠčé čüąĄą┤ą╗ą░ čäą╗čÅąČą║čā, ą│ą╗ąŠčéąĮčāą╗ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘ č鹥ą┐ą╗ąŠą▓ą░č鹊ą╣ ą▓ąŠą┤čŗ, ą┐ą╗ąĄčüąĮčāą╗ čüąĄą▒ąĄ
ąĘą░ čłąĖą▓ąŠčĆąŠčé, ą░ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ čĆą░čüą┐ą╗ąĄčüą║ą░ą╗ ąĮą░ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓ ąĖ čĆą░ąĮąĄąĮčŗčģ,
ą╗ąĄąČą░čēąĖčģ ąĮą░ ąĮąŠčüąĖą╗ą║ą░čģ. ąÜčĆą░ą╣ąĮąĖąĄ, ąĮą░ ą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ąŠ, ąĮąĄą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ čāčéąĖčĆą░ą╗ąĖ
ą╗ąĖčåą░ ąĖ ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ąĖ ąŠą▒ąĄčüą║čāčĆą░ąČąĄąĮąĮąŠ, ą║č鹊‑č鹊 čāąČąĄ čĆą░ąĘą╗ąĄą┐ąĖą╗ čüą┐ąĄą║čłąĖąĄčüčÅ ą│čāą▒čŗ,
ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ą┤ą╗čÅ ą║čĆčāč鹊ą│ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░, ąĮąŠ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĘą░čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ:
ŌĆö ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąČąĄ ąśą▓ą░ąĮ ąÜčāą┐ą░ą╗ą░!
ąś čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ čĆą░čüčüčéčĆąŠąĖą╗čüčÅ ą┐ąŠčģąŠą┤ąĮčŗą╣ čĆąĖčéą╝,
čüą▒ąĖą╗ąĖ ąĮąŠą│čā, ąĖ čłčéčŗą║ąĖ ąĘą░ą║ą░čćą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ą┤ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ. ąÆ
čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮčŗ ą║č鹊‑č鹊 čāąČąĄ čüąĮčÅą╗ čäą╗čÅąČą║čā ąĖ čēąĄą┤čĆąŠ čĆą░ąĘą╗ąĖą▓ą░ą╗ ą▓ąŠą┤čā,
čüčéą░čĆą░čÅčüčī ą┐ąŠą┐ą░čüčéčī ą▓ ą╗ąĖčåą░ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēąĄą╣. ąÆąŠąĘąĮąĖą║ą╗ą░ ą▓ąĄčüąĄą╗ą░čÅ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą░ą╗ą║ą░, ą║
ą╗čīčÄčēąĄą╝čā ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī, čćč鹊ą▒čŗ čāą│ąŠą┤ąĖčéčī ą┐ąŠą┤ ą▒čĆčŗąĘą│ąĖ, ąĖ čāąČąĄ čüąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ čüą▓ąŠąĖ
čäą╗čÅąČą║ąĖ. ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą│ąŠ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮčåą░ čü ą┤ą▓čāą╝čÅ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ą║ą░ą╝ąĖ ŌĆö
ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄą╗‑čéą░ą║ąĖ ą▒čĆąŠčüąĖčéčī ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆąŠą╝, ŌĆö ąĘą░ą╝ąĄą┤ą╗ąĖą╗ čłą░ą│ ąĖ
ą┐ąŠčłąĄą╗ čĆčÅą┤ąŠą╝. ąÜ ą┐ą╗ąŠčéąĮąŠ ąĮą░ą▒ąĖč鹊ą╣ ą║ąŠč鹊ą╝ą║ąĄ čā ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮčåą░ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖč鹊čĆąŠč湥ąĮ
čéčÅąČąĄą╗čŗą╣ čĆą░ąĘą┤čāčéčŗą╣ ą▒čāčĆą┤čÄą║, ąĮą░ ą┐ąŠčÅčüąĄ ą▒ąŠą╗čéą░ą╗ąĖčüčī ą║ąŠč鹥ą╗ąŠą║ ąĖ čéčĆąĖ
ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ‑ą▒čāčéčŗą╗ą║ąĖ. ąōčĆčāąĘčā ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čāą┤ą░ ą┤ą▓ą░, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čłąĄą╗ ąŠąĮ čüą╗ąĄą│ą║ą░ ą▓ą░ą╗ą║ąŠą╣,
ąĮąŠ ą║čĆąĄą┐ą║ąŠą╣ ą┐ąŠčģąŠą┤ą║ąŠą╣. ą×čé čŹč鹊ą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą▓ąĄčÅą╗ąŠ čāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ,
ąĮą░ą┤ąĄąČąĮąŠčüčéčīčÄ, čéą░ą║ čćč鹊 ąĖą┤čéąĖ čĆčÅą┤ąŠą╝ ą▒čŗą╗ąŠ čģąŠčĆąŠčłąŠ.
ŌĆö ąöą░ą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ čĆčāąČčīąĄą╝? ŌĆö čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣.
ŌĆö ąÉ čüčćąĖčéą░ą╣, čü čÅą┐ąŠąĮčüą║ąŠą╣, ŌĆö ąŠčģąŠčéąĮąŠ
ąŠč鹊ąĘą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĄčå. ŌĆö ą¤čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčŗą╣ ą│ąŠą┤. ŌĆö ą×ąĮ ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĄąĮąĮąŠ ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗čüčÅ
ąĖ, ą▓čŗą╣ą┤čÅ ąĖąĘ čüčéčĆąŠčÅ, ą┐ąŠčłąĄą╗ čü ąÉąĮą┤čĆąĄąĄą╝ ą┐ą╗ąĄč湊 ą║ ą┐ą╗ąĄčćčā. ąŚą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čéąĖčģąŠ, ą▓
ąĮąŠčü: ŌĆö ąóčŗ, ą▓ą░čłąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆąŠą┤ąĖąĄ, ą▓ąŠ‑ąŠąĮ č鹊ą│ąŠ ąŠą┐ą░čüą░ą╣čüčÅ, ŌĆö ąŠąĮ čāą║ą░ąĘą░ą╗
ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą║čāą┤ą░‑č鹊 ą▓ čåąĄąĮčéčĆ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮčŗ, ŌĆö ąĖ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆčā čüą▓ąŠąĄą╝čā čüą║ą░ąČąĖŌĆ” ąĢąČąĄą╗ąĖ
čüčéčŗčćą║ą░ ą▓čŗą╣ą┤ąĄčé čā čćčāą│čāąĮą║ąĖ, čüą┐ąĖąĮą░ą╝ąĖ ą║ ąĮąĄą╝čā ą╗čāčćčłąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╣č鹥čüčī. ąś
ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ ą▓ąĖą┤čā ą┤ąĄčƹȹĖč鹥čüčī. ą¢ąĖą│ą░ąĮąĄčé. ąĪą░ą╝ čüą╗čŗčģą░ą╗, ą┤ąŠ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ,
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé, ąČąĖčéčī ąĖą╝. ą×ą▒ąŠąĖčģ čāą│čĆąŠą▒ą╗čÄ, čćč鹊ą▒ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĮąĄ ą╝čāčćą░ą╗ąĖ. ąÆąĖą┤ąĖčłčī ąĄą│ąŠ,
ąĮąĄčé?
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐čĆąŠą▒ąĄąČą░ą╗ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą┐ąŠ ą╗ąĖčåą░ą╝
ą╗čÄą┤ąĄą╣. ąÆ ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮąĄ ą▓ąĄčüąĄą╗ąĖą╗ąĖčüčī ąĖ ą┤čāčĆą░čćąĖą╗ąĖčüčī ą▓ąŠą▓čüčÄ, čĆą░ąĘą╗ąĖą▓ą░čÅ ąŠčüčéą░čéą║ąĖ
ą▓ąŠą┤čŗ. ąśčüą║čĆčÅčēąĖąĄčüčÅ ą▒čĆčŗąĘą│ąĖ ąŠčüčŗą┐ą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ čüą╝ąĄčÄčēąĖąĄčüčÅ ą╗ąĖčåą░, ą┐ą░ą┤ą░ą╗ąĖ ąĮą░
ąĘąĄą╝ą╗čÄ, ąĮąŠ ąĮąĄ ą▓ą┐ąĖčéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī, ą░, ąŠą║čāčéą░ą▓čłąĖčüčī čüčāčģąŠą╣ ą┐čŗą╗čīčÄ, ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī ą▓
ąČąĖą▓čŗąĄ, ą║ą░ą║ čĆčéčāčéčī, ą║ąŠą╝ąŠčćą║ąĖ.
ŌĆö ąØčā, ą▓ąĖą┤ąĖčłčī, ŌĆö čłąĄą┐čéą░ą╗, ą┐ąŠč鹊čĆą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░čÅ,
ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄąĄčå. ŌĆö ąöą░ ą▓ąŠąĮ, č鹊čé čüą░ą╝čŗą╣, čćč鹊 ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆąŠčćą║čā ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüčéčĆąŠąĄą╝
ą┐ą░ąĘą│ą░ąĮčāą╗.
ąØą░ ą│ą╗ą░ąĘą░ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ą░ ąĘą░ą│ąŠčĆąĄą╗ą░čÅ čüą┐ąĖąĮą░
ą▒ąŠą╗čīčłąĄčĆčāą║ąŠą│ąŠ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐ąŠčĆąĄčłąĖą╗ ą┐čĆąĄą┤ą░č鹥ą╗ąĄą╣; ą┐ąŠč鹊ą╝ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąĄčĆąĄčģą▓ą░čéąĖą╗
ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ąĖ ą▒ą╗čāą┤ą╗ąĖą▓čŗą╣ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 ąĄą╗ ą┐čłąĄąĮąĖčåčā; ąĖ čüąŠą▓čüąĄą╝
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąĮą░č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗čüčÅ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåą░ ą▓ čĆą░ąĘąŠčĆą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą┤ąŠ
ą┐čāą┐ą░ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĄ. ąÜąŠąČą░ ąĮą░ čüą║čāą╗ą░čģ ą┐ąŠą║čĆą░čüąĮąĄą╗ą░ ą┤ąŠ ą║čĆąŠą▓ą░ą▓ąŠą│ąŠ ąŠčéą╗ąĖą▓ą░,
čüąŠąČąČąĄąĮąĮą░čÅ čüąŠą╗ąĮčåąĄą╝, ą░ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖąĄ ą▓ąŠą╗ąŠčüčŗ ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ ą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ąĮąĄąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ
ą▒ąĄą╗čŗą╝ąĖ.
ŌĆö ąóąŠčé čüą░ą╝čŗą╣ ąĖ ąĄčüčéčī, ŌĆö čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ąĖą┤čÅ
čćčāąČąĖą╝ ąĘčĆąĄąĮąĖąĄą╝, ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĄčå. ŌĆö ąæąŠą╗čīąĮąŠ čāąČ ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╣ ą┐ą░čĆąĄąĮčī. ąś
ąĘą╗ąŠą╣. ąæąĄčĆąĄą│ąĖčüčī ąĄą│ąŠ.
ŌĆö ąĪą┐ą░čüąĖą▒ąŠ, ŌĆö ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮą░ čģąŠą┤čā ą┐ąŠąČą░ą╗ ąĄą╝čā
ąĘą░ą┐čÅčüčéčīąĄ čĆčāą║ąĖ, čüąČąĖą╝ą░ą▓čłąĄą╣ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ąŠčćąĮčŗą╣ čĆąĄą╝ąĄąĮčī.
ą©ą░ą│ą░čÅ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠ ąĮąĄč鹊ą┐čéą░ąĮąĮąŠą╣
čéčĆą░ą▓ąĄ, ąæąĄčĆąĄąĘąĖąĮ č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąŠč鹊čĆą▓ą░čéčī ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ą░ ąŠčé ąĖą┤čāčēąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣.
ą×ąĮ ą╗ąŠą▓ąĖą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą╗ąĖčåąŠ č鹊ą│ąŠ, ą║č鹊 ąĘą░ą╝čŗčüą╗ąĖą╗ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąĖčéčī ąĄą╝čā ą▓ čüą┐ąĖąĮčā,
ąĖąĘčāčćą░ą╗, ąĮąĄąĘą░ą╝ąĄčéąĮąŠ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗; ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠ ąŠčüčéčĆąĖąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąŠą╗ąŠčüčŗ čü
ą┐čĆąŠą┐ą╗ąĄčłąĖąĮą░ą╝ąĖ čüčéą░čĆčŗčģ, ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ, ą┤ąĄčéčüą║ąĖčģ ąĄčēąĄ čłčĆą░ą╝ąŠą▓, ąŠčéč鹊ą┐čŗčĆąĄąĮąĮčŗąĄ čāčłąĖ.
ą¤ąŠč鹥čĆčÅčéčī ąĄą│ąŠ čüčĆąĄą┤ąĖ ą▓ąĄčüąĄą╗čÅčēąĖčģčüčÅ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåąĄą▓ ą▒čŗą╗ąŠ čéčĆčāą┤ąĮąŠ. ą×ąĮ čłą░ą│ą░ą╗
ą┐ąŠąĮčāčĆąŠ, ąĖ ąĮą░ ą╗ąĖčåąĄ ąĄą│ąŠ ąĮąĄ ąŠčüčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▒ąĄčłąĄąĮčüčéą▓ąŠ ąĖ ąŠčéčćą░čÅąĮąĖąĄ, ą▓čüą┐čŗčģąĮčāą▓čłąĖąĄ
čĆą░ąĮąĮąĖą╝ čāčéčĆąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüčéčĆąŠąĄą╝, ą░ ą┐ąŠą▒ąĄą╗ąĄą▓čłąĖąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ čćč鹊 ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖ.
ąØąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ą┐ąŠą╣ą╝ą░ą╗ čüąĄą▒čÅ ąĮą░
ą╝čŗčüą╗ąĖ, čćč鹊 čüą╝ąŠą│ ą▒čŗ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗čÅčéčī ąĄą│ąŠ, ąŠą║ą░ąČąĖčüčī ąŠąĮ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅčłąĮąĄą│ąŠ
ą┤ąĄąĘąĄčĆčéąĖčĆą░. ąś čĆčāą║ą░ ą▒čŗ ąĮąĄ ą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗ą░, čģąŠčéčÅ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗ąĖą▓ą░čéčī
ąĄą╝čā ąĮąĄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ąĖ ą┤ąĄą╗ąŠ čŹč鹊 ąŠąĮ čüčćąĖčéą░ą╗ ąĮąĄą┤ąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗą╝ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ ą┤ą░ ąĖ
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ. ąÉ ą▓ąŠčé čŹč鹊ą│ąŠ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗čÅą╗ ą▒čŗŌĆ”
ą¤ąŠč鹊ą╝ ąŠąĮ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄ čüąŠą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗čüčÅ ąŠčé
čéą░ą║ąĖčģ ą╝čŗčüą╗ąĄą╣ ąĖ ąŠčéčüčéą░ą╗, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ą▒ąĄą╗ąŠą│ą╗ą░ąĘąŠą│ąŠ ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåą░.
ąĪą░ą╝ č鹊ą│ąŠ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčćą░čÅ, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮą░čćą░ą╗ ą▓ą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ ą▓ ą╗ąĖčåą░ ą┤čĆčāą│ąĖčģ čĆčÅą┤ąŠą╝
ąĖą┤čāčēąĖčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ čüčéą░ą╗ čāąĘąĮą░ą▓ą░čéčī.
ąÜąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ą▓ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░č鹊ą╝, ą┐čĆąĖąĮčÅą▓ ą┐ąŠą┤
ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ čüą▓ąŠčÄ ą┐ąŠą╗čāčĆąŠčéčā, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĘąĮą░ą╗ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓čüąĄčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé ą┐ąŠ
ąĖą╝ąĄąĮąĖ ąĖ ąŠčéč湥čüčéą▓čā ąĖ ą╝ąŠą│ ą┤ąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ, ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░, ą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ
ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī ą╗ąĖčåąŠ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ. ą£ąŠą│ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī, ą║č鹊 ą║ą░ą║ čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ, č鹊čüą║ąŠą▓ą░ą╗
ąĖą╗ąĖ čüą┐ą░ą╗, ą║č鹊 ą║ą░ą║ ąĄą╗, ą║čĆąĖčćą░ą╗ ┬½čāčĆą░!┬╗, ą║ąŠą│ą┤ą░ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ ą░čéą░ą║ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ
ąĮąĄą╝čåąĄą▓, ąĖ ą║č鹊 ą║ą░ą║ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ą╝ąĄčĆčéą▓čŗą╝. ą¤ąĄčĆą▓čŗąĄ ąĄą│ąŠ čüąŠą╗ą┤ą░čéčŗ
ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ą║čĆąĄą┐ą║ąŠ, ą║ą░ą║ ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ čÄąĮąŠčłąĄčüą║ą░čÅ ą╗čÄą▒ąŠą▓čī. ąÉ
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą┤ ą¤ąĄčĆąĄą╝čŗčłą╗ąĄą╝ ąŠčé ą┐ąŠą╗čāčĆąŠčéčŗ ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī ą▓ čüčéčĆąŠčÄ ą▓čüąĄą│ąŠ č湥čéą▓ąĄčĆąŠ
ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ąĮąĖą╝ ąĖ ą┐čĆąĖą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ, ąĮąŠą▓čŗąĄ čŹčéąĖ čüąŠą╗ą┤ą░čéčŗ ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ
ą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ ą║ą░ą║ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ, čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗą╝ąĖ ąĖ čćčāąČąĖą╝ąĖ. ą×ąĮ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▒čŗ
ąČą┤ą░ą╗ č鹥čģ, ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ, ąĖ ą▓ąŠąĄą▓ą░ą╗ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čŹčéąĖą╝ąĖ, ąĮą░čüč鹊čÅčēąĖą╝ąĖ, ą┐ąŠ
ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéąĖ. ąś ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čāąČąĄ ąĮąĄ čüčéą░čĆą░ą╗čüčÅ ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī ąĖčģ ąĖą╝ąĄąĮą░, čāą╗čŗą▒ą║ąĖ ąĖ
ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ąĖ. ąŚąĮą░ą╗, čćč鹊 ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą▒ąŠąĄą▓ ąĖ ąŠąČąĄčüč鹊č湥ąĮąĮčŗčģ ą░čéą░ą║ ą▓ąĮąŠą▓čī
ą┐čĆąĖą┤čāčé ą┤čĆčāą│ąĖąĄŌĆ”
ąś ą╗ąĖčłčī ą┐čĆąŠą▓ąŠąĄą▓ą░ą▓ ą│ąŠą┤, ąŠąĮ ą▓čéčÅąĮčāą╗čüčÅ ąĖ
ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ ą▒ąĄčüč湥ą╗ąŠą▓ąĄčćąĮčāčÄ čüčāčéčī ą╗čÄą▒ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ: ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą╗čÄą▒ąĖčéčī čüą▓ąŠąĖčģ čüąŠą╗ą┤ą░čé,
ą║ą░ą║ ą╗čÄą▒čÅčé ą▒čĆą░čéčīąĄą▓. ąśąĮą░č湥 ąŠčé ą│ąŠčĆčÅ ą╗ąŠą┐ąĮąĄčé čüąĄčĆą┤čåąĄ. ąźčāąČąĄ č鹊ą│ąŠ, ąĖčģ ąĮą░ą┤ąŠ
ą┤ą░ąČąĄ čćčāčéčī ąĮąĄąĮą░ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ą┐čĆąĖ ąČąĖąĘąĮąĖ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠč鹊ą╝, ą╝ąĄčĆčéą▓čŗąĄ, ąŠąĮąĖ ąĮąĄ
ą▓čüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, ąĮąĄ ą╝čāčćąĖą╗ąĖ ą┐ą░ą╝čÅčéčī, ąĮąĄ ą┤čāčłąĖą╗ąĖ ąČą░ą╗ąŠčüčéčīčÄ ąĖ
čüą╗ąĄąĘą░ą╝ąĖ. ąóą░ą║ ąĄą│ąŠ čāčćąĖą╗ąĖ čüčéą░čĆčŗąĄ, ą┐čĆąŠčłąĄą┤čłąĖąĄ ąĮąĄ ąŠą┤ąĮčā ą▓ąŠą╣ąĮčā ąŠčäąĖčåąĄčĆčŗ. ąÉ
ąŠąĮąĖ‑č鹊 ąĘąĮą░ą╗ąĖ, č湥ą│ąŠ čüč鹊ąĖčé ą╗čÄą▒ąŠą▓čī ą║ čüąŠą╗ą┤ą░čéčāŌĆ”
ąÆąĄčüčī ą╝ąĄčüčÅčå, ą┐ąŠą║ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊
čüč乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ą║ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčÅą╗ ą┐ąŠą┤čüčéčāą┐čŗ ą║ ąŻč乥, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą╝ąŠčéą░ą╗čüčÅ
ą┐ąŠ čüč鹥ą┐ąĖ ą▓ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ čłčéą░ą▒ą░ ą░čĆą╝ąĖąĖ, ąĘą░č鹥ą╝ ą▓ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ čäčĆąŠąĮčéą░, ąĖą▒ąŠ
ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ, ą│ą┤ąĄ ąŠąĮ ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčüčÅ, ą▓ ą║ą░ą║čāčÄ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąĮą░čüčéčāą┐ą░čéčī ąĖ čćč鹊
č鹥ą┐ąĄčĆčī ąĘą░čēąĖčēą░čéčī, ŌĆö ąŠą┤ąĮąĖą╝ čüą╗ąŠą▓ąŠą╝, ą┐ąŠą║ą░ ą║čĆčāą│ąŠą╝ ą▒čŗą╗ čģą░ąŠčü, ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮąĖą║ą░ą║
ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčéčī ą║ čüą▓ąŠąĄą╝čā ą┐ąŠą╗ą║čā, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ ŌĆö ą║ ą╗čÄą┤čÅą╝. ą×ąĮąĖ ą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ą▓čüąĄ
ąĮą░ ąŠą┤ąĮąŠ ą╗ąĖčåąŠ: ą╗ąĖą▒ąŠ čāčüčéą░ą╗čŗąĄ ąĖ ąĘą╗čŗąĄ ąŠčé ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓čŗčģ ą▒čĆąŠčüą║ąŠą▓ ąĖ ą╝ą░čĆčłąĄą╣ ą┐ąŠ
ą│ąŠčĆčÅč湥ą╣ čüč鹥ą┐ąĖ, ą╗ąĖą▒ąŠ ąŠą┤čāčĆąĄą▓čłąĖąĄ ąŠčé čüčéčĆą░čüčéąĖ ąĖ ąŠčéčćą░čÅąĮąĮąŠą│ąŠ ą░ąĘą░čĆčéą░ ą▒ąŠąĄą▓ ąĖ
ą░čéą░ą║. ąś ą╝ąĄčĆčéą▓čŗąĄ č鹊ąČąĄ ą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠčģąŠąČąĖą╝ąĖ, ą║ą░ą║ ą▒ą╗ąĖąĘąĮąĄčåčŗ. ąöą░ąČąĄ čĆąŠčéąĮčŗčģ
ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī ą▓ ą╗ąĖčåąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąĖčģ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī
ąĮą░ąĘąĮą░čćą░čéčī čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ąĄąČąĄą┤ąĮąĄą▓ąĮąŠ ą▓ąĘą░ą╝ąĄąĮ čāą▒ąĖčéčŗčģ ąĖ čĆą░ąĮąĄąĮčŗčģ.
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ čłąĄą╗ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ą║čĆą░čüąĮąŠą░čĆą╝ąĄą╣čåą░ą╝ąĖ ąĖ,
ąĮąĄ čüč鹥čüąĮčÅčÅčüčī, čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗ ąĖčģ, ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ąĖ ąŠčēčāčēą░čÅ
ąĮąĄąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╝čāčÄ čĆą░ą┤ąŠčüčéčī, čćč鹊 ą▓čüąĄ ą┐ąŠą╝ąĮąĖčé, čćč鹊 ąĘąĮą░ąĄčé ąŠ ą▓čüčÅą║ąŠą╝ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ,
čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĖ ąĘąĮą░čéčī ą▒čŗ ąĮąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ. ąĀą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 č鹊čé, ą▒ąĄą╗ąŠą│ą╗ą░ąĘčŗą╣, ą▓
čĆą░čüč鹥čƹʹ░ąĮąĮąŠą╣ ą│ąĖą╝ąĮą░čüč鹥čĆą║ąĄ, ą▒čāą┤č鹊 ą▒čŗ ąĮąĄąĘąĮą░ą║ąŠą╝. ąś ąĘą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗čüčÅ ą╗ąĖčłčī
čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčĆą░ą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüčéčĆąŠąĄą╝. ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, ą░ ąĮąĄ ąŠąĮ ą╗ąĖ čéčĆąĖ ą┤ąĮčÅ ąĮą░ąĘą░ą┤
ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ ąĖąĘ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ą║ąĖ ┬½čÅąĘčŗą║ą░┬╗ ŌĆö ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ č湥čģąŠčüą╗ąŠą▓ą░čåą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠčĆą┐čāčüą░?
ą¤ąŠą╝ąĮąĖčéčüčÅ, čā č鹊ą│ąŠ ą▒čŗą╗ąĖ ą│ąŠą╗čāą▒čŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĖ ąŠą┐čāčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąĮąĖąĘčā čāą│ąŠą╗ą║ąĖ ą▓ąĄą║ŌĆ” ą×ąĮ
ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčé?.. ą×ąĮ! ą¤ąŠčüą╗ąĄ ą┤ąŠą┐čĆąŠčüą░, ą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčüčÅ, ąŠčéą▓ąĄą╗ č湥čģą░ ą▓ čüč鹥ą┐čī ąĖ
ą┐čĆąĖą║ąŠąĮčćąĖą╗ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą╝ ą▓ čüą┐ąĖąĮčā. ą©ąĖą╗ąŠą▓čüą║ąĖą╣ ą┤ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ŌĆ”
ąØąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čłąĄčĆąĄąĮą│ą░čģ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣
ą║ąŠą╗ąŠąĮąĮčŗ čéąĖčģąŠ ąĖ ą│ą╗čāčģąŠą▓ą░č鹊 ąĘą░ą┐ąĄą╗ąĖ. ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čģčĆąĖą┐ą╗čŗčģ, ąĮąŠ čüąĖą╗čīąĮčŗčģ
ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓ ą┤ąŠąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą▒čāą┤č鹊 ąĖąĘ‑ą┐ąŠą┤ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ:
ąÆąŠ ą║čāąĘąĮąĖčåąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ą║čāąĘąĮąĄčåčŗ,
ąÆąŠ ą║čāąĘąĮąĖčåąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ą║čāąĘąĮąĄčåčŗŌĆ”
ąÜą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čüąĄą╣čćą░čü čĆąŠčéą░ čĆą▓ą░ąĮąĄčé
čüąŠčéąĮąĄą╣ ą│ą╗ąŠč鹊ą║ čü čāą┤ą░ą╗čīčÄ ąĖ ą┐čĆąĖčüą▓ąĖčüč鹊ą╝ ąĖ ą║č鹊‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčé ą▓ą┐čĆąĖčüčÅą┤ą║čā,
ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čāčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĖąĘ ąŻčäčŗ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čéčī ą┐ąŠąĘąĖčåąĖąĖ. ąØąŠ ą║ ą┐ąŠčÄčēąĖą╝
ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ ą┐čĆąĖą╝ą║ąĮčāą╗, čģąŠčéčÅ ą╗čÄą┤ąĖ ą┐čĆąĖą▒ą░ą▓ąĖą╗ąĖ čłą░ą│čā ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤,
čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤ čüčéčĆčāčÄ ą▓ąŠą┤čŗ.
ŌĆö ąÉ ą▓ąĄą┤čī ą┐čĆąŠčüą║ąŠčćąĖą╝ čćčāą│čāąĮą║čā! ąÉ?! ŌĆö
ą¤ąŠčüą╗čŗčłą░ą╗čüčÅ ą▓ąŠčüč鹊čƹȹĄąĮąĮčŗą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü.
ŌĆö ą¤ąĄčĆąĄčüą║ąŠčćąĖą╝!
ŌĆö ą¤ąŠą╗ąĄąČąĖą╝ ą▓ čüč鹥ą┐ąĖ ą┤ąŠ ąĮąŠčćąĖ, ą░ čéą░ą╝ ŌĆö ą│ą┤ąĄ
ąĮą░čłą░ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░ą╗ą░?! ŌĆö ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ ą│čāčüč鹊 ą▓ ąŠčéą▓ąĄčé.
ŌĆö ąÜą░ą▒čŗ čéą░ą║, ŌĆö ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐čĆąŠą▓ąŠčĆčćą░ą╗ ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣
ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮąĄčå ąĖ ą┐ąŠą║ąŠčüąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ. ŌĆö ąÉ č鹊 ą╗čÅąČąĄčłčī. ąś ą┐ąŠą╗ąĄąČąĖčłčī.
ąś ąĘą░ą╝ąŠą╗čćą░ą╗, ą┐čĆąĖčüčéą░ą╗čīąĮąŠ ą│ą╗čÅą┤čÅ ąĮą░ ąÉąĮą┤čĆąĄčÅ
ąĖ ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčÅ. ąöą░ąČąĄ ąĘą░ą╝ąĄą┤ą╗ąĖą╗ čłą░ą│, ąĖ ąĖą┤čāčēąĖą╣ ąĘą░ ąĮąĖą╝ čĆčÅą▒ąŠą╣ ą┐ą░čĆąĄąĮčī
ąĮą░čéą║ąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ ą▒čāčĆą┤čÄą║ čü ą▓ąŠą┤ąŠą╣.
ŌĆö ą¦č鹊? ŌĆö ąĮąĄ ą▓čŗą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣. ŌĆö ą¦č鹊 čéą░ą║
čüą╝ąŠčéčĆąĖčłčī?
ŌĆö ąóčŗ ą│ą╗čÅąĮčī, čéčĆą░ą▓ą░ ąĘą░ č鹊ą▒ąŠą╣
ą┐ąŠą┤čŗą╝ą░ąĄčéčüčÅ, ŌĆö čü ąĖčüą┐čāą│ąŠą╝ ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣. ŌĆö ą¤čĆąĖą╝ąĄčéą░ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠ ą┐ą╗ąŠčģą░čÅŌĆ”
ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąŠą│ą╗čÅąĮčāą╗čüčÅ: ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ, čéčĆą░ą▓ą░
ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ą░čüčī čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ, čüą╗ąĄą┤ąŠą╝.
ŌĆö ąØą░
čéą▓ąŠčÄ ą┐čĆąĖą╝ąĄčéčā ą┤čĆčāą│ą░čÅ ąĄčüčéčī, ŌĆö ą┐ąŠą┤ą░ą╗ ą│ąŠą╗ąŠčü čĆčÅą▒ąŠą╣. ŌĆö ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąĄąČąĄą╗ąĖ
ą╝ąŠą╗ąĮąĖąĄą╣ čüčĆą░ąĘčā |