


Буду признателен, если поделитесь информацией
в социальных сетях
|
Я доступен по
любым средствам связи , включая видео
|
 |
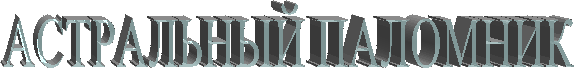 |
 |
| МЕНЮ САЙТА | |||
| Библиотека 12000 книг | ||
Видеоматериалы автора сайта
Код доступа 2461537
|
Джек Керуак Бродяги Драхмы .
|
|
Выдержки из произведения
Бродяги Драхмы(Джек Керуак)
Джек Керуак. Бродяги Дхармы
Как-то в полдень, в конце сентября 1955 года, вскочив на товарняк в Лос-Анджелесе, я забрался в 'гондолу' - открытый полувагон и лег, подложив под голову рюкзак и закинув ногу на ногу, созерцать облака, а поезд катился на север в сторону Санта-Барбары. Поезд был местный, и я собирался провести ночь на пляже в Санта-Барбаре, а потом поймать либо наутро следующий местный до Сан-Луис-Обиспо, либо в семь вечера товарняк первого класса до самого Сан-Франциско. Где-то возле Камарильо, где сходил с ума и лечился Чарли Паркер, мы ушли на боковой путь, чтобы пропустить другой поезд; тут в мою гондолу забрался щуплый старый бродяжка и, кажется, удивился, найдя там меня. Он молча улегся в противоположном конце гондолы, лицом ко мне, подложив под голову свою жалкую котомку. С грохотом проломился по главному пути товарный на восток, дали свисток - сигнал к отправлению, и мы тронулись; стало холодно, ветер с моря понес клочья тумана на теплые долины побережья. После безуспешных попыток согреться, свернувшись и укутавшись на студеном железном полу, мы с бродяжкой, каждый в своем конце вагона, вскочили и принялись топать, прыгать и махать руками. Вскоре, в каком-то пристанционном городишке, наш поезд опять ушел на боковой путь, и я понял, что без пузыря токайского дальше сквозь холод и туман ехать нельзя. - Последишь за вещами, пока я сбегаю за бутылкой? - Давай. Я спрыгнул через борт, перебежал через шоссе 101 к магазину и, кроме вина, купил еще хлеба и конфет. Бегом вернулся я к своему товарняку, которому оставалось еще минут пятнадцать до отправления. Было довольно тепло и солнечно, но день клонился к вечеру, скоро похолодает. Бродяжка сидел в своем углу, скрестив ноги, над скудной трапезой, состоящей из банки сардин. Я пожалел его, подошел и сказал: - Как насчет винца, согреться? А может, хочешь хлеба с сыром к своим сардинкам? - Давай. - Он говорил кротким, тихим, как бы глубоко запрятанным голоском, боясь или не желая обнаружиться. Сыр я купил три дня назад в Мехико, перед длинным дешевым автобусным рейсом через Закатекас - Дюранго - Чиуауа, две тысячи долгих миль до границы в Эль-Пасо. Он поел хлеба с сыром и выпил вина, с наслаждением и благодарностью. Я был рад. Я вспомнил строку из Алмазной Сутры: 'Твори благо, не думая о благотворительности, ибо благотворительность, в конце концов, всего лишь слово'. В те дни я был убежденным буддистом и ревностно относился к тому, что считал религиозным служением. С тех пор я стал лицемернее в своей болтовне, циничнее, вообще устал. Ибо стар стал и равнодушен... Но тогда я искренне верил в благотворительность, доброту, смирение, усердие, спокойное равновесие, мудрость и экстаз, и считал себя древним бхикку в современной одежде, странствующим по свету (обычно по огромной треугольной арке Нью-Йорк - Мехико - Сан-Франциско), дабы повернуть колесо Истинного Смысла, или Дхармы, и заслужить себе будущее Будды (Бодрствующего) и героя в Раю. Я еще не встретил Джефи Райдера, это предстояло мне на следующей неделе, и ничего не слышал о бродягах Дхармы, хотя сам я был тогда типичным бродягой Дхармы и считал себя религиозным странником. Старый бродяжка в гондоле подкрепил мою веру: согрелся от вина, разговорился и наконец извлек клочок бумаги с молитвой Святой Терезы, обещающей после смерти вернуться на землю с неба дождем из роз, навсегда, для всех живых существ. - Откуда это у тебя? - спросил я. - Да вырезал из одного журнала в читальне, в Лос-Анджелесе, пару лет назад. Я всегда ношу ее в собой. - И читаешь в товарняках? - Каждый день почти. - Он был немногословен и не стал распространяться насчет Святой Терезы, религии и собственной жизни. Бывают такие маленькие, тихие бродяжки, на которых никто особенно не обращает внимания, даже на скид-роу, в дешевом районе бедняков и бродяг, не говоря уже о главной улице. Погонится за ним полицейский - он припустит и исчезнет; и железнодорожная охрана в большом городе вряд ли заметит, как он, маленький, прячется в траве и, хоронясь в тени, вскакивает в товарный вагон. Когда я сказал ему, что следующей ночью собираюсь пересесть на 'Зиппер', первоклассный товарняк, он сказал: - А, на 'полночный призрак'. - Это вы так 'Зиппер' называете? - Ты, небось, работал тут на железной дороге. - Да, тормозным кондуктором в 'Саут Пасифик'. - Ну, а у нас, у бродяг, он называется 'полночный призрак': сел в Лос-Анджелесе и до утра тебя не видно, пока не соскочишь в Сан-Франциско, скорость будь здоров. - Восемьдесят миль в час по прямой, папаша. - Это да, только больно холодно на побережье, к северу от Гавиоти и мимо Серфа. - Серф, точно, а потом горы к югу от Маргариты. - Маргаритка, да, сколько раз я на этом призраке ездил, не сосчитать. - Сколько лет дома-то не был? - Не сосчитать. Вообще-то я из Огайо. Но поезд тронулся, вновь задул холодный ветер с туманом, и следующие полтора часа мы провели, изо всех сил стараясь не замерзнуть. Я то сворачивался калачиком и медитировал на тепле, истинном тепле Бога, пытаясь победить холод, то вскакивал, махал руками и ногами, пел. Бродяжка был терпеливее, он просто лежал, погруженный в горестные раздумья. Зубы мои стучали, губы посинели. Когда стемнело, мы с облегчением увидели знакомый контур гор Санта-Барбары; скоро остановимся и согреемся в теплой звездной ночи близ путей. На перекрестке, спрыгнув из вагона, я распрощался с маленьким бродягой Святой Терезы и, прихватив свои одеяла, пошел ночевать на пляж, к подножию скалы, подальше от дороги, чтобы полиция не вычислила и не увезла меня отсюда. Я жарил сосиски на свежесрезанных заостренных палочках над углями большого костра, там же разогревал в жарких красных ямках банку бобов и банку макарон с сыром, пил свое давешнее вино и праздновал одну из чудеснейших ночей моей жизни. Забрел в воду, окунулся, постоял, глядя в великолепное ночное небо, на вселенную Авалокитешвары, вселенную десяти чудес, полную тьмы и алмазов, и говорю: 'Ну вот, Рэй, осталось совсем чуть-чуть. Все опять получилось'. Красота. В одних плавках, босиком, растрепанному, в красной тьме у костра - петь, прихлебывать винцо, сплевывать, прыгать, бегать - вот это жизнь. Свобода и одиночество в мягком песке пляжа, рядом вздыхает море, и теплые девственные фаллопиевы звезды отражаются, мерцая, в спокойных водах дальнего протока. А если банки так раскалились, что их голыми руками не возьмешь, тут как нельзя лучше пригодятся старые железнодорожные рукавицы. Пока еда остывает, я наслаждаюсь вином и размышлениями. Сижу, скрестив ноги, на песке и думаю о своей жизни. Вот была жизнь, ну и что? 'Что ждет меня впереди?' Но тут вино возбудило аппетит, и пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с палочки, хрум-хрум, и углубиться в содержимое двух вкусных банок при помощи старой походной ложки, выуживая жирные куски свинины с бобами, или макароны с горячим острым соусом и, может быть, щепоткой морского песка. 'Интересно, - думаю, - сколько песчинок на этом пляже? Наверно, столько же, сколько звезд на небе!' (хрум-хрум); в таком случае, 'Сколько же было людей, или лучше, сколько было живых существ за эту меньшую часть безначального времени? У-у, тут уж, наверно, придется сосчитать все песчинки на этом пляже и на всех звездах небесных, в каждом из десяти тысяч великих хиликосмов, это, значит, будет сколько же песчинок? никакая ЭВМ не сосчитает, и счетная машина Берроуза тоже вряд ли, нет, ребята, я не знаю' (глоток вина) 'не знаю, но должно выйти не меньше пары раз по надцать триллионов секстильонов неизвестное невозможное несчетное количество роз, которыми Святая Тереза и тот славный старичок осыпают сейчас твою голову, а также лилий'. Покончив с едой, я утер губы красной банданой, вымыл в соленом море посуду, присыпал песочком, побродил вокруг, потом вытер, сложил, убрал старушку ложку в просоленный рюкзак, завернулся в одеяло и заснул хорошим заслуженным сном. Среди ночи вдруг - 'А?! Где я, что за девчонки играют в баскетбол вечности в старом доме моей жизни, пожар, горим?' - но это всего лишь стремительный шорох подбирающегося к изголовью прилива. 'Словно раковина, буду стар я и тверд', - засыпаю, и снится мне, будто во сне я израсходовал на дыхание три куска хлеба... О бедный мозг человека, о человек, одинокий в песках, и Бог смотрит сверху с внимательной, я бы сказал, улыбкой... Мне приснился прежний наш дом в Новой Англии, и как мои котята пытаются пройти со мной тысячи миль через всю Америку, и мама с котомкой за спиной, и отец, бегущий за неуловимым призрачным поездом, а на сером рассвете я проснулся опять, увидел рассвет, хмыкнул (потому что засек мгновенную смену всего горизонта, будто рабочий сцены поспешил вернуть его на место, чтобы убедить меня в реальности декорации), повернулся на другой бок и заснул опять. 'Все едино', - услышал я свой голос в пустоте, которая во сне чрезвычайно соблазнительна.
<ul><a name=2></a><h2>2</h2></ul>
Маленький бродяга Святой Терезы был первым истинным бродягой Дхармы, которого я встретил, а вторым оказался Бродяга Дхармы номер один, собственно, он-то, Джефи Райдер, это выражение и придумал. Детство Джефи Райдера прошло в восточном Орегоне, в лесной бревенчатой хижине, с отцом, матерью и сестрой, он рос лесным парнем, лесорубом, фермером, увлекался жизнью зверей и индейской премудростью, так что, ухитрившись попасть в колледж, был уже готов к занятиям антропологией (вначале), а позже - индейской мифологией. Наконец он изучил китайский и японский, занялся Востоком и обнаружил для себя великих бродяг Дхармы, дзенских безумцев Китая и Японии. В то же время, как склонный к идеализму северо-западный мальчик, он увлекся старомодным анархизмом профсоюзного толка, научился играть на гитаре и петь старые рабочие песни, еще он пел kиндейские и вообще интересовался народной музыкой. Впервые я увидел его на следующей неделе, на улице в Сан-Франциско (куда прибыл автостопом из Санта-Барбары, на одной стремительной машине, за рулем которой - не поверите - сидела прекрасная юная блондинка в белоснежном купальнике без бретелек, босиком, с золотым браслетом на лодыжке, и машина-то - 'линкольн меркури', последняя модель, коричного оттенка; блондинке хотелось бензедрина, чтобы гнать без устали до самого города; узнав, что у меня в рюкзаке есть немножко, она вскричала: 'С ума сойти!') - я увидел Джефи, топающего своей забавной крупной походкой скалолаза, с рюкзачком, набитым книгами, зубными щетками и всякой всячиной, это был его 'городской' рюкзачок, в отличие от настоящего, большого, с полным набором: спальный мешок, пончо, походные котелки. Он носил острую бородку, а слегка раскосые зеленые глаза придавали ему нечто восточное, но никак не богемное, и вообще он был далек от богемы (всей этой шушеры, ошивающейся возле искусства). Жилистый, загорелый, энергичный, открытый, сама приветливость, само дружелюбие, он даже с бродягами на улице здоровался, а на все вопросы отвечал не думая, с ходу, и всегда бойко и с блеском. - Где ты встретил Рэя Смита? - спросили его, когда мы вошли в 'Плейс' - любимый бар местной тусовки. - Я всегда встречаю своих бодхисаттв на улице! - воскликнул он и заказал пива. Начинался великий вечер, вечер, можно сказать, исторический. В тот вечер он и другие поэты (ибо он был еще и поэтом и переводил на английский китайцев и японцев) выступали с чтением в Галерее Шесть. В баре они все должны были встретиться и хорошенько подготовиться. Глядя на поэтов, стоявших и сидевших вокруг, я понял, что он - единственный среди них, кто не похож на поэта (хотя поэтом был, да еще каким!). Были там и встрепанные интеллектуальные тусовщики в роговых очках вроде Альвы Голдбука, и бледные поэтические красавцы вроде Айка О'Шэя (в костюме), и нездешне благообразные ренессансные итальянцы вроде Фрэнсиса ДаПавиа (похож на молодого священника), и застарелые анархисты с дикой шевелюрой и бабочкой, вроде Рейнольда Какоутеса, и тихие толстые очкарики вроде Уоррена Кофлина. Прочие многообещающие поэты стояли вокруг, в разнообразных костюмах, в вельветовых пиджаках с протертыми локтями, в стоптанных туфлях, с торчащими из карманов книжками. А Джефи был в грубой рабочей одежде, приобретенной в магазинах 'Доброй воли', где продаются поношенные вещи, для горных походов, ночных костров и автостопа вдоль побережья. Еще в его малом рюкзачке хранилась смешная зеленая альпийская шапочка, которую он надевал у подножья горы, обычно с победным кликом, прежде чем начать восхождение на несколько тысяч футов. На ногах у него были альпинистские бутсы, дорогие, итальянские, предмет гордости и радости, и он топал ими по усыпанному опилками полу, как какой-нибудь лесоруб из далекого прошлого. Джефи был невысок, всего около пяти футов семи дюймов, зато вынослив, крепок, стремителен. Лицо его было бы застывшей маской скорби, но глаза смеялись, как у древнекитайского мудреца, а бороденка смягчала жесткие черты. Зубы были коричневатые, так как в лесном его детстве особого ухода за ними не было, но никто этого не замечал, когда он широко улыбался и хохотал над шутками. Порой он затихал и печально, сосредоточенно смотрел в пол, будто обстругивал палочку. А иногда бывал весел. Он живо заинтересовался мною, моим рассказом о маленьком бродяге Святой Терезы и другими байками про путешествия на товарных, автостопом и в лесах. Он сразу объявил меня 'великим бодхисаттвой', то есть 'великим мудрым существом' или 'великим мудрым ангелом', и сказал, что я украшаю этот мир своей искренностью. Еще у нас оказался общий любимец из буддистских святых: Авалокитешвара, или, по-японски, Каннон Одиннадцатиглавая. Джефи ведомы были все детали тибетского, китайского, махаянского, хинаянского, японского и даже бирманского буддизма, но я сразу предупредил, что мне плевать на мифологию, на всяческие названия и национальный колорит буддизма, и что прежде всего меня интересует первая из четырех благородных истин Шакьямуни: 'Жизнь есть страдание'. А также до некоторой степени третья: 'Преодоление страдания достижимо', во что мне тогда не очень-то верилось. (Я еще не усвоил тогда Писание Ланкаватары, из которого следует, что в мире не существует ничего, кроме самого сознания, а потому все возможно, в том числе и преодоление страдания). Приятелем Джефи был вышеупомянутый толстый добрый очкарик Уоррен Кофлин, сто восемьдесят фунтов поэтического мяса, который, по словам Джефи (мне на ухо), был гораздо круче, чем казался. - А кто он? - Мой самый лучший друг, еще с Орегона, мы уже очень давно знакомы. Сперва он кажется тугодумом, на самом деле - блеск, алмаз. Вот увидишь. Только держись. Как скажет чего-нибудь, крышу сносит сразу. - Почему? - Наверное, великий тайный бодхисаттва, может, реинкарнация Асагны, великого древнего учителя Махаяны. - А я кто? - Не знаю, может, Коза. - Коза? - А может, Гряземорда. - Что за Гряземорда? - Гряземорда - это грязь на твоей козьей морде. А что бы ты сказал, если бы кто-нибудь на вопрос: 'Есть ли в собаке нечто от Будды?' ответил: 'Гав!'? - Сказал бы, что это дурацкий дзен-буддизм. - Это немножко охладило Джефи. - Слушай, Джефи, - сказал я, - я ведь не дзен-буддист, я серьезный буддист, старорежимный мечтатель, хинаянский трус времен позднего махаянизма, - и так далее весь вечер; вообще я считаю, что дзен-буддизм не столько сосредоточен на добре, сколько стремится ввести разум в замешательство, чтобы он постиг иллюзию начал всего сущего. - Это низко, - возмущался я. - Все эти дзенские учителя, которые толкают молодых ребят в грязь за то, что те не могут разгадать их дурацкие словесные загадки. - Чтобы объяснить, что грязь лучше, чем слова, братишка. - Но я не могу в точности передать (хотя постараюсь) блеск всех его возражений, реплик и подковырок, которые ни на минуту не давали расслабиться и в конце концов втемяшили в мою кристальную башку нечто такое, что заставило меня изменить планы на жизнь. Так или иначе, я последовал за галдящей толпой поэтов на вечер в Галерее Шесть - вечер, который, кроме всего прочего, стал вечером рождения Сан-Францисского Поэтического Ренессанса. Там были все. Это был совершенно безумный вечер. А я все это раскручивал: раскрутил довольно, в общем-то, стылую галерейную публику на мелкую монету, сбегал за вином, притащил три галлоновых бутыли калифорнийского бургундского и пустил по кругу, так что к одиннадцати часам, когда Альва Голдбук, пьяный, раскинув руки, читал, вернее, вопил свою поэму 'Вопль', все уже орали: 'Давай! Давай!', как на джазовом джем-сейшне, и старина Рейнольд Какоутес, отец поэтической тусовки Фриско, утирал слезы восторга. Сам Джефи читал славные стихи о Койоте, боге североамериканских равнинных индейцев (по-моему), во всяком случае, боге северо-западных индейцев квакиутль и все такое прочее. 'Х.. вам! - поет койот и когти рвет!' - читал Джефи изысканной публике, и все выли от счастья, это было так чисто, 'х..' слово грязное, а произносится чисто. Там были и нежные лирические строчки, про медведей, например, как они ягоды едят, - чувствовалась любовь к животным; и глубокие загадочные строки о волах на монгольской дороге - чувствовалось знание литературы Востока, вплоть до Чжуан Цуня, великого китайского монаха, что прошел из Китая через Тибет, Ланчжоу, Кашгар и Монголию с благовонной палочкой в руке. Потом, в строчках о том, как койот приносит сласти, Джефи выказал свой простецкий юмор. И анархистские идеи насчет того, что американцы не умеют жить, - в строках о жителях предместья, загнанных в гостиные, сделанные из бедных деревьев, сваленных мотопилой (здесь проглянуло его прошлое, прошлое северного лесоруба). Голос у него был глубокий, звонкий и, я сказал бы, смелый, как у американских героев и ораторов прежних времен. Мне нравилось в нем что-то искреннее, сильное, какая-то человечность и надежда, в то время как другие поэты были либо чересчур утонченно-эстетскими, либо слишком истерично-циничными, чтобы на что-то надеяться, либо слишком абстрактно-камерными, либо слишком увлекались политикой, либо, подобно Кофлину, были слишком сложны для понимания (толстый Кофлин говорил о 'непроясненных процессах', но, когда он сказал, что откровение - личное дело каждого, я заметил тут сильное буддистское, идеалистическое чувство, которое Джефи разделял с добряком Кофлином, когда они были однокашниками в колледже - как я на своем восточном побережье разделял его с Альвой и с другими, не столь безумно-апокалиптичными, но никак не более сострадательными и чуткими). А народ толпился в сумраке галереи, стараясь не пропустить ни слова из этого беспримерного поэтического чтения. Я же то бродил среди них, не глядя на сцену и всем предлагая хлебнуть из бутыли, то возвращался на свое место справа от сцены, подбадривал, поддакивал, одобрительно покрикивал и отпускал даже целые длинные комментарии, о чем никто меня не просил, но никто, в атмосфере всеобщего подъема, и не возражал. Вечер удался на славу. Нежный ДаПавиа шелестел желтыми лепестками нежной полупрозрачной бумаги, все разглаживал ее длинными белыми пальцами, читая стихи своего покойного приятеля Альтмана, который съел слишком много пейотля в Чиуауа (а может, и помер от полиомиелита, одно из двух), - но своего не прочел ничего - трогательная элегия в память о погибшем юном поэте, тут прослезится и Сервантес седьмой главы, и читал он таким нежным, донельзя английским голосом, что я просто рыдал от внутреннего смеха, хотя потом я с этим Фрэнсисом познакомился, и он оказался неплохим парнем. Среди прочих была там и Рози Бьюканан, коротко стриженая, рыжая, худая, симпатичная, классная девчонка и всеобщий друг на всем побережье; она позировала художникам и сама что-то писала, а в тот момент вся бурлила от возбуждения - их роман с моим старым приятелем Коди был в разгаре. 'Ну как, Рози, здорово?' - крикнул я; она хорошенько отхлебнула из бутыли и посветила мне своими глазищами. Коди стоял сзади, обняв ее обеими руками за талию. Между выступлениями, в потертом пиджаке с бабочкой, каждый раз встревал Рейнольд Какоутес с коротенькой забавной речью, смешным фальшивым голосом представляя следующего поэта; но, как я уже сказал, к половине двенадцатого, когда все стихи были прочитаны и вся галерея толклась, возбужденно обсуждая, что сейчас произошло и куда идет американская поэзия, он утирал глаза платочком. А потом все мы, вместе с ним и поэтами, набились в несколько машин и рванули в Чайнатаун, где нас ожидал восхитительный полночный китайский пир, с палочками и шумными разговорами, в одном из развеселых китайских ресторанов Сан-Франциско. Оказалось, что это любимый ресторан Джефи, 'Нам Юен'; он показал мне, что здесь надо заказывать и как есть палочками, он рассказывал байки про дзенских безумцев Востока, и под конец я до того возрадовался (а на столе у нас стояла бутылка вина), что подошел к двери на кухню и спросил старого повара: 'Почему Бодхидхарма пришел с запада?' (Бодхидхарма - индус, который принес на восток, в Китай, учение Будды). - Мне все равно, - полуприкрыв глаза, отвечал старик; я вернулся и рассказал об этом Джефи. 'Прекрасный ответ, совершенный ответ, - сказал он, теперь ты видишь, что я понимаю под дзеном'. Мне еще многому предстояло научиться. Особенно насчет обращения с девочками - тут Джефи был несравненным и истинным дзенским безумцем, в чем я имел возможность лично убедиться на следующей неделе.
<ul><a name=3></a><h2>3</h2></ul>
В Беркли я жил у Альвы Голдбука в заросшем розами коттеджике на заднем дворе другого дома, побольше, на Милвиа-стрит. На подгнившей, покосившейся, увитой плющом веранде, в славном старом кресле-качалке, я каждое утро читал Алмазную Сутру. Двор было полон зреющих помидоров и мяты, мята, все пропахло мятой, там росло чудесное старое дерево, под которым я любил медитировать прохладными, великолепно-звездными калифорнийскими октябрьскими ночами, коим нет равных в мире. У нас была отличная кухонька с газовой плиткой, правда, без холодильника, но это неважно. Еще была отличная маленькая ванная, с ванной и горячей водой, и общая комната, устланная соломенными циновками, подушками и матрасами, и везде книги, книги, сотни книг, от Катулла до Паунда и Блита, пластинки с Бахом и Бетховеном (даже одна свинговая - Эллы Фитцджеральд, с весьма любопытным Кларком Терри на трубе) и хороший вебкоровский проигрыватель, с тремя скоростями и такой громкостью, что с домика запросто могла слететь крыша: она ведь была фанерная, как и стены; как-то в одну из наших ночных дзен-безумских пьянок я от радости прошиб стену кулаком, Кофлин увидел меня и дюйма на три просунул голову в дыру. Примерно в миле оттуда, вниз по Милвиа-стрит и вверх к кампусу Калифорнийского университета, за другим большим старым домом на тихой улице Хиллегасс, пряталась хижина Джефи, гораздо меньше нашей, футов двенадцать на двенадцать, внутри - ничего, кроме типичных аксессуаров нехитрого монашеского быта, никаких стульев или там романтических кресел-качалок, одни соломенные циновки. В углу - знаменитый рюкзак с начищенными котелками, которые вложены друг в дружку, упакованы и завязаны в синий платок как единое компактное целое. Деревянные японские сандалии-гэта, которые он никогда не носил, и пара домашних черных носков-пата, чтобы мягко ступать по славным соломенным циновкам: место для четырех пальцев с одной стороны и для большого - отдельно. У него имелось множество апельсиновых ящиков, набитых прекрасными учеными книгами, кое-что на восточных языках, все великие сутры, комментарии к сутрам, полное собрание сочинений Д.Т.Судзуки и отличный четырехтомник японских хокку. Кроме того, была огромная коллекция лучшей мировой поэзии. На самом деле, если сюда залез бы вор, единственное, что стоило бы брать - это книги. Вся одежда - поношенная, приобретенная с беспечной радостью в магазинах 'Доброй воли' и Армии спасения: штопаные шерстяные носки, цветные фуфайки, джинсы, рабочие рубахи, мокасины и несколько свитеров с высоким горлом, которые он надевал все сразу морозными горными ночами на Высоких Сьеррах Калифорнии или Высоких Каскадах Вашингтона и Орегона во время своих невероятных долгих походов, порой многонедельных, всего с несколькими фунтами сушеных припасов в рюкзаке. Из нескольких апельсиновых ящиков был составлен стол, и летним вечером, когда я впервые пришел туда, на этом столе, рядом с Джефи, склонившим серьезную голову над иероглифами китайского поэта Хань Шаня, мирно дымилась чашка чаю. Кофлин дал мне адрес, и я пришел: вначале увидел велосипед Джефи на лужайке перед большим хозяйским домом, а потом и кучку странных валунов и камней с забавными деревцами, принесенными им из горных походов, чтобы устроить собственный 'японский чайный садик' или 'сад чайного домика', ибо над скромной обителью шелестела вполне подходящая сосна. Никогда не видел я более мирной сцены, чем в тот прохладный алеющий вечер, когда попросту открыл дверку, заглянул внутрь, и увидел, как он сидит с книгой в углу своей хижины на циновке, скрестив ноги и подложив под себя пеструю подушку, похожий в очках на старого мудрого ученого, а рядом жестяной чайничек и дымящаяся фарфоровая чашка. Он спокойно поднял голову, увидел, что это я, сказал: 'А, Рэй, заходи' - и снова углубился в чтение. - Чем занимаешься? - Перевожу великую поэму Хань Шаня 'Холодная Гора', написанную тысячу лет назад, частично на скалах, в сотнях миль от человеческого жилья. - Ого. - Между прочим, входя сюда, следует разуться, посмотри, тут циновки, обувь может их попортить. - Я послушно снял свои синие холщовые тапочки на мягкой подошве и оставил их у порога; Джефи кинул мне подушку, на которую я уселся, скрестив ноги и прислонясь к дощатой стенке, с чашкой горячего чая. Читал когда-нибудь Книгу Чая? - спросил он. - Нет, а что это за книга? - Научный трактат о том, как заваривать чай, основанный на знаниях, полученных за две тысячи лет приготовления чая. Там описано, как должен действовать первый глоток чая, и второй, и третий, просто настоящий экстаз. - То есть они как бы торчали ни на чем? - Отпей чайку и поймешь; это хороший зеленый чай. - Чай был и впрямь хорош, я сразу ощутил тепло и покой. - Почитать тебе из этой поэмы Хань Шаня? Рассказать о нем? - Давай. - Значит, Хань Шань был китайский ученый, который устал жить в большом городе и удалился в горы. - Прямо как ты. - Тогда это действительно было возможно. Он жил в пещерах недалеко от буддийского монастыря в Тянь-Цзиньском районе Тьен Тая, дружил с единственным человеком, забавным дзенским безумцем Ши-те, который работал уборщиком в монастыре, подметал его соломенной метлой. Ши-те тоже был поэтом, но записал очень немногое. Изредка Хань Шань спускался с Холодной Горы в своей одежде из коры деревьев, приходил на теплую кухню и ждал пищи, но никто из монахов не кормил его, так как он не хотел принимать устав и медитировать трижды в день по удару колокола. Понимаешь, почему у него тут... вот послушай, я тебе переведу, - и, заглянув ему через плечо, я стал следить, как он читает по крупным птичьим следам иероглифов: - 'Вверх иду по тропинке Холодной Горы, вьется тропинка все вверх и вверх, в длинном ущелье осыпь и валуны, широкий ручей, изморозь на траве, влажен мох, хоть дождя и не было, сосна поет, но ветра нет, кто порвет путы мира и воссядет со мною среди облаков?' - Ух ты. - Это, конечно, мой перевод, тут, видишь, по пять иероглифов в столбце, приходится вставлять всякие западные предлоги, артикли и тому подобное. - А почему не перевести как есть, пять знаков - пять слов? Вот эти пять первых, что они означают? - Это иероглиф 'взбираться', это - 'вверх', это - 'холодный', это - 'гора', это - 'тропинка'. - Все правильно, 'Вверх иду тропинкой Холодной Горы'. - Ну, да, а здесь как быть: 'длинный', 'ущелье', 'завалить', 'лавина', 'валуны'? - Это где? - Вот, в третьем столбце. Получается: 'Длинное ущелье завалено лавиной валунами'. - Но так даже лучше! - Вообще-то да, я думал об этом, но мне надо получить одобрение китаистов в университете, и чтобы это было понятно по-английски. - Эх, как здорово, - сказал я, оглядывая комнату, - и ты сидишь тут так тихо в этот спокойный час, читаешь, один, в очках... - Вот что, Рэй, надо тебе сходить со мной в горы. Хочешь, залезем на Маттерхорн? - Давай! А где это? - В Высоких Сьеррах. Можно доехать дотуда с Генри Морли, на его машине, а там у озера выйти, взять рюкзаки - и вперед. Я понесу всю еду и снаряжение, а ты мог бы одолжить у Альвы рюкзачок и понесешь запасные носки, ботинки и разную мелочь. - А вот эти иероглифы что означают? - Эти иероглифы означают, что Хань Шань спустился с горы после многолетних скитаний, чтобы повидать близких, и вот он говорит: 'Все это время я жил на Холодной Горе' - и так далее, - 'вчера навестил я друзей и родных, более половины из них ушло к Желтым Источникам' - то есть умерло, - 'ныне утром смотрю на свою одинокую тень, читать не могу, глаза полны слез'. - Тоже на тебя похоже: читаешь, а глаза полны слез. - У меня не полны слез! - Ну, будут полны, потом, через много лет. - Это точно, Рэй... И вот тут, смотри: 'На горе холод, всегда, а не только в этом году', видишь ли, он в самом деле высоко забрался, на двенадцать-тринадцать тысяч футов, а то и выше, вот он говорит: 'Зазубренные отроги в вечном снегу, в темных ущельях лес, туман моросит, трава прорастает только к концу июня, в начале августа начинается листопад, и я тут торчу высоко, как наркоман...' - 'Торчу, как наркоман?' - Ну, это я так перевел, вообще-то здесь сказано - как сластолюбец в городе у подножья горы, я просто осовременил. - Здорово. - Я поинтересовался, почему Джефи избрал своим героем Хань Шаня. - Потому что он жил в горах и был поэт и буддист, упражнялся в медитации на сути всех вещей, и, между прочим, вегетарианец, хотя лично я в это не врубаюсь, мне кажется, в современном мире это немножко чересчур, ведь все живые существа питаются, как могут. И он был человек одиночества, смог удалиться от мира и жить себе в чистоте и истинности. - Тоже похоже на тебя. - И на тебя, Рэй. Я ведь не забыл твои рассказы, как ты медитировал в лесу в Северной Каролине, и все такое. - Джефи был очень печален, даже подавлен, я еще не видел его таким тихим, меланхоличным, задумчивым, он говорил с какой-то материнской нежностью, будто издалека, с бедным томящимся существом (то есть со мной), нуждающимся в поддержке и утешении, он ничего не изображал и был как бы в трансе. - Ты сегодня медитировал? - А как же, я каждое утро до завтрака медитирую, и еще вечером подолгу, если не помешают. - Кто? - Разные люди. Иногда Кофлин, вчера вот Альва заходил, Рол Стурласон, еще одна девушка приходит играть в 'ябьюм'. - 'Ябьюм'? Это что такое? - Не знаешь, что такое 'ябьюм', Смит? Потом расскажу. - Он был слишком опечален, чтобы говорить о 'ябьюме', как я выяснил в одну из ближайших ночей. Мы еще поговорили о Хань Шане и о стихах, написанных на скалах, а когда я уходил, пришел Рол Стурласон, высокий симпатичный блондин, чтобы обсудить подробности их предстоящего путешествия в Японию. Этого Рола Стурласона интересовал сад камней Р,андзи в монастыре С,кокудзи в Киото, это просто старые камни, но расположенные таким образом, что получается, очевидно, некая мистическая эстетика, так что каждый год тысячи туристов и монахов приезжают туда, чтобы, созерцая камни, обрести спокойствие духа. Я никогда не встречал людей столь странных и при этом прямых и серьезных, как этот Стурласон. Больше я его не видел, вскоре он уехал в Японию, но не могу забыть, как он ответил на мой вопрос: 'Кто же так здорово расположил эти камни?' - Это неизвестно; какой-то монах, или монахи, много лет тому назад. Но в том, как они расставлены, есть определенная таинственная форма. Ведь лишь через форму мы можем познать пустоту. - Он показал мне фотографию этих камней на аккуратно разровненном граблями песке, похожих на острова в море, словно с глазами (неровностями), на фоне аккуратной архитектуры монастырского дворика. Потом он показал схему расположения камней с проекцией их силуэтов, где прослеживалась геометрическая логика и все такое, говорил про 'одинокую индивидуальность', и что камни - 'выпуклости, расталкивающие пространство', все это имело какое-то отношение к коанам, но, честно говоря, меня больше интересовал сам Рол, и особенно славный добрый Джефи, который приготовил на шумном бензиновом примусе еще чаю и подал нам еще по чашке, почти с молчаливым восточным поклоном. Все было совсем не так, как на вечере поэтов.
<ul><a name=4></a><h2>4</h2></ul>
Но на следующую ночь, около полуночи, мы с Кофлином и Альвой решили купить большую галлоновую бутыль бургундского и завалиться к Джефи. - Что он сейчас делает? - спросил я. - Не знаю, - говорит Кофлин, - может, работает, может, трахается. Посмотрим. Мы купили вина внизу на Шеттак-авеню и поднялись к Джефи, и вновь я увидал на лужайке его унылый английский велосипед. - Весь день он колесит по Беркли на этом велосипеде с рюкзачком за спиной, - сказал Кофлин. - То же самое было в Рид-колледже в Орегоне. Он там был местной достопримечательностью. Какие мы там пьянки устраивали, с девицами, с выпрыгиванием из окон, со всякими студенческими приколами, страшное дело. - Вообще он странный, конечно, - сказал Альва, задумчиво покусывая губу; Альва и сам с интересом изучал нашего странного шумно-тихого друга. И вновь мы вошли в маленькую дверь, и Джефи, в очках, оторвался от книги, на сей раз это был сборник американской поэзии, и сказал только: 'А-а', эдаким культурным тоном. Друзья сняли обувь и протопали по циновкам в комнату; я разувался последним, замешкался, в руке у меня была бутылка, я повернулся и издали показал ее сидевшему скрестив ноги Джефи; и вдруг, с диким криком 'Йаааа!', он взвился в воздух и одним огромным прыжком приземлился возле меня, в фехтовальной позиции, с внезапным кинжалом в руке, так что острие, отчетливо звякнув, коснулось стекла. Это был самый потрясающий прыжок, который я видел в своей жизни, если не считать чокнутых акробатов, - прыжок горного козла, каковым он, как вскоре выяснилось, и был. Еще он напомнил мне японского самурая - дикий вопль, прыжок, позиция, гримаса комичного гнева с выпученными глазами. Мне показалось, что это был действительно выпад и против нас, помешавших его занятиям, и против самого вина, которое опьянит его и отнимет вечер, который он собирался посвятить чтению. Но без дальнейших возражений он сам откупорил бутылку и сделал большой глоток, и все мы уселись по-турецки и провели четыре часа за приятным разговорцем. Например, так: ДЖЕФИ: Ну что, Кофлин, старый перец, чем занимался? КОФЛИН: Ничем. АЛЬВА: Что ж это за странные книги? Хм, Паунд. Любишь Паунда? ДЖЕФИ: Кроме того, что этот старый пердун коверкал имя Ли Бо, называя его по-японски, и прочей общеизвестной чепухи, поэт неплохой - на самом деле мой любимый. РЭЙ: Паунд? Как может этот претенциозный псих быть любимым поэтом? ДЖЕФИ: Выпей еще, Рэй, ты говоришь чушь. Кто твой любимый поэт, Альва? РЭЙ: Почему никто не спрашивает, кто мой любимый поэт, я знаю о поэзии в сто раз больше, чем вы все вместе взятые. ДЖЕФИ: Это правда? АЛЬВА: Вполне возможно. Ты не видел книгу стихов, которую он только что написал в Мексике? 'Колесо представленья о трепете мяса проворачивается в пустоте, испуская тик, дикобразов, слонов, человеков, звездную пыль, дураков, чепуху...' РЭЙ: Вовсе не так! ДЖЕФИ: Кстати о мясе, вы не читали новых стихов... И так далее, и тому подобное, пока все не переросло во всеобщий галдеж, а потом и пенье, и катание по полу от смеха; под конец мы с Альвой и Кофлином ушатались в обнимку по тихой университетской улочке, во все горло распевая 'Эли, Эли!', и с диким грохотом разбили под ногами пустую бутыль, а Джефи с порога своей избушки смеялся нам вслед. Но мы помешали ему работать, и я переживал до самого следующего вечера, когда он вдруг заявился к нам с хорошенькой девушкой и тут же велел ей раздеться, что она и сделала.
<ul><a name=5></a><h2>5</h2></ul>
Это соответствовало теориям Джефи насчет любви и женщин. Я забыл сказать, что в тот же вечер, когда к нему заходил знаток камней, следом заглянула девица, блондинка в резиновых ботиках и тибетской накидке на деревянных пуговицах; в частности, она заинтересовалась нашим будущим походом на Маттерхорн и спросила: 'А мне можно с вами?' - потому что сама немного занималась альпинизмом. - А как же, - сказал Джефи специальным смешным голосом для шуток, басистым и зычным, подражая старому лесничему Берни Байерсу, которого знал на Северо-западе, - как же, пошли обязательно, там мы все тебя и трахнем на высоте десять тысяч футов, - он сказал это так забавно и небрежно и, в общем-то, серьезно, что она вовсе не обиделась, а наоборот, даже как бы обрадовалась. В том же духе был его нынешний визит с той же девицей, Принцессой, было часов восемь, стемнело, мы с Альвой мирно пили чай и читали стихи или печатали их на машинке, когда во двор въехали на двух велосипедах Джефи и Принцесса. Сероглазая и светловолосая, Принцесса была очень хороша, и ей было всего двадцать. Я должен сказать еще одну вещь, она была помешана на сексе и мужиках, так что уговорить ее играть в 'ябьюм' не составляло труда. - Не знаешь, Смит, что такое 'ябьюм'? - зычно прогудел Джефи, шагая к нам в своих тяжелых бутсах и ведя за руку Принцессу. - Щас мы с Принцессой тебе покажем. - Идет, - сказал я, - что бы это ни было. - Причем я знал эту Принцессу, и даже был в нее влюблен где-то с год назад. Очередное дикое совпадение, что она встретила Джефи, влюбилась в него и теперь ради него была готова на все. Обычно, когда заходили гости, я накидывал на маленькую настенную лампу свою красную бандану, а верхний свет выключал, чтобы уютнее было сидеть, пить вино и беседовать в красном полумраке. Я сделал так и на этот раз и пошел на кухню за бутылкой, а вернувшись, обалдел: Джефи и Альва раздевались, расшвыривая одежду куда попало, смотрю - батюшки, Принцесса уже совершенно голая, и кожа ее светится в розовой тьме, как снег под лучом заходящего солнца! - Что за черт, - проговорил я. - Вот это и есть 'ябьюм', Смит, - сказал Джефи и, скрестив ноги, уселся на подушку; по его знаку Принцесса подошла и села сверху, лицом к нему, обняв его за шею, и некоторое время они молчали. Джефи ничуть не нервничал и не смущался, он просто сидел, точно так, как полагается. - Так делают в тибетских храмах. Это священный ритуал, совершается под пение молитв и 'Ом Мани Падме Хум', что значит 'Аминь, молния во тьме пустоты'. Я, как видишь, молния, а Принцесса - тьма пустоты. - А она-то сама как?! - вскричал я в отчаянии, в прошлом году я так идеально страдал по ней, долгими часами мучительно размышляя: соблазнять или нет, ведь она еще так молода, и все такое. - Ой, знаешь, как здорово, - отозвалась Принцесса. - Попробуй! - Да я так сидеть не умею. - Джефи сидел в полном 'лотосе' - обе щиколотки на бедрах. Альва пыхтел на матрасе, пытаясь заплести свои ноги таким же кренделем. Наконец Джефи устал, и они попросту повалились на матрас, где Альва и Джефи дружно принялись исследовать территорию. Я все не мог поверить своим глазам. - Давай, Смит, раздевайся и иди к нам! - Но кроме всего прочего, помимо чувств к Принцессе, у меня за плечами был целый год сознательного воздержания, так как я считал похоть прямой причиной рождения, которое, в свою очередь, является прямой причиной страданий и смерти, и на полном серьезе рассматривал похоть как нечто оскорбительное и даже жестокое. 'Красивая девушка - путь к могиле,' - говаривал я, невольно заглядываясь на аппетитных красоток индейской Мексики. Изгнав из своей жизни активную похоть, я обрел тот покой, которого мне так не хватало. Но это было уж слишком! Я все еще боялся раздеться, я вообще предпочитаю раздеваться с глазу на глаз с кем-то одним, и терпеть не могу делать это при мужчинах. Но Джефи было в высшей степени наплевать, и вскоре он уже осчастливил нашу подругу, а потом за дело взялся Альва (пристально глядя на красный свет лампы теми же большими серьезными глазами, с которыми только что читал стихи). Тогда я сказал: 'А если я займусь ее рукой?' - Валяй, отлично. - Полностью одетый, я лег на пол и стал целовать ей ладонь, потом запястье, локоть, плечо и так далее, а она смеялась и чуть не плакала от восторга, пока все мы были заняты ее телом. Все спокойствие моего воздержания - коту под хвост. - Лично я, Смит, не доверяю никакому буддизму и вообще никакой философии или социальной системе, если они отвергают секс, авторитетно заявил Джефи, - завершив дело, он сидел нагишом, скрестив ноги, и сворачивал себе самокрутку (что соответствовало его установке на 'простоту быта'). Потом все мы, голые, радостно варили на кухне кофе, а Принцесса, обхватив колени руками, лежала на боку на кухонном полу, просто ей так нравилось, в конце концов мы с ней вдвоем пошли принимать ванну, и нам было слышно, как Альва и Джефи рассуждают об Оргиях Свободной Любви Дзенских Безумцев. - Слышишь, Принцесса, давай это устраивать регулярно, каждый четверг, а? - крикнул Джефи. - Ага, - отвечала она из ванной. Честное слово, ей все это очень нравилось, и она сказала: - Знаешь, я чувствую, как будто я матерь всего и вся и должна заботиться о своих детях. - Ты сама еще ребенок. - Нет, я древняя праматерь, я бодхисаттва. - Она, конечно, была слегка чокнутая, но когда я услышал про 'бодхисаттву', то понял, что она ужасно хочет быть такой же крутой буддисткой, как Джефи, а будучи женщиной, может выразить это только таким способом, традиции которого коренятся в тибетской церемонии 'ябьюм', так что все нормально. Альва, несказанно довольный, был всецело за 'каждый четверг', да теперь и я тоже. - Слышал, Альва, она заявила, что она бодхисаттва. - Ну и правильно. - Она считает себя нашей общей матерью. - В Тибете и отчасти в древней Индии, - сообщил Джефи, - женщины-бодхисаттвы служили священными наложницами в храмах или ритуальных пещерах, производили на свет достойное потомство, а также медитировали. Мужчины и женщины вместе медитировали, постились, устраивали праздники, вроде нашего, и возвращались к еде, питью, беседе, они ходили на прогулки, в дождливый сезон жили в вихарах, в сухой - под открытым небом, и с сексом не было никаких проблем, что мне всегда нравилось в восточных религиях. И кстати, у наших индейцев тоже... Знаете, в детстве, в Орегоне, я совсем не чувствовал себя американцем, мне чужды были провинциальные идеалы, все это подавление секса, мрачная серая газетная цензура над общечеловеческими ценностями, а потом я открыл для себя буддизм и тут понял, что была прошлая жизнь, бесконечно много веков назад, а сейчас, за грехи и провинности, я ввергнут в эту юдоль печали, такая у меня карма - родиться в Америке, где никто не веселится и ни во что не верит, особенно в свободу. Поэтому я всегда сочувствовал всяческим освободительным движениям, вроде северо-западного анархизма, например, или героям давней резни в Эверетте... Все это вылилось в долгую серьезную дискуссию, наконец Принцесса оделась, и они с Джефи укатили на велосипедах домой, а мы с Альвой остались смотреть друг на друга в красном полумраке. - Да, Рэй, Джефи голова - может, действительно самый крутой из известных нам чуваков. И еще я люблю его за то, что он настоящий герой западного побережья, ты понимаешь или нет, я здесь уже два года, и до сих пор не встречал на самом деле ни одной достойной фигуры, ни одной действительно светлой головы, я уже отчаялся в этом западном побережье! И вообще, смотри, какой образованный, тут тебе и восточная премудрость, и Паунд, и пейотль с его видениями, и альпинизм, и бхикку - да, Джефи Райдер великий новый герой американской культуры! - Да, круто, - согласился я. - И мне еще нравится, когда он тихий такой, печальный, немногословный... - Ох, интересно, чем он кончит. - Я думаю - как Хань Шань, один в горах, будет писать стихи на скалах - или читать их людям, столпившимся у его пещеры. - Или станет кинозвездой в Голливуде, а что ты думаешь, он тут сказал мне: 'Знаешь, Альва, я никогда не думал стать кинозвездой, а ведь я все могу, только еще не пробовал,' - и я верю, он действительно может все что угодно. Видал, как они с Принцессой, как она вся обвилась вокруг него? - О да. - А позже, когда Альва лег спать, я уселся под деревом во дворе и глядел на звезды, временами закрывая глаза для медитации, пытаясь успокоиться и вновь обрести душевное равновесие. Альва тоже не мог заснуть; он вышел, лег на спину в траву, глядя в небо, и сказал: 'Какие там облака клубятся во тьме, чувствуешь, что живешь на планете'. - Закрой глаза и увидишь больше. - Ой, не знаю, что ты этим хочешь сказать! - раздраженно воскликнул он. Его всегда напрягали мои маленькие лекции об экстазе самадхи, - состояние, когда ничего не делаешь, полностью останавливаешь мозги, глаза закрываешь и видишь некий огромный вечный сгусток электрической Силы, гудящий на месте привычных жалких образов и форм предметов, которые, в конечном счете, иллюзорны. Кто мне не верит - приходи через миллиард лет, поспорим. Ибо что есть время? - А тебе не кажется, что гораздо интереснее жить, как Джефи, заниматься девочками, наукой, веселиться, вообще что-то делать, чем так просиживать задницу под деревьями? - Не-а, - сказал я уверенно, зная, что Джефи был бы на моей стороне. - Он просто развлекается в пустоте. - Не думаю. - А я думаю, да. Вот я на следующей неделе схожу с ним в горы и тогда точно тебе скажу. - Ну-ну (вздох), что касается меня, то я останусь Альвой Голдбуком, и к черту всю эту буддистскую фигню. - Когда-нибудь пожалеешь. Как же ты не хочешь понять, что я тебе пытаюсь втолковать: твои шесть чувств дурят тебя, обманывают, уверяя, что, кроме шести чувств, есть еще реальный контакт с реальным миром. Не будь у тебя глаз, ты бы меня не видел. Не будь ушей, не слышал бы гул самолета. Не будь носа, не учуял бы запах полночной мяты. Не будь вкусовых рецепторов языка, не отличил бы по вкусу А от Б. Не будь тела, не ощутил бы тело Принцессы. На самом деле нет ни меня, ни самолета, ни мозга, ни Принцессы, ни-че-го, что ж ты, дурак, хочешь, чтобы тебя продолжали дурить и дурили каждую минуту твоей дурацкой жизни? - Именно этого я и хочу, и благодарю Бога, что из ничего вышло нечто. - Ты уж извини, но все как раз наоборот: из чего-то вышло ничто, и это что-то - Дхармакайя, тело Истинного смысла, а ничто - все вот это и вся наша болтовня. Я пошел спать. - Иногда в твоих словах я вижу некие проблески света, но поверь, что от Принцессы я получаю больше сатори, чем от слов. - Это сатори твоей дурацкой плоти, развратник. - Знаю я, грядет мой спаситель. - Какой спаситель, что грядет? - Все, хорош, давай просто жить! - Черт подери, Альва, раньше я думал так же, как ты, я так же жалко цеплялся за мир. Ты все рвешься туда, где бы тебя любили, били, трахали, чтобы стать старым, больным и побитым сансарой, ты, е..ное мясо вечного возвращения, и так тебе и надо. - Нехорошо так говорить. Все плачут, страдают, стараются жить, как могут. Одичал ты, Рэй, со своим буддизмом, для нормальной здоровой оргии и то боишься раздеться. - Но в конце концов разделся же! - Да, но сколько раскачивался, - ладно, не будем. Альва ушел спать, а я закрыл глаза и стал думать: 'Мысль остановилась' но поскольку я думал это, мысль не останавливалась, зато накатила волна радости, я понял, что вся эта пертурбация - всего лишь сон, который уже кончился, и не стоит беспокоиться, потому что я был не 'я', и я стал молиться, чтобы Бог, или Татхагата, дал мне достаточно времени, сил и разума донести до людей мое знание (чего я не могу как следует сделать даже сейчас), чтобы они знали то же, что и я, и не отчаивались так. Старое дерево молча размышляло надо мной - живое существо. Я слышал, как в траве похрапывает мышь. Крыши Беркли казались жалкой живой плотью, под которой горестные призраки прячутся от небесной вечности, боясь взглянуть ей в лицо. Когда я отправился спать, меня уже не волновала ни Принцесса, ни желание, ни чье-то осуждение, я был спокоен и спал хорошо.
<ul><a name=6></a><h2>6</h2></ul>
И вот настала пора великого похода. Вечером Джефи заехал за мной на велосипеде, мы вытащили альвин рюкзак и положили в корзину велосипеда. Я собрал носки и свитера. Только обуви подходящей не было, разве что теннисные тапочки Джефи, старые, но крепкие. Мои-то уже совсем развалились. - Может, оно и лучше, Рэй, в теннисках проще, они легкие, можно прыгать с камня на камень. Время от времени будем меняться обувью, короче, не пропадем. - А еда? Что ты берешь? - Подожди с едой, Рэ-э-эй, - (иногда он называл меня по имени, и тогда это было протяжное, печальное 'Рэ-э-э-эй', как будто он сокрушался о моем благосостоянии), - вначале вот, я принес тебе спальник, не на утином пуху, как мой, и, конечно, потяжелее, но в одежде и у большого костра будет нормально. - В одежде ладно, а почему у большого костра, ведь только октябрь? - Да, но там наверху в октябре уже заморозки, Рэ-э-эй, - протянул он печально. - По ночам? - Да, по ночам, а днем тепло, хорошо. Знаешь, старина Джон Мьюир ходил по тем горам, куда мы собираемся, в одной только старой шинели и с мешком сухарей, он спал, завернувшись в шинель, а когда был голоден, размачивал сухари в воде и ел, и бродил так месяцами, не возвращаясь в город. - Суровый был мужик! - Что касается еды, то я сходил на Маркет-стрит в магазин 'Хрустальный дворец' и купил мою любимую штуку - булгур, это такая болгарская дробленая твердая пшеница, добавим туда ветчины, маленькими кубиками, получится отличный ужин для всех троих, вместе с Морли. Еще беру чай, там под холодными звездами знаешь, как хочется хорошего горячего чайку. И настоящий шоколадный пудинг, не полуфабрикат какой-нибудь, а настоящий отличный пудинг, вскипячу и размешаю над огнем, а потом охлажу в снегу. - Ишь ты! - Вот, значит, обычно я беру рис, но на этот раз решил приготовить для тебя деликатес, Рэ-э-эй, накидаем в булгур всяких сушеных овощей, я их купил в Лыжном магазине. Это будет ужин и завтрак, а для энергии большой пакет изюма с арахисом, и другой, с курагой и черносливом, так что должно хватить. И он показал мне малюсенький мешочек, в котором содержалась вся эта важная пища для троих взрослых мужиков на сутки, а то и больше, высокогорного похода. - Самое главное в горах - как можно меньше тащить на себе, мы и так уже тяжеловато идем. - Да ты что, разве этого хватит? - Конечно, оно же впитает воду. - А вина возьмем? - Нет, там наверху это совершенно не нужно, в горах вообще не хочется алкоголя. - Я не поверил, но промолчал. Мы погрузили мои вещи на велосипед и отправились к нему пешком через весь кампус, ведя велосипед под уздцы. Вечер стоял прохладный, ясный: на фоне задника с эвкалиптами, кипарисами и прочими деревьями четкой черной тенью вырисовывалась башенка Калифорнийского университета, где-то звенели колокола, воздух похрустывал свежестью. - Там наверху, должно быть, холодно, - сказал Джефи, но он был весел и рассмеялся, когда я спросил, как насчет следующего четверга с Принцессой. - Представляешь, с тех пор мы уже дважды играли в 'ябьюм', она заявляется ко мне в любую минуту дня и ночи и не слушает никаких отговорок. Так что приходится удовлетворять бодхисаттву. - Джефи хотелось поговорить, он рассказывал про свое орегонское детство. - Знаешь, мы с родителями и сестрой жили там, в нашей бревенчатой хижине, как первобытные люди, зимой с утра все раздевались и одевались у огня, иначе никак, поэтому у меня с этим проще, чем у тебя, в смысле, я не стесняюсь. - А что ты делал, когда учился в колледже? - Летом всегда нанимался пожарным наблюдателем - кстати, надо бы и тебе будущим летом там поработать, Смит... Зимой много катался на горных лыжах, часто на костылях прыгал по кампусу, гордился ужасно. По горам лазил, некоторые действительно высокие - скажем, Рэйнир, долгий подъем, кто доберется до вершины, расписывается на камнях. Однажды я все-таки забрался на него. Знаешь, там всего несколько имен. Все Каскады излазил, в сезон, в несезон, лесорубом работал. Вот ты все рассказываешь про железную дорогу, а я тебе должен рассказать про эту особую романтику - быть лесорубом на Северо-западе, представь себе, узкоколейка, морозное утро, снег, а ты выходишь с полным брюхом блинов с сиропом и черного кофе и заносишь топор над первым утренним стволом, совершенно особое ощущение. - Так я и представлял себе великий Северо-запад. Индейцы квакиутль, северо-западная конная полиция... - Да, в Канаде они есть, в Британской Колумбии, я их встречал на тропе. Проходя мимо увеселительных заведений и кафешек, мы заглянули в 'Роббиз' - нет ли кого из знакомых, и встретили Альву - он подрабатывал там, убирал грязную посуду. В своей старой одежде мы с Джефи выпадали из общего университетского стиля. Джефи вообще считали чудаком, как это обычно бывает в кампусах и колледжах, когда появляется нормальный человек - ведь колледжи не что иное, как питомники безликой мещанской одинаковости, которая ярче всего проявляется в рядах аккуратных домиков на окраинах кампуса, с газонами и телевизорами, и в каждом домике перед телевизором сидят люди и смотрят одну и ту же передачу, и мысли у них одинаковые, а в это время Джефи Райдеры всего мира рыщут в диких лесах, чтобы услышать голос природы, ощутить звездный экстаз, проникнуть в темную тайну происхождения всей этой безликой, бесчудесной, обожравшейся цивилизации. 'У них сортиры с белым кафелем, - говорил Джефи, - где они много и грязно гадят, как медведи в горах, но дерьмо немедленно смывается по трубам в канализацию, и никто о нем больше не вспоминает, и никто не понимает, что все они произошли из дерьма, из праха, из пены морской. Целый день они моют руки душистым мылом, которое втайне хотели бы съесть'. Вот такие штуки у него были в голове. Когда мы добрались до его хижины, уже совсем стемнело, в воздухе пахло костром, жжеными листьями; мы тщательно упаковали вещи и отправились к Морли, обладателю машины. Генри Морли был высокообразованный очкарик, при этом чудак и эксцентрик, в кампусе он считался даже большим чудаком, чем Джефи. Он работал в библиотеке, друзей имел немного, но увлекался альпинизмом. Его однокомнатный коттедж на лужайке позади Беркли был заставлен книгами по альпинизму, увешан горными видами и доверху завален рюкзаками, лыжами, бутсами и прочим походным снаряжением. Я был поражен, услышав, как он говорит, он говорил в точности как критик Рейнольд Какоутес, оказалось, когда-то они дружили и вместе ходили в горы, и трудно было определить, повлиял ли Морли на Какоутеса или наоборот. Я чувствовал, что влияние оказал все-таки Морли, у него была такая же неестественная, саркастичная, остроумная, хорошо сформулированная речь, с тысячей неожиданных образов. Когда мы с Джефи вошли к нему и обнаружили там компанию (довольно странное сборище, в том числе китаец, немец из Германии и еще какие-то студенты), Морли сказал: - Я беру надувной матрас, вы, ребята, как хотите, можете спать на холодной жесткой земле, если вам так нравится, но я, с вашего позволения, воспользуюсь преимуществами пневматического устройства, на которое я, кстати говоря, пошел и потратил сумму в шестнадцать долларов - в глуши, в Окленде, в магазине Армии и флота, целый день ездил и размышлял на тему о том, дают ли роликовые коньки или, скажем, присоски их обладателю право считаться транспортным средством, - он так и говорил целыми блоками шуток, скрытый смысл которых мне, да и всем остальным оставался неясен, говорил, в сущности, для самого себя, и все же он мне сразу понравился. Мы вздохнули при виде огромной кучи хлама, которую он собрался тащить с собой в горы, в том числе консервы, резиновый надувной матрас, киркомотыгу и прочее добро, которому вряд ли суждено было пригодиться. - Ты, конечно, можешь взять кирку, Морли, хотя не думаю, что она тебе понадобится, но консервы - это же лишняя вода, которую придется тащить на горбу, ты что, не понимаешь, воды там будет сколько угодно! - Да нет, я просто думал, вот эта банка китайского рагу вроде вкусная вещь... - У меня хватит еды на всех. Поехали. Морли еще долго трепался, копался, возился, упаковывая свой громоздкий станковый рюкзачище, наконец мы распрощались с его друзьями, залезли в маленькую английскую машину и около десяти тронулись, через Трейси на Бриджпорт, а уж оттуда останется восемь миль до начала тропы у озера. Я сидел сзади и слушал их разговоры. Морли был, конечно, совершенно сумасшедший, позже он как-то заявился ко мне с квартой рома со взбитыми яйцами, он думал, я буду это пить, но я заставил его поехать в винный магазин, вообще же идея была посетить некую девицу, причем предполагалось, что я должен выступить в качестве миротворца; она открыла нам, но увидев, кто это, тут же захлопнула дверь, и мы поехали обратно. 'Что произошло?' - 'Да, это долгая история,' - туманно протянул он, так я ничего и не понял. Или, скажем, заметил он, что у Альвы нет пружинного матраса, и вот однажды утром, когда мы, ничего не подозревая, варили кофе, он, как призрак, возник на пороге с гигантским двуспальным матрасом, который мы, как только он ушел, с трудом запихнули в чулан. Он притаскивал какие-то дурацкие доски, какие-то невообразимые полки, самые разнообразные вещи, а через несколько лет я попал с ним в настоящую кинокомедию, согласившись поехать в его дом в Контра-Коста, где провел несколько незабываемых дней, за два доллара в час вычерпывая жидкую грязь из затопленного погреба, откуда подавал мне ведро за ведром сам Морли, перемазанный по уши, как Тартарильяк, князь Подземной Грязи, с загадочной ухмылкой эльфийского восторга на неузнаваемом лице; в каком-то городишке на обратном пути нам захотелось мороженого, и вот мы брели по главной улице (мы ехали по трассе с ведрами и граблями), с мороженым в руках, натыкаясь на людей на узких тротуарах, как два комика из старых голливудских немых комедий, заляпанные побелкой и все такое. Короче, как ни посмотреть, страннейшая личность, а пока что он вез нас в сторону Трейси по оживленному двухполосному шоссе и безостановочно болтал, Джефи - слово, а он ему десять. Например, Джефи скажет: 'Что-то настроение научное, не заняться ли орнитологией', а Морли на это: 'Да уж, у каждого будет научное настроение, если нет рядом девушки с ривьерским загаром!' При этом он каждый раз поворачивался к Джефи и произносил всю эту блестящую чепуху с совершенно каменным лицом; я ехал и думал: откуда же взялся под калифорнийским небом этот загадочный многоумный лингвистический шут? Или, скажем, Джефи упомянет о спальных мешках, а Морли ему: 'Я, кстати, намереваюсь сделаться обладателем нежно-голубого французского спального мешка, ничего не весит, на гусином пуху, вообще, я думаю, покупка будет хорошая, в Ванкувере они бывают - подходящая вещь для Дейзи Мэй. Ей-то ведь в Канаде делать нечего. Все спрашивают, не был ли ее дедушка тем самым путешественником, который встретил эскимоса. Я и сам, между прочим, с Северного полюса'. - О чем это он? - спрашивал я сзади, а Джефи отвечал: 'Он просто занимательный магнитофон'. Я сказал мужикам, что вообще-то у меня тромбофлебит, тромбы в венах на ступнях, и я побаиваюсь насчет завтрашнего - нет, хромать не буду, но потом может наступить ухудшение. 'Влияет ли тромбофлебит на ритм мочеиспускания?' не преминул спросить Морли. Потом я сказал что-то о жителях западных штатов, и он сразу отозвался: 'Я типичный западный тупица... смотрите, во что превратилась Англия, а все из-за чего? - предрассудки'. - Морли, ты сумасшедший. - Возможно, но в любом случае я оставлю чудесное завещание. - Потом вдруг ни с того ни с сего он сказал: - Вообще мне очень лестно идти в горы с двумя поэтами, я и сам, между прочим, собираюсь писать книгу, это будет книга о Рагузе, в позднем средневековье был такой приморский город-государство, республика, они решили классовую проблему, предлагали бразды правления Макиавелли, и на протяжении целого поколения их язык использовался в качестве дипломатического языка Леванта. Это все из-за турок, конечно. - Конечно, - отвечали мы. Он вслух спрашивал себя: 'Можно ли вычислить Рождество с точностью до восемнадцати миллионов секунд слева от настоящей старой каминной трубы?' - Конечно, - смеется Джефи. - Конечно, - повторяет Морли, крутя баранку: поворотов все больше. - В глубинах Сьерры, в десяти тысячах пятистах шестидесяти ярдах от самого примитивного мотеля, воспитывают специальных оленьих борзых-грейхаундов для предсезонной интимной конференции счастья. Это новее, чем психоанализ, и соблазнительно обманчивой простотой. Кто потеряет обратный билет, может превратиться в гнома, аппаратура хитрая, и ходят слухи, что съезды актерского профсоюза ликвидируют последствия перенаселения, вызванного нашествием иностранного легиона. В любом случае, конечно, Смит, - (оборачиваясь ко мне), - на обратном пути в эмоциональную глушь найдешь подарок от... кое-кого. От кленового сиропа тебе полегчает? - Конечно, Генри. Вот вам Морли. Тем временем машина въехала в предгорья и пошли угрюмые городишки, в одном из них мы остановились на заправке, и только джинсовые Элвисы Пресли, ждущие, кому бы морду набить, попадались по пути, но уже слышался шум холодных источников, близкое дыхание гор. Чистая, свежая ночь, наконец мы оказались на совсем узкой гудронной дороге, которая уже наверняка вела прямо в горы. По сторонам стали появляться высокие сосны, а порой и отвесные скалы. Морозный воздух был восхитителен. Оказалось, мы попали как раз на открытие охотничьего сезона, и в баре, куда мы завернули чего-нибудь выпить, тупо нагружалась толпа охотников в красных шапочках и шерстяных рубахах, побросав в машинах ружья и рожки; они жадно накинулись на нас с вопросами: не видали ли мы оленей. Конечно, видали, у самого бара. Морли вел машину, не переставая трепаться: 'Что ж, Райдер, может быть, тебе суждено стать Альфредом лордом Теннисоном нашей маленькой теннисной вечеринки здесь, на побережье, тебя нарекут Новым Богемцем и сравнят с рыцарями Круглого Стола, минус Амадис Великий и исключительная роскошь маленького Мавританского королевства, запроданного Эфиопии за семнадцать тысяч верблюдов и шестнадцать сотен пехотинцев, когда Цезарь еще мамкину титьку сосал', - и вдруг олень на дороге, секунду он окаменело глядел в глаза нашим фарам, потом отпрыгнул в кусты на обочине и исчез во внезапно огромном алмазном молчании леса (которое мы услышали, как только Морли заглушил мотор) - и только топот копыт вверх, к индейским рыбным заводям, тонущим в предгорном тумане. Мы уже довольно высоко забрались, Морли сказал, тысячи на три футов. Снизу доносился шум невидимых потоков, мчащихся по холодному, залитому звездным светом камню. 'Эй, олешек, - крикнул я вслед, - не бойся, не застрелим!' И вот теперь в баре, куда мы завернули по моему настоянию ('В этих северных, горных, морозных краях что может быть лучше стаканчика доброго портвейна, согревающего душу, красного, густого, как сиропы сэра Артура') - - Так и быть, Смит, - сдался Джефи, - но, мне кажется, не следовало бы пить в походе. - Да ладно тебе! - Как хочешь, пожалуйста, но посмотри, сколько мы сэкономили на дешевых припасах для похода, а ты собираешься взять все это и одним махом пропить. - Это у меня вечная история, то богат, то беден, чаще беден и даже нищ. Мы зашли в бар, это был придорожный трактир, отделанный в духе горной глубинки, под швейцарское шале, разрисованный оленями и увешанный лосиными головами, и посетители были подстать, ни дать ни взять реклама охотничьего сезона, но все уже в дупель пьяные, колобродящее месиво теней в полумраке бара, когда мы вошли, сели на табуреты и заказали портвейн. Странный был заказ в этих охотничьих краях, стране виски, но бармен покопался, выудил старую бутылку портвейна 'Христианские братья', налил нам два широких винных бокала (Морли вообще непьющий), мы с Джефи выпили, и нам стало хорошо. - Эх, - сказал Джефи, разнеженный вином и полночью, - скоро поеду на север, взглянуть на влажные леса моего детства, на укрытые облаками горы, на старых злобных трезвых друзей-интеллектуалов и старых добрых пьяных друзей-лесорубов, ей-Богу, Рэй, если ты не был там, со мной или без меня - ты не жил. А потом поеду я в Японию, исхожу вдоль и поперек всю эту холмистую страну, натыкаясь на затерянные в горах древние храмики и хижины старых стодевятилетних мудрецов, которые молятся Кваннону и столько медитируют, что, выходя из медитации, смеются надо всем, что движется. Но ей-Богу, это вовсе не значит, что я не люблю Америку. Хотя чертовых этих охотников ненавижу, они только и мечтают, что прицелиться в бедное животное и грохнуть его; но за каждое убитое существо эти мудаки будут тысячу раз опять рождаться и испытывать все муки самсары, и поделом! - Слыхал, Морли, Генри, а ты как думаешь? - Мой буддизм - всего лишь умеренный безрадостный интерес к некоторым их картинкам, хотя должен сказать, что у Какоутеса в его горных стихах есть эта безумная нотка буддизма, но как вера меня это мало интересует. - Вообще-то ему было все равно. - Я равнодушен, - заявил он со смехом, и Джефи воскликнул: - Но равнодушие - это и есть буддизм! - Да-а, смотри, как бы тебе из-за этого портвейна не бросить пить йогурт. Я, знаете, a fortiori разочарован, ибо здесь нет ни бенедиктина, ни вина траппистов, одна лишь святая водица со святым душком 'Христианских братьев'. Не могу сказать, что я в восторге от этого экзотического заведения, оно похоже на свою тарелку для писателей-почвенников, все они армянские бакалейщики, добропорядочные неловкие протестанты, которые коллективно поехали на пикник с выпивкой и хотели бы вставить контрацептив, да не знают, с какой стороны подобраться. Короче, козлы, - припечатал он с внезапной искренностью. - Молоко тут, наверно, отличное, но коров больше, чем людей. В этих краях, вероятно, обитает другая порода англов, которая мне лично не слишком импонирует. Лихачи, небось, гоняют со скоростью тридцать четыре мили в час. Вот так вот, Джефи, - заключил он, - ежели пойдешь когда-нибудь на государственную службу, то, надеюсь, заведешь себе приличный костюм... и, надеюсь, бросишь тусоваться с поэтишками-художничками... Ишь ты, - (в бар вошла кучка девиц), - юные охотницы, интересно - до чего... вот почему детские приюты открыты круглый год. Но охотникам не понравилось, что мы сидим в уголке, тихонько беседуя меж собой, вскоре нас окружили, и вот уже по всему бару горячо обсуждали, где водятся олени, где лучше подниматься на гору, как оно вообще; однако, уяснив, что мы приехали сюда не зверей убивать, а просто лазить по горам, нас сочли безнадежными чудаками и оставили в покое. Выпив винца, мы с Джефи чувствовали себя прекрасно; вместе с Морли мы вернулись в машину и поехали опять, все вверх и вверх, деревья все выше, воздух все холодней, пока, наконец, около двух ночи не было решено остановиться: до Бриджпорта и подножия горной тропы еще далеко, лучше заночевать здесь, в лесу, в спальных мешках. - На рассвете встанем, и вперед. У меня тут черный хлеб с сыром, - сказал Джефи, доставая хлеб и сыр, которые он захватил в последний момент, - и на завтрак хватит, а булгур и прочие лакомства сохраним на завтрашний завтрак на высоте десять тысяч футов. - Прекрас
|
| Аудиокниги | Музыка | онлайн- видео | Партнерская программа |
| Фильмы | Программы | Ресурсы сайта | Контактные данные |
|
Этот день у Вас будет самым удачным! Добра, любви и позитива Вам и Вашим близким!
Грек
|

|
каталог |
