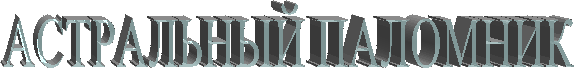|
Эдвард Дансейни
Благословение Пана
Посвящается С.Г.Сайму
Гимн Пану
Трепещи же, если света хочешь,
О, муж! Мой муж!
Появись, внезапно грянь из Ночи
Пана! Ио, Пан!
Ио, Пан! Ио, Пан!
Из-за моря приди,
Из Сицилии и Аркадии!
Точно Вакх, скитаясь, с фавнами, леопардами,
Нимфами и сатирами в свите,
На молочно-белом осле из-за моря прииди!
Ко мне! Ко мне!
Приди с Аполлоном, наряженным к свадьбе,
(пифии и пастушки)
Приди с Артемидой, обутой воздушно.
Омой белоснежные бедра,
О, Восхитительный Бог,
Под луною в лесу,
Поднявшись на мраморный рог!
В сумерках, где бьет янтарный родник,
Пурпур страстной мольбы окуни,
В багряное святилище, в алый омут силков,
В Душу, трепещущую в очах облаков,
Видя буйство твое, воющее сквозь чащу!
Ствол сучковатый древа живого, шумящего
Есть дух и душа, и тело, и разум,
Приди из-за моря!
(Ио, Пан! Ио, Пан!)
Дьявол или Бог, ко мне, ко мне!
Мой муж! Мой муж!
Приди же с трубами, чей пронзителен зов,
Из-за холмов!
Приди с барабанами, чьи рокочут басы,
Из весны!
Приди же с флейтой, приди с трубой!
Разве я не готов?
Я, что жду и терзаюсь, и готов растерзать
Пустоту, где нет даже ветки, чтобы принять,
Мое тело, изнемогшее от объятий пустых,
Сильное, точно у льва, и проворное, как у змеи.
Приди, О, приди!
Я цепенею,
Демонизма возжелав одиноко,
Пронзи мечом мои жалящие оковы,
Всепожирающий, Всепорождающий,
Дай мне знак Открытого Ока,
Воздетый символ тернистой плоти
И слово безумья и тайны!
О, Пан! Ио Пан!
Ио, Пан! Ио, Пан, Пан! Пан, Пан! Пан,
Я человек!
Поступи, как изволишь!
Как способен Великий Бог!
О, Пан! Ио, Пан!
Ио, Пан! Ио, Пан, Пан! Я пробуждаюсь
В змеиных объятьях.
Орлом когтеклювым терзаем;
Боги удалились:
Великие звери приходят, Ио, Пан! Я рожден
Для смерти на роге
Единорога!
Я Пан! Ио, Пан! Ио, Пан, Пан! Пан!
Я твоя самка, я твой самец,
Козел от твоего стада!
Я злато! Я Бог!
Мясо от твоей кости,
От стебля цветок!
Стальными копытами я бью по скалам, мчусь
От упорного солнцестояния к равноденствию
И я беснуюсь, насилую,
Я треплю, разрываю
Вечный мир без конца,
Кукла, дева, менада, муж
Во власти Пана.
Ио, Пан! Ио, Пан, Пан! Пан! Ио, Пан! (Алистер Кроули)
Глава первая ВОЛДИНГСКИЙ
ВИКАРИЙ
В летнем воздухе, в котором огнем
горел боярышник, но почти не раскрывалась роза, висела мясная
муха, и казалась она совершенно неподвижной, так как до того
быстро била крылышками, что ее движений нельзя было ни
сосчитать, ни даже различить взглядом: крошечное, резко
очерченное тельце висело в мареве, взбитом ею самой, над
лужайкой между буковыми деревьями, и викарий, полный, с
тронутыми сединой волосами, именно такой, каким должен быть
человек, вошедший в мирный период жизни и оставивший позади
более важные заботы, наблюдал за мухой, полулежа в плетеном
кресле. Откинувшись на высокую спинку, черная фигура пребывала
в такой же неподвижности, какой достигла, беспрерывно работая
крыльями, муха, однако спокойное выражение лица священника не
соответствовало мучившим его неприятным мыслям. Неожиданно муха
метнулась в сторону, чтобы неподвижно повиснуть в другом месте,
оставив человека в кресле предаваться невеселым раздумьям.
Уже несколько дней, как викария
лишили покоя сомнения, внушившие ему едва ли не страх, потом,
когда сомнения подтвердились, он стал думать, что делать, а
когда понял, что надо делать, у него появилось желание увильнуть
от каких-либо действий или отложить их на потом; одна мысль,
раз за разом прокручиваясь у викария в голове, досаждала ему
неизменным выводом: надо написать епископу. Осознав это, викарий
задумался о другом: «Как отнесется к этому епископ? Будет ли он
во вторник во дворце? Получит ли он письмо быстрее, если я
напишу его сегодня и оно уйдет с воскресной почтой?» В
неподвижном мерцающем свете стали появляться новые насекомые,
которым, постепенно исчезая, уступали место дневные насекомые;
уже темнело под буками и близилось время звучащей с холма
странной мелодии, когда она, пронзая, подобно лунному лучу,
воздух, придает сумеркам нечто неуловимо колдовское, чего, как
стало ясно викарию, как раз и нужно бояться.
В тот день он не стал больше
терять время, поднялся с кресла и зашагал в дом, в маленькую
комнатку, которая называлась кабинетом, чтобы тотчас взяться за
ручку и бумагу. Увидев входящего мужа, жена викария что-то
сказала ему, но не стала задерживать, поняв по выражению его
лица, что тревоги последних нескольких дней, о которых он не
обмолвился с ней ни словом, достигли предела. Писал викарий
торопливо: трудно было взяться за письмо, а уж в словах он
недостатка не испытывал — не сомневаясь в приводимых им фактах,
насколько он сам мог осмыслить их, викарий уже неделю так и сяк
прокручивал в голове фразы, которые теперь выплескивал на
бумагу. По привычному хлопанью дверей и звяканью посуды викарий
понял, что накрывают стол к чаю, однако жена не стала
беспокоить его, пока он не закончил письмо. Вот что он написал
епископу:
Волдинг, Селдхэм, Вилдборо, 10
июня МИЛОРД,
Находясь в весьма затруднительном
положении, я вынужден отнять у Вашей светлости время, дабы
испросить совета и указания. Однако прежде чем изложить факты в
том виде, в каком они стали известны мне, я прошу Вашу
светлость вспомнить, что Волдинг последние шестнадцать или
семнадцать лет не был обычным приходом и что, несмотря на все
мои усилия, я не сумел положить конец распространению
сомнительных мыслей и сомнительных историй, кои, будь они
сочинены в давние времена, могли бы считаться народными
сказками, но даже если сумел, то лишь частично, да и то
относительно якобы воспоминаний стариков. Если быть точным, то
непоправимый вред Волдингу, хотя я не могу назвать ничего
определенного, нанес во время своего краткого пребывания
человек, который называет себя преподобным Артуром Дэвидсоном.
Мне известно, что он был назначен сюда еще во времена
предшественника Вашей светлости, и не мне судить тех, кто
прислал его сюда. Я лишь констатирую тот факт, что после его
исчезновения работа викария в Волдинге сопряжена с великими
трудностями, и эти трудности, какими бы неуловимыми они ни были
для чужого взгляда, не исчезли со временем, отчего я спрашиваю
себя, не рождены ли они в моем воображении.
Милорд, факты таковы. Как только
садится солнце, или чуть раньше, когда солнце скрывается за
горой Вода, на этой горе, с левой стороны (в это время года),
начинает звучать музыка. Похоже, играют на свирели, и одну и ту
же мелодию, однако она неизвестна местным жителям, во всяком
случае, насколько мне удалось установить. Я слышал ее чуть ли
не каждый вечер весной и подряд все десять вечеров в июне.
Впервые, как мне показалось, что-то похожее я услышал зимой,
поздно ночью, однако теперь у меня нет никаких сомнений насчет
нее. Иногда она звучит, когда светит луна. У меня такое
ощущение, будто играют на нашей стороне леса, на вершине горы,
но, возможно, и ниже, на склоне, в лесной тени или в зарослях
собачьего шиповника. Потом мелодия как будто начинает звучать с
другой стороны, постепенно удаляясь. Поначалу я решил, что юноша
при помощи необычной песни зовет к себе девушку. Ничего
подобного, и я сам убедился в этом. Дело не в парочке, ищущей
приют в лесу. Один раз, вечером, я отправился на гору. До меня
пронзительно-ясно доносились звуки свирели, но музыканта нигде
не было видно. Потом я обратил внимание на двух или трех
девушек, шагавших по узкой тропинке, что ведет от деревни на
вершину Волда и дальше на другую сторону. Пока я стоял там,
мелодия послышалась вновь. Потом я увидел еще девушек.
Одни шли по тропинке, другие — не
разбирая дороги. И все направлялись туда, откуда доносилась
мелодия. В какой-то момент три или четыре девушки, свернувшие с
тропинки и пробиравшиеся сквозь вересковые заросли, приблизились
ко мне настолько, что я узнал их. Однако, стоило им заметить
меня, как они немедленно вернулись назад на тропинку и по ней
стали подниматься вверх по направлению к лесу. Не знаю, как
правильно сказать, но когда они увидели меня, то как будто
по-звериному отпрянули и еще быстрее устремились к лесу. Я
постарался как можно подробнее изложить известные мне факты,
хотя и опасаюсь отнять у Вашей светлости слишком много времени;
а теперь, когда все сказано, мне кажется, что я порю горячку на
пустом месте. Могу лишь добавить, что такое происходит
постоянно. Поверьте, Ваша светлость, я знаю, это необычная
мелодия, мне даже в голову никогда не приходило, что музыка
может быть такой и что она может иметь власть, о какой я и не
подозревал, поэтому, Ваша светлость, мне нужна Ваша помощь, как
еще никогда не была нужна.
Покорный слуга Вашей светлости
Элдерик Анрелл
Потом викарий вышел в соседнюю
комнату, где его ждала жена. Чай был еще на столе, вот только
остыли намазанные маслом булочки.
— Чай, верно, слишком настоялся,
милый, — сказала жена. — К тому же, все холодное. Я позову
Марион.
— Нет, нет, — отозвался викарий,
которому было не до чая. — У меня совсем ум за разум зашел. Всё
из-за мелодии, которую не хочешь, а услышишь вечером. Не могу
выкинуть ее из головы. Никак не могу. Вот, написал епископу.
Жена задумчиво взяла письмо в руки
и заглянула в него. Так и есть, письмо адресовано епископу.
— Это юный Томми Даффин, — сказала
она. — И свою свирель он сам вырезал то ли из камыша, то ли из
тростника.
— Томми Даффин, — повторил
викарий. — И в деревне так говорят. Но не мог же Томми Даффин
сам придумать эту мелодию!
Однако жена не отозвалась, занятая
чтением письма. Еще несколько минут прошли в полной тишине.
Потом она сказала:
— Тут в самом начале, дорогой, не
очень хорошо: сумел — не сумел.
— Это важно?
— Да нет. Наверно, нет. Однако
епископу может не понравиться.
Викарий вернулся в кабинет, со
всей возможной аккуратностью внес в письмо изменения, а потом
долго сидел, размышляя, и чем дольше он размышлял, тем яснее
осознавал, что ни к чему беспокоить епископа. Если речь вдет о
семнадцатилетнем юнце Томми Даффине, которого он сам крестил,
едва принял приход, или о каком-нибудь другом парне,
привлекающем внимание глупеньких девиц, то проблемы, о которых
викарий хотел сообщить епископу, не стоят выеденного яйца, тем
более не имеет смысла привлекать к ним внимание епископа. Нет,
письмо епископу — не самый разумный способ вернуть покой своим
мыслям. Вот и жена так думает. Она почти ничего не сказала,
однако, пока не будет полностью согласна с ним, ни за что не
позволит послать письмо. Все же, кто бы ни играл на свирели,
мелодия была необычной. Глядя на исписанный листок бумаги,
викарий находил все более непростительным тревожить епископа; и
им вновь завладела прежняя растерянность. Вошла Марион в
нарядном белом фартучке и привлекла его внимание к домашним
делам.
— Сэр, еще письма будут?
— Нет, Марион. Нет, спасибо.
Марион отправилась в деревню с
запиской для бакалейщика, с письмом мануфактурщику в Селд-хэм и
с собственным письмом, адресованным знакомому юноше в Йоркшир.
А потом, когда небо заполыхало
закатом и на земле сгустились сумерки, когда жара сменилась
прохладой и солнце скрылось за Волдом, ясные и ни на что не
похожие звуки соскользнули с высоты в мерцающую долину, и они
были до того не похожи на все, известное людям, что будто бы
пришли из глубины веков и из земель, о которых человечество даже
не подозревало. Эти звуки были проказливее черного дрозда и
волшебнее всех соловьев вместе взятых и волновали сердце
викария, возбуждая нестерпимые желания, которые он не мог
описать словами, так же как не мог описать словами мучившую его
мелодию. Она завладела им и не желала отпускать. Мало сказать,
что викарий стоял не шевелясь, будто заколдованный, он даже не
дышал. И всеми своими мыслями, всеми своими чувствами, всеми
ощущениями он словно уносился прочь в дальние долины, возможно
даже неземные.
Неожиданно мелодия стихла, и в
вечерней деревне вновь воцарилась тишина, после чего, подобно
неспешной волне, на викария нахлынули ставшие привычными мысли.
Он схватил конверт, торопливо написал на нем адрес: Епископу
Вилденстоунскому, Дворец, Сничестер, — положил письмо в карман,
надел мягкую черную шляпу и побежал на почту.
Глава вторая БЕСЕДА С МИССИС
ДАФФИН
— Августа, я отправил письмо
епископу.
— Ладно, — сказала она.
Чтобы выбрать то или иное имя,
всегда находится причина: память о каком-нибудь славном предке,
тщеславные упования родителей, возможно, высокомерное выражение
на лице самого ребенка; причина есть всегда. Наверное, не без
причины звали Августой и раздобревшую стареющую женщину. Кто
знает...
В тот день больше не говорили ни о
письме, ни о мотивах, побудивших викария написать его. Августа
обратила внимание, что ее муж как будто стал немного спокойнее,
и ей, даже намеком, не хотелось вновь будить его тревоги.
Следующие несколько дней викарий провел не слишком
плодотворно, пытаясь представить ответ епископа. Было
известно, что епископ принадлежит к широко мыслящим людям, и
викарий рассчитывал на его проницательность, в которой отказывал
себе, однако не мог заставить себя не волноваться. Не находя
себе места и не давая отдыха, он считал, сколько часов его
письмо будет ехать от города к городу, пока наутро не окажется в
Сничестере, и сколько времени потребуется епископу на
незамедлительный ответ, чтобы тот дошел до Волдин-га на другой
день, то есть на третий день после отправки его собственного
письма. В расчетах все сходилось лучше некуда.
На другое утро ночные страхи
показались викарию преувеличенными. Отослав письмо, он снял
тяжесть с души, да и солнце светило так ярко, что на накрытом к
завтраку столе все сверкало.
— Схожу-ка я к Даффину, —
сказал викарий.
— Вряд ли он тебе что-нибудь
расскажет, — отозвалась жена.
— Ты уже говорила с ним?
— Не впрямую.
— Ну, конечно, Даффин не из
тех, кто понимает в таких вещах, — сказал викарий. — Все же
спрошу его. Спрошу хотя бы, куда его сын ходит по вечерам.
— Это точно он.
— Странно. Не похоже на Даффинов.
Вскоре после завтрака викарий
надел шляпу, взял ясеневую трость и отправился в сторону
долины, где была ферма, которой Даффины владели, сколько себя
помнили. Викарий спустился по короткой тропинке, по одну сторону
которой издавна рос боярышник, а по другую как-то незаметно
поднялся шиповник; миновал собачью будку; перешел через дорогу,
которую по утрам и вечерам коровы превращали едва ли не в
болото; и, пройдя несколько ярдов через розовый садик, поднялся
на высокое крыльцо старого дома. Отыскав колокольчик в не
успевшей расцвести жимолости, он потянул за заржавевший язычок,
и скрипучий звук пронесся по всему дому, прежде чем колокольчик
в другом конце дома ответил на непривычные звуки; в дверях
появился, не надев пиджак, старший Даффин.
— Доброе утро, Даффин, —
поздоровался викарий.
— Доброе утро, сэр, — ответил
фермер.
— Я пришел спросить, не
дадите ли вы мне еще таких же яиц.
— Конечно, сэр. Конечно. Входите.
Викарий вошел в дом.
— Тех, коричневых, ну да вы
сами знаете, — сказал он.
— Конечно, сэр. Сейчас мои
орпингтоны стали хуже нестись. А сколько вам надо, сэр?
— Ну, полдюжины.
— Всего-то? У меня и две дюжины
наберется. Тем временем они уже переместились в гостиную, и
викарий уселся на софу с черными подушками из конского волоса.
Больше, чем на шесть яиц, он не мог согласиться, потому что ему
вообще не нужны были яйца. Шесть он еще мог принести домой, а
больше — никак.
— Да нет, думаю, шести мне хватит.
— Я мог бы отдать вам две дюжины,
сэр.
— Нет, спасибо, не сегодня.
Как-нибудь в другой раз.
— Ладно, сейчас принесу.
— Спасибо.
Даффин ушел. По доносившимся до
викария голосам и другим звукам он понял, что миссис Даффин
стирает, но ей сообщили о его визите, так что она наверняка не
замедлит привести себя в порядок и выйти к гостю.
О том, сколько стоят яйца, викарий
не спросил: и его не покидало ощущение, что он что-то забыл.
Ждать пришлось долго.
В конце концов Даффин вернулся,
неся в корзиночке шесть яиц.
— Как-нибудь при случае
верните корзинку, сэр. Я взял ее у миссис Даффин. Она пользуется
ею, когда работает в саду.
— Обязательно, — отозвался
викарий.
— Благодарю вас, сэр.
— Кстати, а что поделывает ваш
сын? Удалось найти для него работу?
— Пока помогает на ферме, сэр.
— Ах, помогает на ферме.
— Помогает с коровами и все такое.
Ну и, конечно, скоро сенокос...
— Конечно, конечно.
— Вот так, сэр.
— Нуда, — сказал викарий, —
наверно, он весь день занят.
— Сами знаете, какие эти
мальчишки, сэр.
— Да, да, конечно.
Викарий ни на йоту не приблизился
к интересовавшему его вопросу, однако красный от загара фермер
сам заговорил о том, ради чего викарий пришел к нему.
— Как вечер, так его и след
простыл. Вот сенокос начнется, тогда не погуляет.
— Тогда, конечно, — откликнулся
викарий. — Ведь вы ему не позволите, правильно?
— Если он меня послушает,
сэр.
— В этом возрасте с ними нелегко.
— В наше время нелегко, сэр, —
подтвердил Даффин.
— А если вы уже сейчас прикажете
ему не выходить из дома после захода солнца, может быть, он и
привыкнет понемногу?
— У нас так не принято, сэр,
— сказал Даффин. — Да и бесполезно. Сейчас все хотят жить
по-новому. Все хотят. Вот мой отец, это он оставил мне ферму,
если он видел, что мы бездельничаем, сэр, он ничего не говорил,
только глядел на нас, ну да, всего лишь глядел на нас, сидя на
стуле, а если этого не хватало, то щелкал хлыстом, тот всегда
радом на стене висел, отец с ним на лис охотился, и вот этого уж
точно было достаточно, мы тотчас принимались за дело, стоило нам
услышать его хлыст. А теперь...
— Да уж, в каком-то смысле те
времена были лучше, — прервал его викарий.
— Во всех смыслах.
— И вы думаете, вам не под
силу удержать Томми дома по вечерам? — торопливо спросил
викарий, опасаясь, как бы фермер не заговорил о ценах на хлеб.
— Не под силу, сэр, никак не под
силу, — признался фермер. — Тянет его в горы.
— И что он там делает?
Однако даже заданный впрямую
вопрос не приблизил викария к разгадке, ибо отец Томми сказал:
— Не спрашивайте меня, сэр,
чем они теперь занимаются. Мне он ничего не говорит.
Поняв, что из старшего Даффина
больше ничего не вытянуть, викарий поднялся, рассчитывая уйти,
прежде чем миссис Даффин явится при полном параде. Однако это
ему не удалось, и, едва он взял в руки корзинку, как она вошла в
гостиную, вся сверкая, точнее говоря, сверкая платьем и
гагатовой брошью, как он вспоминал потом. С ней пришел Томми
Даффин, тщательно расчесавший на пробор свои волосы.
«Яблоко от яблони недалеко
падает», — произнес про себя викарий, нередко удивляясь
непохвальным мыслям, мелькающим у него в голове. Однако у Томми
были такие красные щеки, такое круглое и бессмысленное лицо,
такие жирные и блестящие волосы, что поговорка вспомнилась сама
собой.
— Я пришел, чтобы купить еще
ваших вкусных яиц, — сказал он после обмена рукопожатиями.
— Вот и прекрасно, — отозвалась
миссис Даф-фин.
— Боюсь, я помешал вам.
— Ничего страшного, — ответила
она, так как еще не наступило время, когда она стала говорить:
«Что вы, как раз наоборот».
— Так я пойду.
Не тут-то было. Миссис Даффин
спросила викария о здоровье миссис Анрел, после чего
последовала легкая беседа, неспешно, понемногу унесшая с собой
утро; и все это время Томми с отсутствующим выражением лица
просидел в своем парадном костюме.
— Ведь это я крестил его, помните?
— спросил викарий.
-— О да, — отозвалась миссис
Даффин. — Мы обвенчались за год до вашего приезда. Меньше чем за
год.
За этим последовали воспоминания.
Наконец викарий улучил минуту и распрощался, но, едва подхватил
корзинку, как вспомнил, что ее надо вернуть, и в голове у него
неожиданно созрел новый план. А если перед заходом солнца
самому принести корзинку и, слушая болтовню миссис Даффин,
помедлить, чтобы понаблюдать за парнишкой, когда начнет
смеркаться?
Глава третья СВИРЕЛЬ
— Я только что разговаривал с
Даффинами, — сообщил викарий жене. — Непохоже, чтобы это был
юный Томми.
— Так всегда бывает, —
откликнулась миссис Анрел. — Люди делают то, чего от них не
ждут.
— И то верно, — согласился
викарий, размышляя о том, что в то или иное время происходило в
его приходе.
Еще один день миновал, и сумерки
сгустились над деревней и над долиной. В доме викария и вокруг
дома было тихо, но это не останавливало стремительный бег
мыслей священника, непродуктивно кружившихся вокруг одного и
того же: какой будет реакция епископа, и какие шаги он
предпримет для восстановления покоя в приходе, в каких
выражениях ответит на письмо.
Вечером викарий не пошел к
Даффинам, посчитав корзинку недостаточным поводом для второго
визита в течение одного дня. Вместо этого он уселся под вечер в
кресло возле своего дома и, устремив ищущий взгляд на Волд,
стал прислушиваться. Однако среди звуков, наполнявших
золотистый воздух в ожидании колдовского вечера, не было ни
одного, наводившего на мысль о неземном происхождении; из
долины доносились крики, едва различимое бормотание, далекий
серебристый смех; ну и, конечно же, лай собак, блеяние овец,
крик петуха — что-то вроде забора, поставленного человеком
между его домом и молчащими звездами. Так как мелодия звучала не
каждый вечер, то, не слыша ее, Анрел не сомневался, что она
никуда не делась и надо лишь дождаться следующего вечера.
Наутро викарий был
тревожно-молчалив. Не будучи воином по профессии, он
приблизился, причем по собственной воле, к силам, которые
ужасали его. Пусть не Томми Даффин играет по вечерам на
волшебной свирели, все равно викарий понимал, что в долине, где
была ферма Даф-финов, он окажется ближе к Волду, да еще в
пугающий его час.
— Вечером схожу к Даффинам и
отнесу им корзинку, — сказал он жене.
— Я собираюсь к Скегландам,
могу ее захватить.
— Нет. Мне не мешает пройтись.
Убедившись в твердости его
намерения, миссис Анрел больше ничего не сказала. Жена викария
даже обрадовалась, что ее муж решил действовать; сколько бы она
ни молчала, даже мысленно не умея облечь свои опасения в слова,
она понимала, что мелодия, доносившаяся на закате с горы, была
недоброй.
Не в силах дольше медлить, викарий
отправился в путь раньше, чем собирался, и пришел на ферму,
когда солнце еще не достигло Волда. Даффин пригласил его в
гостиную, где миссис Даффин, не отпуская от себя Томми, уже
ждала гостя. Верно, его приметили издалека.
— Я принес корзинку, — сказал
викарий, не делая попытки задержаться. Он знал, что может
целиком положиться на миссис Даффин. Конечно же, она
поинтересовалась насчет яиц. — Превосходные яйца, — ответил
викарий, не уточняя, попробовал ли он хотя бы одно яйцо или съел
уже все шесть.
От яиц перешли к курам, потом к
уходу за ними, потом к жизни вообще, и все это время Даффин
простоял улыбаясь, а Томми, казалось, маялся из-за тесного
белого воротничка и пребывания в четырех стенах. Усевшись,
викарий внимательно слушал миссис Даффин, изредка вставляя
какое-нибудь замечание, как путешественник, привычный
управляться с костром, подкладывает ветку именно туда, куда
нужно. Беседа текла не прерываясь, а солнце тем временем
приблизилось к Волду.
Томми начал ёрзать, выражая
нетерпение. Через некоторое время викарию, наблюдавшему за
миссис Даффин, стало ясно, что она обратила внимание на ёрзанье
сына. Тогда викарий встал, намереваясь раскланяться. Но миссис
Даффин, которая любила посплетничать с викарием даже больше, чем
с кем бы то ни было еще, в любом случае постаралась бы его
задержать, тем более теперь, может быть, с единственной целью —
наказать Томми. Викарий сдался под двойным давлением, а солнце
тем временем опускалось все ниже и ниже.
Теперь речь шла о луке: как его
растить, как готовить, и стоит ли есть его сырым. Через какое-то
время Томми перестал ерзать и словно переменился внешне. Он
сидел с отрешенным видом, отчего лицо у него как будто сделалось
тоньше, щеки побледнели, да глаза, заметил викарий, стали
совершенно другими: они горели таким ненасытным огнем, что
салфеточка под головой юноши и черная софа, которую она
украшала, неожиданно показались викарию нелепыми. «Очень похоже,
что это он», — подумал викарий. Томми был сам на себя не похож.
— Полагаю, полезные свойства
весеннего лука, — сказал викарий, — важнее осуждения соседей.
— Совершенно согласна с вами, сэр,
— отозвалась миссис Даффин, — однако мне всегда было немного
боязно, ведь люди есть люди.
— И они любят осуждать, — не
задумываясь о своих словах, произнес викарий. Томми Даффин сидел
с отрешенным выражением лица, тогда как солнце уже коснулось
вершины Волда, отчего гигантские тени шагнули в долину. То и
дело левая рука Томми тянулась к пиджачному карману, но он
пугливо отдергивал ее.
— Ах, знаете, — продолжала
миссис Даффин, — я полагаю, если хочешь получить хорошие яйца,
лучше всего разводить кохинхинок.
— Вы правы, — согласился викарий.
Он чувствовал, что парень долго не выдержит и тогда его уже
ничем не остановишь, поэтому задал вопрос, который мог попасть в
цель, а мог и не попасть, но все же был лучше, чем ничего. — Что
за свирель у тебя в кармане?
Юноша побелел.
— Нет никакой свирели.
- Ну же, Томми, покажи мистеру
Анрелу, что у тебя там, — вмешалась миссис Даффин.
Воцарилось молчание. Томми замер.
На его лице появилось угрожающее выражение, и Анрел подумал,
что он будет до последнего защищать свой карман. Не произнеся
больше ни слова в сгущающихся сумерках и не меняя выражения
лица, Томми вытащил что-то из кармана.
— Что это, дорогой? — спросила его
мать. Из-за потемневшей дубовой мебели в комнате
казалось темнее, чем должно было
быть сразу после захода солнца.
— Поди ж ты, на такой играют
Панч и Джуди, — сказал Даффин. — Где ты?..
Он умолк, заметив, как изменилось
лицо Анрела. Ужасная догадка осенила викария, который, вопреки
здравому смыслу, проговорил вслух:
— Настоящая свирель Пана.
Глава четвертая ВОЗДУХ БРАЙТОНА
Когда Томми Даффин, соскользнув с
софы, выбежал из гостиной, викарий распрощался и в
сгустившихся сумерках поспешил домой. Стоило ему взглянуть на
свирель Томми, как он сразу понял, что парнишка скорее всего
вырезал ее своими руками, как верно заметила миссис Анрел, из
тростника, который рос на речушке, бежавшей через Волдинг. У
викария даже в мыслях не было, что юноши и девушки посходили с
ума или обратились в язычество. Тем не менее догадка,
мелькнувшая как озарение и тотчас подавленная здравым смыслом,
оставила по себе след, правда почти незаметный, но все же
повлиявший на настроение и мысли викария, так что он поспешил
вверх по склону к себе домой, чтобы оказаться среди привычных
вещей, прежде чем пугавшая его мелодия вновь заполонит долину. И
он успел. Он сидел в своем кабинете и читал монографию об
эолитах, кремниевых осколках, которые представляли собой самые
ранние орудия труда или войны первобытных людей и которые
викарий иногда отыскивал, гуляя по полям, а потом приносил
домой и хранил в специальном ящике, как вдруг послышался
дальний зов, немного приглушенный стенами дома, но усиленный
его собственными мрачными предчувствиями. Викарий забыл о
науке, о камнях и унесся мыслями в смущавшие его покой дали,
где ему не могли помочь ни его образование, ни призвание.
Через некоторое время мелодия
стихла. В своих буйных фантазиях викарий совсем забыл о
времени. Прошло несколько секунд или минут, и мысли викария
понемногу стали возвращаться к нему, ведомые голосами из дальних
садов, привычным пением птиц и тем шумом, который витал над
деревней не только в те годы, что тут жил викарий, но и задолго
до того, как здесь вообще появились люди. Его мысли возвращались
из странствий, узнавая по ним путь, словно это были маяки,
указывающие направление кораблям, которые плывут домой с другого
края света. Викарию захотелось узнать, как мелодия действует на
других людей; неужели ее странное звучание, которое,
по-видимому, было известно в деревне еще до его приезда, уже
никого не удивляет; неужели люди с более простым складом ума,
чем у него, легче сопротивляются ей, или люди, которые ближе к
природе, даже к язычеству, отвечают на ее колдовство с еще
большей готовностью, чем он? Ему вспомнились деревенские
девушки, которые вечером шли на ее зов.
Однако все его размышления ни к
чему не привели.
На Волде было тихо, и понемногу
Анрел вернулся к единственному источнику своего покоя, то есть
к мысли о том, что он передал дело в руки епископа, который куда
проницательнее, образованнее и опытнее, ибо у него на руках
дела сотен приходов, он знает Лондон и (с чего бы это
припомнилось викарию?) Атенеум-клуб, так что он может шире
взглянуть на происходящее в Воддинге и по-мудрому во всем
разобраться. Так как у вивария вновь появилась надежда на то,
что письмо придет с утренней почтой, то он отправился ужинать, а
потом — спать.
Так и случилось: наступило яркое
солнечное утро, и в дом викария было доставлено письмо епископа.
Оно лежало рядом с тарелкой, куда его положила Марион, и на
конверте викарий узнал знакомый почерк. Миссис Анрел
вопросительно посмотрела на мужа.
— Это оно, — сказал викарий.
— Я рада.
Она тоже надеялась на
незамедлительную помощь.
Анрел не стал читать письмо вслух.
Епископ писал:
Дворец, Сничестеру 12 июня
Дорогой мистер Анрел,
Вы были совершенно правы, написав
мне, и надеюсь, так всегда будут поступать священники в моей
епархии, оказавшись в затруднительном или неприятном положении.
Я понимаю Ваши чувства и искренне сочувствую Вам. Мне было
известно, что волдингский приход не из легких и не всегда
быстро подчиняется узде, что нашло подтверждение в Вашем
послании, хотя изложенные в нем факты как будто далеки от этой
темы. Я осознаю, что почти всем священникам в моей епархии
приходится слишком много работать. Скажем прямо, не одну неделю
и даже не год, да и пожаловаться-то невозможно; очень долго,
год за годом, с редким отдыхом, причем, и трудностей у нас
больше, чем у служителей других конфессий, особенно в нашей
епархии. Правда, у нас тоже есть священники, которым приходится
полегче, но есть и другие, с приходами труднее Вашего.
Принимая во внимание особую
сложность работы в Волдинге и то, что у Вас уже давно не было
отпуска, я категорически настаиваю хотя бы на недельном отдыхе
(давно положенном). Знающий человек рассказал мне о бодрящем
воздухе Брайтона, который он особенно порекомендовал для Вас,
считая, что там Вы быстро забудете о последствиях Вашей
чрезмерной работы. Я лично прослежу, чтобы обе службы в то
воскресенье, когда Вас не будет в Волдинге, прошли своим
чередом, но настоятельно рекомендую Вам не возвращаться, пока
Вы не почувствуете себя в состоянии справиться с делами. Позволю
себе дать Вам совет: не думать о приходе во время Вашего
короткого отдыха (конечно же, вместе с миссис Анрел), ибо в Ваше
отсутствие я лично займусь Волдингом. Мой капеллан напишет Вам,
где Вы сможете остановиться в Брайтоне, чтобы в полной мере
насладиться покоем.
Искренне Ваш А. М. Вилденстоун
Дочитав письмо до конца, Анрел
перечитал его еще раз. Только после этого он поднял голову.
— Что он пишет, дорогой? —
спросила миссис Анрел.
— Он пишет...
Голос изменил викарию, и он
замолчал, тупо уставившись на письмо, так что миссис Анрел
пришлось подойти к нему и самой прочитать послание епископа. Ни
голосом, ни выражением лица не выдав своего разочарования, она
воскликнула:
—
Смотри-ка! Он предлага |