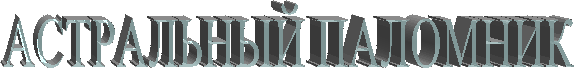|
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąĀąŠą╣
1
ą×ąĮ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąĖąĘčāčćąĖą╗ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ
ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ą░čģ, ąĘąĮą░ą╗ ąĖčģ ą▓ ┬½ą╗ąĖčåąŠ┬╗, ą║ą░ą║, ą▓ą┐čĆąŠč湥ą╝, ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĘąĮą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ. ą×ąĮ
čēą░ą┤ąĖą╗ ąĖčģ, ą┤ą░ąČąĄ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ ąŠą▒ąĄčĆąĄą│ą░ą╗, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą┐ąŠčĆą▓ąĖ ąŠąĮ ą▓
ą│ąŠčĆčÅčćą║ąĄ ą║ą░ą║čāčÄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ąŠč湥ąĮčī čāąČ ąĮą░ąĘąŠą╣ą╗ąĖą▓čāčÄ čüąŠą▒ą░č湊ąĮą║čā, ą║ą░ą║ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ
ą┐ąŠčÅą▓ąĖčéčüčÅ ąĮąŠą▓ą░čÅ, čü ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆąŠą╝ ąĖ ą┐ąŠą▓ą░ą┤ą║ą░ą╝ąĖ. ąÉ ąĮą░ą┤ąĄčÅčéčīčüčÅ,
čćč鹊 ąĮąŠą▓ąĄąĮčīą║ą░čÅ ą▒čāą┤ąĄčé čéčĆčāčüąŠą▓ą░č鹊ą╣, ąĮąĄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą╗ą░ą╣ą║ąĖ ą▓
ąĘą┤ąĄčłąĮąĖčģ ą╝ąĄčüčéą░čģ čüą╗ą░ą▓ąĖą╗ąĖčüčī čģčĆą░ą▒čĆąŠčüčéčīčÄ ąĖ ą░ąĘą░čĆč鹊ą╝, ą┤ą░ ąĖ čģčāą┤čŗčģ, čĆąŠą▒ą║ąĖčģ
ą┐čüąŠą▓ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ą░čģ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüčéčā ąĮąĄ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ. ą×ąĮ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĖ č鹊, čćč鹊 ąĘą░
ą┐ąŠčĆą▓ą░ąĮąĮčāčÄ čüąŠą▒ą░ą║čā, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą╝čēąĄąĮąĖąĄ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░, ąĖ ą║č鹊 ąĘąĮą░ąĄčé,
čāą┤ą░čüčéčüčÅ ą╗ąĖ ąĮą░ čüąĄą╣ čĆą░ąĘ čāą▒ąĄčĆąĄčćčīčüčÅ ąŠčé ą┐čāą╗ąĖ?
ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī čģąŠčéčī ąĖ ą┐čĆąŠčÅą▓ą╗čÅą╗ąĖ
čĆą▓ąĄąĮąĖąĄ ąĖ ą░ąĘą░čĆčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ ąĘą░ą▒čĆąĄą┤ą░ą╗ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ąĖ, čģąŠčéčī ąĖ čģčĆąĖą┐ąĄą╗ąĖ ąŠčé
čÅčĆąŠčüčéąĖ, ąĮąŠ č鹊ąČąĄ čēą░ą┤ąĖą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ąĖ ąĮąĄ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ‑č鹊 čüčéą░čĆą░ą╗ąĖčüčī ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī,
ąĘą░ą║čĆčāąČąĖčéčī ą▓ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ąĄ ąĖ ą┐ąŠą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī ą┐ąŠą┤ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ čģąŠąĘčÅąĖąĮčā. ąØąĄą┤čĹȹĖąĮąĮčŗą╝
čüąŠą▒ą░čćčīąĖą╝ čćčāčéčīąĄą╝ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ąĮą░ čüą╝ąĄąĮčā čüčéą░čĆąŠą╝čā ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čåčā ą┐čĆąĖą┤ąĄčé
čćčāąČąŠą╣, ą▒ąŠą│ ą▓ąĄčüčéčī ą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ąĮčĆą░ą▓ą░ ąĖ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆą░, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣,
ą│ąŠąĮąŠčĆąĖčüčéčŗą╣ ąĖ ą┤čāčĆąĮąŠą╣. ąĪą▓čÅč鹊 ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čāčüč鹊 ąĮąĄ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüčĆąĄą┤ąĖ
ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĮąŠ ąĖ ą▓ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄ. ąĪą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą╝ą░ą╗ąŠ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ ą╗ąĄčüą░čģ čéą░ą║ąĖčģ
ą╝ą░ą╗ąŠą╗čÄą┤ąĮčŗčģ ąĖ ą╝ąĄą┤ąŠą▓čŗčģ ą╝ąĄčüčé, čćč鹊ą▒čŗ ą┐čāčüč鹊ą▓ą░čéčī ąĄą╝čā. ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣
čüą░ą╝ąŠčāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ čüčćąĖčéą░ą╗, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą░ąĮąĮąĄą╣ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄčé ąĮą░ ą▒ąĄą╗ąŠą╝
čüą▓ąĄč鹥, ąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą▓čüąĄą│ą┤ą░, ąŠčłąĖą▒ą░ą╗čüčÅ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą╗čÄą▒ąŠą╣, ą┤ą░ąČąĄ čüą░ą╝čŗą╣
ąĘą░čģčāą┤ą░ą╗čŗą╣ ą┐ąĄčü ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗čüčÅ ąĘą▓ąĄčĆąĄą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤čćąĖąĮčÅą╗čüčÅ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮčŗą╝
ąĘą░ą║ąŠąĮą░ą╝.
ąóąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čéą░ą╣ąĮąŠąĄ čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖąĄ, čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čĆąŠą┤ą░
ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆ ąŠ ą┤ąŠą▒čĆąŠčüąŠčüąĄą┤čüčéą▓ąĄ ąĮą░ ą┐ą░čĆąĖč鹥čéąĮčŗčģ ąĮą░čćą░ą╗ą░čģ, ą┤ąŠčüčéąĖą│ąĮčāčéčŗą╣ ą▓
ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąŠą╣ ą┤čĆąĄą▓ąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą▓ąČąĖą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮąŠąĄ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ
ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čéą░.
ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą▒čŗą╗ čüčéą░čĆčŗą╣, ąĮąĄ čĆą░ąĘ čüčéčĆąĄą╗čÅąĮąĮčŗą╣.
ą¤ąĄčĆą▓čāčÄ ą┐čāą╗čÄ ąŠąĮ ąĘą░čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ąĄčēąĄ ą┐ąĄčüčéčāąĮąŠą╝, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖčģ čü ą╝ą░čéą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ąĖ ąĖąĘ
ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĖ. ą×ąĮą░ čüąĖą┤ąĄą╗ą░ ą▓ ą╝čŗčłčåąĄ čā ą┐čĆą░ą▓ąŠą╣ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ąĖ, ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čāąČąĄ ąŠą▒ą▓ąŠą╗ąŠą║ą╗ą░čüčī
ąČąĖčĆąŠą╝ ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗ą░ ą╗ąĖčłčī ą▓čæčüąĮą░ą╝ąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ, ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╣, ą▓ąŠąĮčÄčćąĖą╣
ąĖ ą┐ąŠą╗čāąŠą▒ą╗ąĄąĘą╗čŗą╣, ą▓čŗą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ čüą▓ąĄčé ą▒ąŠąČąĖą╣. ą×čé ą┐čāą╗ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄą╗ą░ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ą░,
čüą┐ąĖąĮą░; čéčāą│ą░čÅ, ąĮąŠčÄčēą░čÅ ą▒ąŠą╗čī čüčéčĆąĄą╗čÅą╗ą░ ą▓ ą╗ą░ą┐čā, ą╝ąŠąĘąČąĖą╗ąŠ ą┐ąŠą┤čāčłąĄčćą║ąĖ
ą┐ą░ą╗čīčåąĄą▓. ąŚą▓ąĄčĆčī, ą║ąŠą▓čŗą╗čÅčÅ ąĮą░ čéčĆąĄčģ, ą▒čŗčüčéčĆąŠ čāčüčéą░ą▓ą░ą╗, čćą░čüč鹊 čüą░ą┤ąĖą╗čüčÅ
ą┐ąŠ‑č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąŠą┤ąĖąĮčā ąĖ ą║ą░čćą░ą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą╝ąŠčĆą┤ąŠą╣ ą▒ąŠą╗čīąĮčāčÄ ą╗ą░ą┐čā, ą▒čāą┤č鹊
ą┤ąĖčéčÅ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüą║ąŠčĆąŠ ąĮą░ą│čāą╗ąĖą▓ą░ą╗ ąČąĖčĆ, ąĖ ą▒ąŠą╗čī čāčéąĖčģą░ą╗ą░ ą┤ąŠ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą╣ ą▓ąĄčüąĮčŗ.
ąÆč鹊čĆąŠą╣ čĆą░ąĘ ąĄą│ąŠ čüčéčĆąĄą╗čÅą╗ ą╝ą░ą╗čīčćąĖčłą║ą░. ąĪ
ąĖčüą┐čāą│čā ą▓ą╗ąĄą┐ąĖą╗ ąĘą░čĆčÅą┤ ą┤čĆąŠą▒ąĖ ą┐ąŠčćčéąĖ ą▓ čāą┐ąŠčĆ ąĖ čāą▒ąĄąČą░ą╗. ąöčĆąŠą▒čī ąĖąĘąŠčĆą▓ą░ą╗ą░ ą║ąŠąČčā
ąĮą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ, ą▓ ą║ą╗ąŠčćčīčÅ čĆą░ąĘąĮąĄčüą╗ą░ čāčģąŠ, ąĮąŠ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓čĆąĄą┤ąĖą╗ą░.
ąĀą░ąĮą░ ąĘą░ąČąĖą▓ą░ą╗ą░ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ. ą×ąĮ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąĘą░ą╗ąĖąĘčŗą▓ą░čéčī ąĄąĄ ąĖ, ąĘą░č湥čĆą▓ąĖą▓ąĄą▓čłąĖą╣,
ą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣, ą┐ąŠą╗čāą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╣, ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ ą▓ ąĘąĖą╝čā čłą░čéčāąĮąŠą╝. ą×ąĮ ą┤ą░ą▓ąĖą╗ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╝
čüąŠą▒ą░ą║ ŌĆō č鹊ą│ą┤ą░ ą┐ą░čüąĄą║ ąĖ ą│ą░čĆąĄą╣ ą▓ ą┐ąŠą╝ąĖąĮąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, ŌĆō ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘ
ąĘą░ą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĮą░ čüą║ąŠč鹊ą║ą╗ą░ą┤ą▒ąĖčēąĄ, ąĮąŠ ą▓ čéčĆčāą┐ąĮčāčÄ čÅą╝čā ąĮąĄ čüą┐čāčüą║ą░ą╗čüčÅ: čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝
ą│ą╗čāą▒ąŠą║ą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī. ą×ą▒ąĖą╗ąĖąĄ ą┐ąĖčēąĖ ą▒čŗą╗ąŠ čĆčÅą┤ąŠą╝, čüč鹊ąĖą╗ąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüčŖąĄčģą░čéčī ąĮą░
ąĘą░ą┤ąĮąĖčåąĄ ą╝ąĄčéčĆą░ ąĮą░ č湥čéčŗčĆąĄ ą▓ąĮąĖąĘ, ąĮąŠ čüčŗč鹊čüčéčī ą│čĆąŠąĘąĖą╗ą░ čüą╝ąĄčĆčéčīčÄ. ąóąŠčēąĖą╣ ąĖ
čüą▓ąĖčĆąĄą┐čŗą╣, ąŠąĮ ą┐čĆąŠčüąĖąČąĖą▓ą░ą╗ čā čÅą╝čŗ ąĮąŠčćčī ąĖ čü čĆą░čüčüą▓ąĄč鹊ą╝, čāą▓ą╗ąĄą║ą░čÅ ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣
ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĄąĮčüą║ąĖčģ čüąŠą▒ą░ą║, čĆą░čüą┐ą░čģąĖą▓ą░ą╗ čüąĮąĄą│ą░ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ą╗ąĄčüą░. ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĮą░čüčéąĖą│ą░ą╗ąĖ
ąĄą│ąŠ, ą┤čĆą░ą╗ąĖ ąĘą░ ┬½čłčéą░ąĮčŗ┬╗, čāč鹊ą┐ą░čÅ, ą┐čŗčéą░ą╗ąĖčüčī ąŠčéčĆąĄąĘą░čéčī ą┐čāčéčī ą┐ąŠ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąŠą╝čā
čüąĮąĄą│čā, ąŠąĮ čłąĄą╗, ąĮąĄ ąŠą▒čĆą░čēą░čÅ ąĮą░ ąĮąĖčģ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖčÅ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐čāčēąĄ čĆą░ąĘąŠąĘą╗ąĖčéčī ąĖ
čāą▓ą╗ąĄčćčī ą┐ąŠą┤ą░ą╗čīčłąĄ ą▓ ą╗ąĄčü. ąóą░ą╝ ąŠąĮ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąĖ čĆąĄąĘą║ąŠ ą▒čĆąŠčüą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ąĮąĖčģ,
ą┤ą░ą▓ąĖą╗ ąŠą┤ąĮčā‑ą┤ą▓čāčģ ŌĆō ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą▓ą╝ąĖą│ čāą▒ąĄą│ą░ą╗ąĖ ŌĆō ąĖ ąŠčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ
ąĘą░ą▓čéčĆą░ą║ą░čéčī. ąöą▓ą░ąČą┤čŗ ąĘą░ čŹčéčā čüčāčĆąŠą▓čāčÄ ąĘąĖą╝čā ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ čāčüčéčĆą░ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą▓čŗ,
ą┐čŗčéą░ą╗ąĖčüčī ą▓čŗą│ąĮą░čéčī ąĖąĘ čéčĆčāčēąŠą▒ ąĮą░ ą╗čāą│ąŠą▓ąĖąĮčŗ, ą│ą┤ąĄ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ čüąĮąĄą│čā ąĖ ą│ą┤ąĄ ą╝ąŠąČąĄčé
ą┤ąĄčƹȹ░čéčī čüąŠą▒ą░ą║ą░, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠąĮ čāą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣ ąĄčēąĄ ą│ą╗čāą▒ąČąĄ ą▓
ą╗ąĄčüą░, ą┐čāčéą░ą╗ čüą╗ąĄą┤čŗ.
ąóąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ čéčĆąĄčéčīčÄ ą┐čāą╗čÄ ą▓ ą╝čÅą║ąŠčéčī
ąĘą░ą┤ąĮąĄą╣ ąĮąŠą│ąĖ. ą¤čāą╗čÅ ą┐čĆąŠčłą╗ą░ ąĮą░ą▓čŗą╗ąĄčé, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą║čĆąŠą▓čī ąĮą░ čüąĮąĄą│čā ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖą╗ą░ ą▓
ą╗čÄą┤čÅčģ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ąĮąĄč湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĘą░čĆčé. ąøąĖčłčī ąŠčé ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ ąŠąĮ ą╝ąŠą│
ą│ąĮą░čéčī ą┤ąŠą▒čŗčćčā čéą░ą║, ą║ą░ą║ ą│ąĮą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ą▓ č鹊čé čĆą░ąĘ. ąÆčüčÄ ąĮąŠčćčī ąŠąĮ ą║čĆčāąČąĖą╗ ą┐ąŠ
ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ą░ą╝, ąŠčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░čÅčüčī, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą╗ąĖąĘą░čéčī ą║čĆąŠą▓ąŠč鹊čćą░čēčāčÄ čĆą░ąĮčā. ąś
ą┐ąŠą▒ąĄą┤ąĖą╗ ŌĆō čāčłąĄą╗.
ąś ą▓čüčÄ čéčā ą┤ąŠą╗ą│čāčÄ ąĘąĖą╝čā čā ąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄą╗ą░
ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ, ą┤ąĄčéčüą║ą░čÅ čĆą░ąĮą░ čā ą┐čĆą░ą▓ąŠą╣ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ąĖ.
ą¦ąĄčéą▓ąĄčĆčéą░čÅ ą┐čāą╗čÅ ą┤ąŠčüčéą░ą╗ą░ ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĄą╣
ą▓ąĄčüąĮąŠą╣. ąĪąŠą│ąĮą░ąĮąĮčŗą╣ ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ čüąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ, ąŠąĮ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ čüčćąĖčéą░ą╗ ąĄąĄ
ą┐čĆąŠą┐ą░ą▓čłąĄą╣. ąĢą│ąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅ, čģąŠčéčÅ ąĘą┤ąĄčüčī ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ą░čüąĄą║ąĖ, ą╗čÄą┤ąĖ, čüąŠą▒ą░ą║ąĖ,
ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ, ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĄą│ąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠąĮ ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮąŠ ąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╗,
ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗čÅčÅ ą╝ą░ą╗ąĖąĮąŠą╣, čüą╝ąŠčĆąŠą┤ąĖąĮąŠą╣, čĆąĄąČąĄ ą┤čĆą░ą╗ ą╗ąŠčüąĄą╣ ŌĆō čāąČąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠ ąĘčāą▒ą░ą╝
ą▒čŗą╗ąĖ ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ čüą░ą╝čåčŗ ąĖ čüą░ą╝ą║ąĖ, ą┤ą░ ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠ čüąĖą╗ą░ą╝. ąōą╗ą░ą▓ąĮąŠą╣ ą┐ąĖčēąĄą╣ ą╗ąĄč鹊ą╝
ą▒čŗą╗ ą╝ąĄą┤, ą▓ąŠčüą║ ąĖ čüą░ą╝ąĖ ą┐č湥ą╗čŗ. ą×ąĮ ąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╗ čüą▓ąŠčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ, čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ ą┤ą░ąĮčī ąĖ
ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ą╝ąĄčéčŗ ŌĆō ┬½ąŠčģčĆą░ąĮąĮčŗąĄ ą│čĆą░ą╝ąŠčéčŗ┬╗, ąĮą░čåą░čĆą░ą┐ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░
čüčāčģąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗčģ ąĄą╗čÅčģ ąĖ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╝ ąŠčüąĖąĮąĮąĖą║ąĄ. ąÉ ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą║ čüčéą░čĆąŠčüčéąĖ ąŠąĮ ą▒čŗą╗
čĆąŠčüč鹊ą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čüą░ąČąĄąĮąĖ, ąĄčüą╗ąĖ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ąĘą░ą┤ąĮąĖąĄ ą╗ą░ą┐čŗ, č鹊 ąĄą│ąŠ ą╝ąĄčéčŗ
ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ą║čĆąĄą┐ąŠčüčéčī ąĖ ą▓ąĄčü ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ąŠą║čĆčāą│ąĄ. ąĢčüą╗ąĖ, čüą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī, ąĘą░ą▒čĆąĄą┤ą░ą╗ ą║ą░ą║ąŠą╣
ą╝ą░ą╗ąŠą╗ąĄčéąĮąĖą╣ ąĮąĄčāčć‑čłą░ą╗ąŠą┐ą░ą╣, č鹊 ą▓čŗą┐čĆąŠą▓ą░ąČąĖą▓ą░ą╗čüčÅ čü čéčĆąĄčüą║ąŠą╝ ąĖ ąĮą░ą┤ąŠą╗ą│ąŠ
ąĘą░ą▒čŗą▓ą░ą╗ ą┤ąŠčĆąŠą│čā ą║ ą┐ą░čüąĄą║ą░ą╝.
ąØą░ ąĘąĖą╝čā ąŠąĮ ą╗ąŠąČąĖą╗čüčÅ ą▓ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│čā, ąŠčéčĆčŗčéčāčÄ
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤ ą▓ ąĘą░ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĮąŠą╣ ąĖ čéčĆčāą┤ąĮąŠą┐čĆąŠčģąŠą┤ąĖą╝ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ čéą░ą╣ą│ąĖ.
ąĪčÄą┤ą░ ąĮąĄ ąĘą░ą▒čĆąĄą┤ą░ą╗ąĖ ąĮąĖ ą╗čÄą┤ąĖ, ąĮąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ; čéą░ą╣ą│ą░ ąĮą░ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą┤ąĄčüčÅčéą║ąĖ
ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą▒čŗą╗ą░ čüčāčģąŠčüč鹊ą╣ąĮą░čÅ, ą╝ąĄčĆčéą▓ą░čÅ. ąÜąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čüąĖą▒ąĖčĆčüą║ąĖą╣ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤
ąĮą░čćąĖčüč鹊 čüą▓ąĄą╗ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčŗąĄ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤ąĖ ą║ąĄą┤čĆą░č湥ą╣ ąĖ ąĄą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓, ąĖčüčüčāčłąĖą╗ ąĖčģ ąĮą░
ą║ąŠčĆąĮčÄ, ą▓ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠą┤ą░ čāąĮąĖčćč鹊ąČąĖą▓ čģą▓ąŠčÄ ąĮą░ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīčÅčģ. ą×čéčüčÄą┤ą░ čāčłą╗ąĖ ąĘą▓ąĄčĆąĖ,
čāą╗ąĄč鹥ą╗ąĖ ą┐čéąĖčåčŗ, ąĖ ą╗ąĖčłčī ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ ą▓ ą╝ąĄčĆčéą▓čāčÄ čéą░ą╣ą│čā ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠąČąĄčüčéą▓ąĄ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗ąĖčüčī
ą┤čÅčéą╗čŗ ŌĆō ą┤ąŠą▒čŗą▓ą░čéčī č湥čĆą▓čÅ‑ą┐ąŠą┤ą║ąŠčĆąĮąĖą║ą░. ą¤ąŠą╗čāą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╣ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ ą┐ąŠ
čüčāčģąŠčüč鹊ą╣ąĮąŠą╣, ą┐čāčüč鹊ą╣, ą║ą░ą║ ą▒čāą▒ąĄąĮ, čéą░ą╣ą│ąĄ‑čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║čā, ąĄą╗ čéčĆą░ą▓čā, čÅą│ąŠą┤čŗ
ąĖ ą║ąŠčĆąĮąĖ ŌĆō ą┐ąĖčēčā ą╗ąĄą│ą║čāčÄ ąĖ ąĮąĄ ąŠč湥ąĮčī‑č鹊 ą┐čĆąĖą│ąŠą┤ąĮčāčÄ, čćč鹊ą▒čŗ ąĮą░ą│čāą╗čÅčéčī ąČąĖčĆčā
ąĮą░ ąĘąĖą╝čā. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąĮąĄ ą┐ąŠą║ąĖąĮčāą╗ ą▒čŗ čüą▓ąŠąĄą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ, ąĮąĄ ąĮą░čćąĮąĖčüčī
čéčāčé ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖąĄ ąĖ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮčŗąĄ ą┐ąŠąČą░čĆčŗ. ą¤čĆąŠčłą░čéą░ą▓čłąĖčüčī ą╗ąĄč鹊 ąĮą░ čćčāąČą▒ąĖąĮąĄ, ąŠąĮ
ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ čüą▓ąŠčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĖ ąĮąĄ čāąĘąĮą░ą╗ ąĄąĄ. ą©ąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĖ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ą╝ąĄčüčéą░čģ
ą▓čŗą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ čéą░ą║, čćč鹊 ąĖčüč湥ąĘą╗ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ąŠą▒ąĖčéą░č鹥ą╗ąĖ ŌĆō ą╝čŗčłąĖ. ąØą░ ą┐ąŠąČą░čĆąĖčēąĄ čü
č湥čĆąĮčŗą╝ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ąĖ ą┐ąĮčÅą╝ąĖ ą▓ąĄč鹥čĆ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ ąĘąŠą╗čā ąĖ ą┐čŗą╗ąĖą╗ ąĄčÄ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝čā
ą▒ąĄą╗ąŠą╝čā čüą▓ąĄčéčā. ąś ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąŠąĮ ą▓čŗčĆčŗą╗ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│čā.
ąĪą┐čāčüčéčÅ ą│ąŠą┤, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ ą│ą░čĆčÅčģ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąĖčüčī
ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ąŠčüąĖąĮąĮąĖą║ąĖ, čüčéą░ą╗ąĖ ąĘą░čģąŠą┤ąĖčéčī ą╗ąŠčüąĖčģąĖ, ą┐ąŠąĮąĄą╝ąĮąŠą│čā ąĮą░čćą░ą╗ąĖ
ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░čéčīčüčÅ ąĘą░ą╣čåčŗ, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ąŠčéą║čāą┤ą░‑č鹊 čģą╗čŗąĮčāą╗ąŠ ą▓ąŠčĆąŠąĮčīąĄ. ąĪčéą░ąĖ čŹčéąĖčģ
ą┐čéąĖčå ąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ą┤ ąĘąĄą╝ą╗ąĄą╣ ŌĆō ąĖąĘčāčĆąŠą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣, ąŠą▒ąŠąČąČąĄąĮąĮąŠą╣, ąĖ ą║čĆąĖą║ ąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ
čüą╗čŗčłąĮąŠ ąĘą░ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą▓ąĄčĆčüčéčŗ.
ą¤ąŠč鹊ą╝ ą│ą░čĆąĖ ą▒čāčĆąĮąŠ ąĘą░čĆąŠčüą╗ąĖ
ą║ąĖą┐čĆąĄąĄą╝‑ą╝ąĄą┤ąŠąĮąŠčüąŠą╝, ąĖ čüą║ąŠčĆąŠ ąĮą░ ąĘą░ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠčüčéčĆą░ą┤ą░ą╗čīąĮąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ
ąĘą▓ąĄčĆčÅ, ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ąĄąĄ ą╝ąĄčüčéą░čģ, ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ ą┐ąŠą╗č鹊čĆą░ ą┤ąĄčüčÅčéą║ą░ ąĖąĘą▒čāčłąĄą║ čü
ą┐ą░čüąĄą║ą░ą╝ąĖ, ąĖ čü ą║ą░ąČą┤čŗą╝ ą│ąŠą┤ąŠą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĖčģ ą┐čĆąĖčĆą░čüčéą░ą╗ąŠ, čĆą░čüčłąĖčĆčÅą╗ąĖčüčī
ą╗ąĄą▓ą░ą┤čŗ čü čāą╗čīčÅą╝ąĖ, ąĮą░čéą░ą┐čéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī čéčĆąŠą┐čŗ ąĖ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖ, ąŠčéą▓ąŠąĄą▓čŗą▓ą░čÅ čā ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ
ąČąĖąĘąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ. ąØąŠ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┐ą░čüąĄą║ą░ą╝ąĖ, čü ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčéą▓ąŠą╝ ąŠčé
čüąŠą▒ą░ą║ ąĖ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĮą░čüčéą░ą╗ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čéąĮčŗąĄ, ą╝ąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░. ąÆčüąĄ ą╗ąĄč鹊 ąŠąĮ
ą║ąŠčĆą╝ąĖą╗čüčÅ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┐č湥ą╗, ą║ą░ą║ ąĖąĘą┤čĆąĄą▓ą╗ąĄ ą┐ąŠą▓ąĄą╗ąŠčüčī ą▓ ąĄą│ąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄąČčīąĄą╝ čĆąŠą┤čā, ą░
ąĮą░ ąĘąĖą╝čā ą╗ąŠąČąĖą╗čüčÅ ą▓ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│čā.
ąØąŠ ą┐čĆąŠčłą╗čŗą╝ ą╗ąĄč鹊ą╝ ąĖ ąĮąĄą┐ąŠą┤ą░ą╗ąĄą║čā ąŠčé
ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĖ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąĖčüčī ą╗čÄą┤ąĖ, ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ čüą╝ąĄą╗ąŠ, ą┐ąŠ‑čģąŠąĘčÅą╣čüą║ąĖ čüčĆčāą▒ąĖą╗ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣
ą┤ąŠą╝, ą▒ą░ąĮčÄ, ą▓čŗą║ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ąŠą╝čłą░ąĮąĖą║, čĆą░čüčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ ą┐ą░čüąĄą║čā ąĖ čāąĄčģą░ą╗ąĖ. ą×čüčéą░ą╗čüčÅ
č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą┤ąĖąĮ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, čü čüąŠą▒ą░ą║ąŠą╣ ąĖ ą╝ąŠč鹊čåąĖą║ą╗ąŠą╝. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘ
ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ ą║ ą┐ą░ą╗ą░čéą║ąĄ, ąŠą▒ąĮčÄčģąĖą▓ą░ą╗ čüą▓ąĄąČąĖąĄ ą┐ąĮąĖ, ą┐ąŠą▓ą░ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╗ąĄčüąĖąĮčŗ ąĖ ąŠčēčāčēą░ą╗
ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčéą▓ąŠ. ąÜą░ąČą┤čŗą╣ čĆą░ąĘ ąĄą│ąŠ ą▒čĆą░ą╗ą░ čüąŠą▒ą░ą║ą░, ą╗čÄą┤ąĖ ą▓čŗčüą║ą░ą║ąĖą▓ą░ą╗ąĖ čü
čĆčāąČčīčÅą╝ąĖ, ą┐ą░ą╗ąĖą╗ąĖ ąĮą░čāą│ą░ą┤ ą▓ąŠ čéčīą╝čā ąĖ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░ą╗ąĖčüčī. ąØąŠ čüąŠą▒ą░ą║ą░, ąĮąĄ ąĘąĮą░ą▓čłą░čÅ
ą╝ąĄčüčéąĮčŗčģ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą▓, ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĄą│ąŠ ą┤ąŠ čüą░ą╝ąŠą│ąŠ čāčéčĆą░. ą×ąĮ ą┤čĆą░ąĘąĮąĖą╗ ąĄąĄ ąĖ,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮą░ą┤ąŠąĄą┤ą░ą╗ą░ ąĖą│čĆą░, čāčģąŠą┤ąĖą╗ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĄąĮąĮčŗą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗
čüąĄą▒čÅ ąČą░ą╝ą║ąĮčāčéčī ąĘą░ ┬½čłčéą░ąĮčŗ┬╗, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čāą▒ąĄą│ą░ą╗, ą┤ąĄą╗ą░čÅ ą┐ąĄčéą╗ąĖ.
ąĪąŠą▒ą░ą║ą░, čü ąĘą░ą▒ąĖčéčŗą╝ąĖ čłąĄčĆčüčéčīčÄ ąĮąŠčüąŠą╝ ąĖ ą┐ą░čüčéčīčÄ, čéčāčé ąČąĄ č鹥čĆčÅą╗ą░ čüą╗ąĄą┤.
ą¤ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüąĄą┤ą░ ąŠąĮ ą┐ąĄčĆąĄąĮąĄčü ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ. ąæąĄčĆą╗ąŠą│ą░ ą▒čŗą╗ą░
ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆą░čģ ą▓ čéčĆąĄčģ ąŠčé ąĖąĘą▒čŗ, čüčĆąĄą┤ąĖ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ą░ ąĖ ą╗ą░ą▒ąĖčĆąĖąĮč鹊ą▓ ąĖąĘ
čüčāčģąŠčüč鹊čÅ, ąĮąĄą┐čĆąŠčģąŠą┤ąĖą╝čŗčģ ą┤ą╗čÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąŠąĮ ąĘą░ą╗ąĄą│ ą▓ąŠą▓čĆąĄą╝čÅ.
ąÆąĄčüąĮąŠą╣ ąČąĄ, ą╝ą░čÅčüčī ąŠčé ą▒ąŠą╗ąĖ ą▓ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ąĄ, ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗ ą▓ ąŠą▒čģąŠą┤
čüą▓ąŠąĄą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ. ąÆ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░čģ ąĄčēąĄ ą╗ąĄąČą░ą╗ čüąĮąĄą│, čéčĆą░ą▓ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ‑č鹊ą╗čīą║ąŠ
ą┐čĆąŠą▒ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ čüąŠą╗ąĮčåąĄą┐ąĄą║ą░čģ, ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĄą╣ čÅą│ąŠą┤čŗ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ŌĆō ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮą░čÅ
ą▓ąĄčüąĮą░. ąØą░ ą│ą░čĆčÅčģ ąČąĄ čéčĆą░ą▓čŗ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą┤ąŠčüčéą░ą╗čī. ąóą░ą╝ čüąĄą╣čćą░čü ą┐ą░čüą╗ąĖčüčī čüąŠčģą░čéčŗąĄ čü
č鹥ą╗čÅčéą░ą╝ąĖ ŌĆō ą┐ąĖčēą░ ą╗ąĄą│ą║ą░čÅ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮą░čÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čüą┐čÅčćą║ąĖ. ąØąŠ ąĮąĄą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ąŠčé
ą║čĆąŠą╝ą║ąĖ ą│ą░čĆąĖ, ą▓ ą┐ąĖčģč鹊ą▓ąŠą╝ čéčĆčāčēąŠą▒ąĮąĖą║ąĄ, ąŠąĮ ąĮą░ą▒čĆąĄą╗ ąĮą░ ą▓čüą┐čāčģčłčāčÄ čéčāčłčā ą╗ąŠčüčÅ.
ąŻą┤ą░čćą░ ą▒čŗą╗ą░ čĆąĄą┤ą║ą░čÅ, ą┐ąŠą┤ą║ąĖčüčłąĄąĄ ą╝čÅčüąŠ ą▓ąŠąĘą▒čāąČą┤ą░ą╗ąŠ ąČąŠčĆ ąĖ čüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ čüą║ąŠčĆąĄąĄ
ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĖčéčīčüčÅ ąŠčé ąĘą░čüčéą░čĆąĄą╗ąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĖ.
ąØąĄą┤ąĄą╗čÄ ąŠąĮ ąČąĖą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ čéčāčłąĖ. ąØą░ąČčĆą░ą▓čłąĖčüčī,
čāą▒čĆąĄą┤ą░ą╗ ą║ ą║čĆą░čÄ ą│ą░čĆąĖ, ą│ą┤ąĄ čüč鹊čÅą╗ą░ ąĖąĘą▒ą░ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ čüąŠčüąĄą┤ą░, ą┐čĆčÅčéą░ą╗čüčÅ ą▓ čćą░čēąĄ
ąĖ ą┐ąŠą┤ąŠą╗ą│čā ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗. ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ čü čāčéčĆą░ ą┤ąŠ ąĮąŠčćąĖ ą║ąŠą┐ąŠčłąĖą╗čüčÅ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┤ąŠą╝ą░,
čĆčāą▒ąĖą╗ ą╗ąĄčü, čüčéčĆąŠą│ą░ą╗, ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓čŗčüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ ą┐ą░čüąĄą║čā. ą¢ą░ąČą┤ą░ ą┐ąŠąĄčüčéčī ą╝ąĄą┤čā ą▒čŗą╗ą░
ą▓ąĄą╗ąĖą║ą░, ąĮąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ą▓ čāą╗čīčÅčģ ą┐ąŠčćčéąĖ ą┐čāčüč鹊. ąśąĘčĆąĄą┤ą║ą░ čüąŠą▒ą░ą║ą░
čćčāčÅą╗ą░ ąĄą│ąŠ, ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ą░ ą╗ą░ą╣, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ąŠąĮ čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ čāčģąŠą┤ąĖą╗ čüąŠ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą┐ąŠčüčéą░
ą║ čéčāčłąĄ.
ąĪą┐čāčüčéčÅ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĮąĄą╣, ą╗ąĄąČą░ ąĮą░ ą▒čāą│čĆąĄ
ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ąĖąĘą▒čŗ, ąŠąĮ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗, ą║ą░ą║ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ą▓ čüąŠą▒ą░ą║čā, ą▓ąĘčÅą╗ ą▓ąĄą┤čĆąŠ ąĖ
ą┐ąŠčłąĄą╗ ą▓ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĖ. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī čāąČąĄ ą┐čĆąĖą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╗čüčÅ ąĘą░čēąĖčēą░čéčī čüą▓ąŠčÄ
ą┤ąŠą▒čŗčćčā, ąĮąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ąĮąĄ ą┤ąŠčģąŠą┤čÅ ą┤ąŠ ąĮąĄąĄ, ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ, ą┐ąŠą▒čĆčÅą║ą░ą╗ ą▓ąĄą┤čĆąŠą╝
ą┐ąŠ ąĘą░ą▓ą░ą╗čā ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ą░, ąĖ ą▓ą┤čĆčāą│ čéą░ą╝ ą▓čüą┐čŗčģąĮčāą╗ąŠ ą┐ą╗ą░ą╝čÅ. ąÆąĄč鹥čĆ čüčĆą░ąĘčā
ą┐ąŠą┤čģą▓ą░čéąĖą╗ ąĄą│ąŠ, čĆą░ąĘą┤čāą╗, čĆą░ąĘą╝ąĄčéą░ą╗ ą┐ąŠ ąĖčüčüąŠčģčłąĄą╝čā ą┤ąĄčĆąĄą▓čā, ąĖ ą▓ą░ą╗ ąŠą│ąĮčÅ
čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ ą│ą╗čāą▒čī čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░, ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā ąŠčé ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĖ,
ą┐čĆčÅą╝ąŠ ą║ ą╝ąĄčüčéčā, ą│ą┤ąĄ ą╗ąĄąČą░ą╗ą░ ą╗ąŠčüąĖąĮą░čÅ čéčāčłą░. ą¤ąŠą│ąŠą┤ą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĄą┤ą┤ąŠąČą┤ąĄą▓ą░čÅ, čü
čüąĄą▓ąĄčĆą░ ą│ąĮą░ą╗ąŠ ąĮąĖąĘą║ąĖąĄ čéčāčćąĖ, ąĖ ą║ ą▓ąĄč湥čĆčā ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ čģą╗čŗąĮčāčéčī ą▓ąĄčüąĄąĮąĮąĖą╣
ą╗ąĖą▓ąĄąĮčī.
ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī čüčĆą░ąĘčā ąČąĄ ąĘą░ą▒čŗą╗ ąĖ ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąĄ, ąĖ
ąŠ ąĮąĄą┤ąŠąĄą┤ąĄąĮąĮąŠą╣ čéčāčłąĄ, ąĖ ąŠ č鹊ą╝, čćč鹊 ąĮąĄ čāą╗ąĄą│ą╗ą░čüčī ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗čī ą▓ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ąĄ.
ą×ą│ąĮčÅ ąŠąĮ ą▒ąŠčÅą╗čüčÅ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĮą░ čüą▓ąĄč鹥, ą▒ąŠą╗čīčłąĄ, č湥ą╝ ąŠą▒ą╗ą░ą▓ ąĖ čüčāčģąĖčģ
ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖčģ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓. ą×ąĮ ą▒čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą▓ą┤ąŠą╗čī ąŠą┐čāčłą║ąĖ ą│ą░čĆąĖ, ą║čĆčāčłą░ ą▓ą░ą╗ąĄąČąĮąĖą║ ąĖ
ą┐ąĄčĆąĄą╝ą░čģąĖą▓ą░čÅ č湥čĆąĄąĘ ą▓ąĄčüąĄąĮąĮąĖąĄ čĆąĄčćčāčłą║ąĖ. ąŚą░ą┐ą░čģ ą┤čŗą╝ą░ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ ąĄą│ąŠ, ąĖ
ą┐ąŠą║ą░ ąĮą░ą│ąŠąĮčÅą╗ čŹč鹊čé ąĘą░ą┐ą░čģ, ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čé ą┐ąŠą┤čüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ŌĆō ą▒ąĄąČą░čéčī. ąÆą│ąŠčĆčÅčćą░čģ ąŠąĮ
ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖą╗ ąĮą░ ą┐čĆąŠą│ą░ą╗ąĖąĮčā, ą│ą┤ąĄ čćčāčéčī ąĮąĄ čüčłąĖą▒čüčÅ čü čüąŠčģą░čéąĖąĮąŠą╣ ą╝ą░čéą║ąŠą╣ ąŠ ą┤ą▓čāčģ
č鹥ą╗čÅčéą░čģ, ąŠčéą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā. ą¤ąŠč鹊ą╝ čāą│ąŠą┤ąĖą╗ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā, ąĮąĄą▓ąĄą┤ąŠą╝čŗą╝
ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą┐čĆąŠčüą║ąŠčćąĖą▓ ą▓čüą┐ą░čģą░ąĮąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗ąŠčüčā ŌĆō ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠąČą░čĆąĮčāčÄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ
ąŠą▒ą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ ą▓čüąĄ ą┐ą░čüąĄą║ąĖ ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąŠąĮ ą┤ąĮąĄą╝ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄčüčéčāą┐ą░ą╗. ąØą░
ą┐ą░čüąĄą║ąĄ ąŠąĮ čćčāčéčī ąĮąĄ ąĮą░ą╗ąĄč鹥ą╗ ąĮą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ąĖąĘ
ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĄą╣ čéčĆą░ą▓čŗ. ąøčÄą┤ąĖ ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ, ąĘą░ą╝ą░čģą░ą╗ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ,
ąŠą┤ąĖąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ č鹊ą┐ąŠčĆ, ąĮąŠ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąĖ ąĮąĄ ą┤čāą╝ą░ą╗ ąĮą░ą┐ą░ą┤ą░čéčī. ą×ąĮ čüčłąĖą▒ ą┐čāčüčéčāčÄ
ą║ą░ą┤ą║čā ąĖ ą┐ąŠą┤ ą▒čĆąĄčģ čüąŠą▒ą░ą║ čĆąĖąĮčāą╗čüčÅ ą▓ ą│ą╗čāą▒čī ą│ą░čĆąĖ.
ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą║ ą▓ąĄč湥čĆčā, ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą╗ąĖą▓ąĮčÅ, ąĘą░ą┐ą░čģ
ą┤čŗą╝ą░ ąĖčüč湥ąĘ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠąĮ ąĄčēąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĮąĄą╣ ąĮąĄ čĆąĄčłą░ą╗čüčÅ ą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ą▓ čüą▓ąŠą╣
čāą│ąŠą╗ ąĖ čüą▓ąĖčĆąĄą┐ąĄą╗ ąŠčé ą│ąŠą╗ąŠą┤ą░. ąĪ č鹊ą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ ą┐ąŠčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ąŠ čüą▓ąĄąČąĄą╣
ą│ą░čĆčīčÄ, ąĖ ą▓ ąĘą▓ąĄčĆąĖąĮąŠą╝ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ ą║ą╗čāą▒ąĖą╗čüčÅ ąĘą░ą┐ąĄčćą░čéą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ą░ą╝čÅčéčīčÄ ą┐ąŠąČą░čĆ.
ąÉ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, č鹊 ąĮąĄ ą╝ąŠą│
čāąĘąĮą░čéčī ą╝ąĄčüčéą░. ą×ą│ąŠąĮčī ą▓čŗą┐ą░ą╗ąĖą╗ ąŠą│čĆąŠą╝ąĮčāčÄ ą┐ą╗ąŠčēą░ą┤čī; čüą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║ąĖ
ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĖ ąĖ ąŠčüčéą░čéą║ąĖ ą╗ąŠčüąĖąĮąŠą╣ čéčāčłąĖ. ą×ąĮ ą┐ąŠą│ą╗ąŠą┤ą░ą╗ ąŠą▒čāą│ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąŠčüčéąĖ,
ą┐ąŠčĆąĄą▓ąĄą╗, čĆą░ąĘą│čĆąĄą▒ą░čÅ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąĖ ąĖ ą┐ąĄą┐ąĄą╗, ąĖąĘą╝ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▓ čüą░ąČąĄ ąĖ ą┐ąŠą▒čĆąĄą╗ ą▓
ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ ą┐ąĖčēąĖ. ąØąŠ ą▓čüąĄ ąČąĖą▓ąŠąĄ čāčłą╗ąŠ ąŠčé ąŠą│ąĮčÅ, ą┐ąŠą┤čĆąŠčüčłą░čÅ ą▒čŗą╗ąŠ čéčĆą░ą▓ą░
ą▓čŗą│ąŠčĆąĄą╗ą░. ą¤čĆąŠčłą░čéą░ą▓čłąĖčüčī ą┤ąŠ ą▓ąĄč湥čĆą░, ąŠąĮ ą▓čŗčłąĄą╗ ąĮą░ ą║čĆąŠą╝ą║čā čüčéą░čĆąŠą╣ ą│ą░čĆąĖ, ą║
ąĖąĘą▒ąĄ, ąŠą▒ąĮąĄčüąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐čĆčÅčüą╗ąŠą╝ ąĖ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠąČą░čĆąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠčüąŠą╣. ą¤ąĖčēą░ ą▒čŗą╗ą░ čĆčÅą┤ąŠą╝:
čĆąŠą▓ąĮčŗąĄ čłąĄčĆąĄąĮą│ąĖ čāą╗čīąĄą▓ ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čłąĖčĆąŠą║čāčÄ ąĘąĄą╗ąĄąĮčāčÄ ą┐ąŠą╗čÅąĮčā, ąĮąŠ ą▒čŗą╗ ąĄčēąĄ
ą┤ąĄąĮčī, ą▒čŗą╗ čüą▓ąĄčé, ąĖ čüčéčāą┐ą░čéčī ąĘą░ ą┐ąŠą╗ąŠčüčā čüą▓ąĄąČąĄą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąŠą┐ą░čüąĮčŗą╝.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą┤ ąĖ ą▒ąŠą╗čī ą▓ ą╗ąŠą┐ą░čéą║ąĄ ą┐čĆąĖčéčāą┐ąĖą╗ąĖ čŹč鹊 čćčāą▓čüčéą▓ąŠ.
ą×ąĮ ą┐ąŠą┤ą║čĆą░ą╗čüčÅ ą║ ą┐ą░čüąĄą║ąĄ čü ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčéčĆąĄąĮąĮąŠą╣
čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĄą╣ čéčĆą░ą▓ąĄ ąĖ čāą╗ąĄą│čüčÅ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┐čĆčÅčüą╗ą░. ąØąĖ
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ąĮąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, čģąŠčéčÅ ąĘą░ą┐ą░čģ ąĖčģ ą▒čŗą╗ ąŠą┐ą░čüąĮąŠ čüąĖą╗ąĄąĮ ąĖ
ąĮąĄąĖčüčéčĆąĄą▒ąĖą╝. ą¤čĆąŠčéąĖčüąĮčāą▓čłąĖčüčī ą┐ąŠą┤ ąČąĄčĆą┤ąĖąĮąŠą╣, ąŠąĮ čüčéčāą┐ąĖą╗ ąĮą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÄ
ą┐ą░čüąĄą║ąĖ ąĖ ą┐ąŠą┤ą║čĆą░ą╗čüčÅ ą║ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą║ąŠą╗ąŠą┤ą║ąĄ. ąóąĄą┐ąĄčĆčī čāąČ ą╝ąĄą┤ą╗ąĖčéčī ąĖ
ąŠčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčīčüčÅ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ. ą¤čĆąĖą▓čŗčćąĮčŗą╝ ą┤ą▓ąĖąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąŠąĮ čüą║ąĖąĮčāą╗ ą║čĆčŗčłą║čā,
ąŠą┐čĆąŠą║ąĖąĮčāą╗ čāą╗ąĄą╣ ąĮą░ą▒ąŠą║ ąĖ čüčéą░ą╗ ą▓čŗąĄą┤ą░čéčī čĆą░ą╝ą║ąĖ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┐č湥ą╗ą░ą╝ąĖ. ą£ąĄą┤čā
ą▒čŗą╗ąŠ ą╝ą░ą╗ąŠ, ąĮąŠ ąĘą░č鹊 ą│čāčüč鹊 ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą▒ąĄą╗ąŠą╣, ąĮąĄą▓čŗąĘčĆąĄą▓čłąĄą╣ ą┐č湥ą╗ąĖąĮąŠą╣ ą┤ąĄčéą║ąĖ,
ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ ąĮą░ ą▓ą║čāčü čüą╗ą░čēąĄ ą╝ąĄą┤ą░ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą╝ą░č鹥čĆąĖąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╗ąŠą║ą░. ą£ąŠčĆą┤ą░ ąĖ čÅąĘčŗą║
ą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ ąŠčé čāą║čāčüąŠą▓, ąĮąŠ čŹč鹊 ą╗ąĖčłčī ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ąŠ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čéąĮčŗąĄ ą╝ąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░
ąĖ čāčüąĖą╗ąĖą▓ą░ą╗ąŠ ąČąŠčĆ.
ą×ąĮ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗, ą║ą░ą║ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā ą▓čŗčłąĄą╗
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ąĮą░ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąŠčüč鹊ą╗ą▒ąĄąĮąĄą╗ čü ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ čĆč鹊ą╝ ąĖ ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ
ą┐ąŠą┐čÅčéąĖą╗čüčÅ ąĮą░ąĘą░ą┤ŌĆ”
ąÆ čŹč鹊čé čĆą░ąĘ čüą┐ą░čüą╗ą░ čüąŠą▒ą░ą║ą░. ą×ąĮą░
ąĘą░ą┐ąŠą╗ąŠčłąĮąŠ ą▓čŗą╗ąĄč鹥ą╗ą░ ą▓ ą╗ąĄą▓ą░ą┤čā ąĮą░ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čüąĄą║čāąĮą┤ čĆą░ąĮčīčłąĄ, č湥ą╝ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čü čĆčāąČčīąĄą╝, ąĖ, ąĘą░čģą╗ąĄą▒čŗą▓ą░čÅčüčī ą▓ ą╗ą░ąĄ, ą▒čĆąŠčüąĖą╗ą░čüčī ą║ ąĘą▓ąĄčĆčÄ. ąóąŠčé
ą║čāą▒ą░čĆąĄą╝ ąŠčéą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ą║ ą┐čĆčÅčüą╗ą░ą╝, ą▓čŗąĮąĄčü ąĮą░ ą┐ą╗ąĄčćą░čģ čåąĄą╗čŗą╣ ą┐čĆąŠą╗ąĄčé ąĖ čüą║čĆčŗą╗čüčÅ
ą▓ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĄą╣ čéčĆą░ą▓ąĄ. ąÆčüą╗ąĄą┤, ąŠą┤ąĖąĮ ąĘą░ ąŠą┤ąĮąĖą╝, ą┐čĆąŠą│čĆąĄą╝ąĄą╗ąŠ ą┐čÅčéčī čģą╗ąĄčüčéą║ąĖčģ
ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓, ąĮąŠ ą▓čüąĄ ą╝ąĖą╝ąŠ.
ąĪčŗčéčŗą╣ ąĖ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╣, ąŠąĮ čüą║ąŠčĆąŠ ąŠčéą▓čÅąĘą░ą╗čüčÅ
ąŠčé čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĖ čāčłąĄą╗ ą▓ ą│ą╗čāą▒čī čüą▓ąĄąČąĄą╣ ą│ą░čĆąĖ. ąśąĮčüčéąĖąĮą║čé čü ąĮąĄąĖčüč鹊ą▓ąŠą╣ čüąĖą╗ąŠą╣
čéčÅąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ čéčāą┤ą░, ą│ą┤ąĄ ą▓ ąĘą░ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĮąŠą╝ čāą│ą╗čā ąŠąĮ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘ ąŠčéą┤čŗčģą░ą╗ ą┐ąŠčüą╗ąĄ
čüčŗčéąĮąŠą╣ ąĖ čüą╗ą░ą┤ą║ąŠą╣ ą┐ąĖčēąĖ. ąØąŠ ą║čĆčāą│ąŠą╝ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮčŗčģ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąŠą▓ ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ
č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠą│ą░čĆą║ąĖ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīąĄą▓, čāą│ą╗ąĖ ąĖ ą┐ąĄą┐ąĄą╗. ąóą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ąĮą░ą╣ą┤čÅ ą┐čĆąĖčüčéą░ąĮąĖčēą░, ąŠąĮ
čāą▒čĆčæą╗ ąĮą░ čāąĘą║čāčÄ ą┐ąŠą╗ąŠčüčā čāčåąĄą╗ąĄą▓čłąĄą│ąŠ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░ ąĮąĄą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ąŠčé ąĖąĘą▒čŗ ąĖ
ąĘą░ą╗ąĄą│ ą┤ąŠ čāčéčĆą░. ąÉ čāčéčĆąŠą╝ ąŠąĮ ą▓čŗčłąĄą╗ ąĮą░ ą▒čāą│ąŠčĆ, ąŠčéą║čāą┤ą░ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ ąĘą░
ą┐ą░čüąĄą║ąŠą╣, ąĖ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗, čćč鹊 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ą╗ čüąŠą▒ą░ą║čā ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ą╗ąĄą▓ą░ą┤čŗ ąĮą░
ą┤ą╗ąĖąĮąĮčāčÄ čåąĄą┐čī, ąĘą░ą▓ąĄą╗ ą╝ąŠč鹊čåąĖą║ą╗ ąĖ čāąĄčģą░ą╗. ąĪąŠčüąĄą┤ ą▒čŗą╗ ąĮąĄąŠą┐čŗčéąĮčŗą╝ ą▓ ą┐ą░čüąĄčćąĮčŗčģ
ą┤ąĄą╗ą░čģ ąĖ, ą┐ąŠ čüčāčéąĖ, ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĮą░ čĆą░ąĘą│čĆą░ą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓čüčÄ ą┐ą░čüąĄą║čā ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü
čüąŠą▒ą░ą║ąŠą╣. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą▒ąĄąĘą▒ąŠčÅąĘąĮąĄąĮąĮąŠ čüą┐čāčüčéąĖą╗čüčÅ čü ą▒čāą│čĆą░ ąĖ ąĘą░ą╗ąĄąĘ ą▓ ą╗ąĄą▓ą░ą┤čā.
ą¤čĆąĖą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠą▒ąĄą╗čī ąĘą░ą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą╗ą░ąĄą╝, čüą║čĆąĄą▒ ą╗ą░ą┐ą░ą╝ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÄ, ą┤čāčłąĖą╗čüčÅ ąĮą░
ąŠčłąĄą╣ąĮąĖą║ąĄ.
ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąČąĄ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮčāą╗ čāą╗ąĄą╣ ąĖ čüčéą░ą╗
ąČčĆą░čéčī.
ąś ą▓ą┤čĆčāą│ čüąŠą▒ą░ą║ą░ čāą╝ąŠą╗ą║ą╗ą░. ąØą░čéčÅąĮčāą▓ čåąĄą┐čī
ą┤ąŠ ąŠčéą║ą░ąĘą░, ą╗ąĄą│ą╗ą░ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĖ, ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĖąĄ ą╗ą░ą┐čŗ,
ą┐čĆąĖąĮčÅą╗ą░čüčī ąĘąŠčĆą║ąŠ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░čéčī ąĘą░ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤ąĄą╝, ą▓ą║čāčüąĮąŠ ąŠą▒ą╗ąĖąĘčŗą▓ą░čÅčüčī. ąĢąĄ
ą│ąĖą┐ąĮąŠčéąĖąĘąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░ čćčāąČą░čÅ ąĄą┤ą░‑ą┤ąŠą▒čŗčćą░. ą×ąĮą░ ą▓ąĮąŠą▓čī čüčéą░ą╗ą░ ąĘą▓ąĄčĆąĄą╝, ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤
ąĮąĄą╣ ą▒čŗą╗ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĖą╗čīąĮčŗą╣ čģąĖčēąĮąĖą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ ąČąĄ, ąĮąĄ čāčüčéčāą┐ąĖčé čüą▓ąŠąĄą╣
ą┐ąĖčēąĖ, ąĖ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą╗ąĄąČą░čéčī, čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī ąĖ ą│ą╗ąŠčéą░čéčī čüą╗čÄąĮą║ąĖ.
ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąĮą░ čüąĄą╣ čĆą░ąĘ ąŠčüąĖą╗ąĖą╗ ą╗ąĖčłčī ąŠą┤ąĖąĮ
čāą╗ąĄą╣ ąĖ, ąŠčéčÅą│ąŠčēąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĖčēąĄą╣, ą┐ąŠčłąĄą╗ ą║ ąĖąĘą▒ąĄ. ąĪąŠą▒ą░ą║ą░ čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░čģčĆąĖą┐ąĄą╗ą░ ąŠčé
ąĘą╗ąŠą▒čŗ. ąóąĄą┐ąĄčĆčī ąŠąĮą░ ą┐čŗčéą░ą╗ą░čüčī ąĘą░čēąĖčéąĖčéčī ąČąĖą╗čīąĄ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░, ą░ ąĘąĮą░čćąĖčé, ąĖ čüą▓ąŠąĄ
ąČąĖą╗čīąĄ. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą╝ąŠą│ ąŠč湥ąĮčī ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĘą░ą┤ą░ą▓ąĖčéčī ąĄąĄ, ąĮąŠ ą▓ čüąĖą╗čā čāąČąĄ ą▓čüčéčāą┐ąĖą╗ąŠ
čüąŠą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖąĄ ąŠ ą┤ąŠą▒čĆąŠčüąŠčüąĄą┤čüčéą▓ąĄ.
ą×ąĮ ąŠą▒ąŠčłąĄą╗ ąĖąĘą▒čā ą║čĆčāą│ąŠą╝, ą┐ąŠą┐ąĖčģą░ą╗čüčÅ ą▓
ąĘą░ą┐ąĄčĆčéčāčÄ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąĖ čü ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠą╣ ąĘą╗ąŠčüčéčīčÄ ą▓čŗąĮąĄčü ąĄąĄ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą║ąŠčüčÅą║ą░ą╝ąĖ.
ąŚą░ą┐ą░čģąĖ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░, ąČąĄą╗ąĄąĘą░ ąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģą░ čāąČąĄ ąĮąĄ čüą╝čāčēą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ; ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ąĖčģ
čÅčĆą║ąŠčüčéčī ąĖ čüąĖą╗ą░ ą▒čāą┤ąŠčĆą░ąČąĖą╗ąĖ, ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĮąĄąĮą░ą▓ąĖčüčéčī. ąÆ čüąĄąĮčåą░čģ ąŠąĮ
ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ą▒ąŠčćą║čā čüąŠ čüčéą░čĆčŗą╝ ą╝ąĄą┤ąŠą╝, ą┐ąŠą╗ąĖąĘą░ą╗, ą┐ąŠą│čĆčŗąĘ ąĄą│ąŠ, ąĘą░č鹥ą╝ ą┐ąŠčĆą▓ą░ą╗
ą╝ąĄčłąŠą║, ą▓čŗą┐čāčüčéąĖą▓ čéčāčćčā ą▒ąĄą╗ąŠą╣ ą┐čŗą╗ąĖ, č鹊ąČąĄ ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ą╗ ąĮą░ ą▓ą║čāčü, ąĮąŠ ą╝čāą║ą░
ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą╝ąĄą┤ą░ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčĆą░ą▓ąĖą╗ą░čüčī. ąŚą░č鹊 ąŠąĮ ą┤ąŠą▒čĆą░ą╗čüčÅ ą┤ąŠ ą╝ąĄčłą║ą░ čü čüąŠą╗čīčÄ ąĖ ą┐ąŠąĄą╗
ąĄąĄ čü čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝. ą¤ąŠą▓ą░ą╗čÅą▓čłąĖčüčī ąĮą░ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą║ ą▓ ą╝čāą║ąĄ, ąŠąĮ čüčāąĮčāą╗čüčÅ ą▓
ąĖąĘą▒čā. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąŠą▒ąĮčÄčģą░ą╗ čāą│ą╗čŗ, ą┐ąŠą╗ąĖąĘą░ą╗ čłą║ą░čä čü ą┐ąŠčüčāą┤ąŠą╣, ąĘą░č鹥ą╝ čüčāąĮčāą╗čüčÅ
ą╝ąŠčĆą┤ąŠą╣ ą▓ ą║čĆąŠą▓ą░čéčī, ąĮąŠ ąĘą┤ąĄčüčī čéą░ą║ ą┐čĆąŠąĮąĘąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ą░čģą╗ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝, čćč鹊 ąŠąĮ
ąŠčéčüą║ąŠčćąĖą╗ ąĖ ąĘą░ą▓ąŠčĆčćą░ą╗. ąś čéčāčé ąŠąĮ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ą║čĆčāą│ą╗čŗą╣ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčé ąĮą░
čüč鹥ąĮąĄ, ą▒ą╗ąĄčüčéčÅčēąĖą╣ ąĮą░ čüąŠą╗ąĮčåąĄ. ą×ąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ąĮą░ ąĘą░ą┤ąĮąĖąĄ ą╗ą░ą┐čŗ, ąŠą▒ąĮčÄčģą░ą╗,
ąŠą▒ą╗ąĖąĘą░ą╗ ąĄą│ąŠ ąĖ, čüąŠčĆą▓ą░ą▓ čüąŠ čüč鹥ąĮčŗ, ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ą▓ąĄčĆč鹥ą╗ ą▓ ą╗ą░ą┐ą░čģ, čüąĖą┤čÅ
ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ąĖąĘą▒čŗŌĆ”
ąĢą┤ą▓ą░ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖą╗čüčÅ ąĮą░čĆčāąČčā, ą║ą░ą║
čāą│ąŠą┤ąĖą╗ ąĮą░ čüąŠą▒ą░ą║čā. ąóą░ ą┐ąĄčĆąĄą│čĆčŗąĘą╗ą░ ą║ąŠą╗, čüąŠčĆą▓ą░ą╗ą░čüčī ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü čåąĄą┐čīčÄ ąĖ
č鹥ą┐ąĄčĆčī čÅčĆąŠčüčéąĮąŠ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ą░čüčī ąĮą░ ą┐ąŠą│čĆąŠą╝čēąĖą║ą░. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąĮąĄč鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą║
ą╗ąĄą▓ą░ą┤čā ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą║ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠčüąĄ. ąöą╗ąĖąĮąĮą░čÅ čåąĄą┐čī ą╝ąĄčłą░ą╗ą░
ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░čéčī, ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ą░ ąŠčéčüčéą░ą╗ą░, ąĘą░čüą║čāą╗ąĖą╗ą░ ąŠčé ą▒ąĄčüčüąĖą╗ąĖčÅ. ą¤ąŠą▓ąĄčĆč鹥ą▓čłąĖčüčī
ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą╝ąĖąĮą┐ąŠą╗ąŠčüčŗ
[1] , ąŠąĮą░ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ą░čüčī
ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā, ąĘą░čłą╗ą░ ą▓ čüąĄąĮąĖ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ą░ čüą╗ąĖąĘčŗą▓ą░čéčī čü ą┐ąŠą╗ą░ ą╝čāą║čā.
ąÉ čüčŗčéčŗą╣ ąĘą▓ąĄčĆčī čāčüąĮčāą╗ ą▓ ą┐ąŠą╗ąŠčüąĄ
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░. ą×ąĮ ąĮąĄ čüą╗čŗčłą░ą╗, ą║ą░ą║ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā ą┐čĆąĖąĄčģą░ą╗ą░ ą╝ą░čłąĖąĮą░ čü ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ,
ą║ą░ą║ ą╗čÄą┤ąĖ, ąĮą░čüą║ąŠčĆąŠ ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą▓ ą┐ąŠą│čĆąŠą╝, ąĘą░čĆčÅą┤ąĖą╗ąĖ čĆčāąČčīčÅ ąĖ, ą┐čāčüčéąĖą▓ ą╗ą░ąĄą║ ą┐ąŠ
čüą╗ąĄą┤čā, ąĮą░čćą░ą╗ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą▓čā.
ą×ąĮ ą┐čĆąŠčüąĮčāą╗čüčÅ ąŠčéč鹊ą│ąŠ, čćč鹊 čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ
čĆčÅą┤ąŠą╝ ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ čü čģčĆąĖą┐ąŠą╝ ąĖ ąĘą╗ąŠą▒ąŠą╣. ą×ąĮ ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ ąŠčé ąĮąĖčģ ąĖ ąĮąĄ
čüą┐ąĄčłą░ ą┐ąŠą║ąŠą▓čŗą╗čÅą╗ ą▓ ą│ą╗čāčģąŠą╣ čćą░čēąŠą▒ąĮąĖą║, ą│ą┤ąĄ ąĄą│ąŠ čéčĆčāą┤ąĮąŠ ą┤ąĄčƹȹ░čéčī čüąŠą▒ą░ą║ą░ą╝ ąĖ
ą║čāą┤ą░ ą▓čĆčÅą┤ ą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄąĘčāčé ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ąĖ. ąÆ čŹč鹊čé ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé čü čéčĆąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ ą┐ąŠą╗čŗčģąĮčāą╗
čĆčāąČąĄą╣ąĮčŗą╣ ąĘą░ą╗ą┐, ąĖ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ ąŠčéą║ąĖąĮčāą╗ąŠ ą┐ąŠą┤ ą▓čŗą▓ąŠčĆąŠč鹥ąĮčī. ą×ąĮ čéčāčé ąČąĄ ą▓čüą║ąŠčćąĖą╗
ąĖ, čüą▓ąĖčĆąĄą┐ąĄčÅ ąŠčé čĆąĄąĘą║ąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĖ, ą┐čĆąŠąĮąĘąĖą▓čłąĄą╣ ą│čĆčāą┤čī, ąĮąĄ čĆą░ąĘą▒ąĖčĆą░čÅ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖ,
ą║ąĖąĮčāą╗čüčÅ ą┐ąŠ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝čā. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą╝ ą▓čĆą░ąĘąĮąŠą▒ąŠą╣ ąĘą░čāčģą░ą╗ąĖ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗čŗ, ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ
ą╗čÄą┤ąĖ, ąĘą░ą▓ąĖąĘąČą░ą╗ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ, ą░ ąŠąĮ, čĆąŠąĮčÅčÅ ąĖąĘ ą┐ą░čüčéąĖ ą║čĆąŠą▓čī, ą╗ąĄąĘ ą▓ ą│čāčēčā
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąŠą▓. ą×ąĮ ąŠčĆą░ą╗, ą║čĆčāčłą░ ą║ąŠą╗ąŠą┤ąĮąĖą║ ąĖ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ąŠčüąĖąĮąĮąĖą║ąĖ. ąØąŠ ą▓ąŠčé
ą║ąŠąĮčćąĖą╗čüčÅ čüčāčģąŠčüč鹊ą╣, ąĖ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ą░čüčī čĆąŠą▓ąĮą░čÅ, ą║ą░ą║ ą╗ą░ą┤ąŠąĮčī, čüą▓ąĄąČą░čÅ
ą│ą░čĆčī. ą×čģąŠčéąĮąĖą║ąĖ č鹥ą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ąŠą║čĆčāąČą░ą╗ąĖ: ą│ąŠą╗ąŠčüą░ čĆą░ąĘą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖčüčī čüąŠ ą▓čüąĄčģ
čüč鹊čĆąŠąĮ.
ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ą║čĆą░čÄ ą┐ąŠą╗ąŠčüčŗ
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░ ąĖ čāąČąĄ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčćą░ą╗ čüąŠą▒ą░ą║. ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čü čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą┐ą░čüąĄą║ ąĖ
ąĘąĮą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ąĘą┤ąĄčüčī ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ŌĆō čćčāąČą░čÅ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅ, ąĖ čŹč鹊 ąĘą░čéą╝ąĖą╗ąŠ ąĘą░ą║ąŠąĮ ąŠ
ą┤ąŠą▒čĆąŠčüąŠčüąĄą┤čüčéą▓ąĄ. ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤čĆą░ąĘąĮąĖą╗ą░ ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▓ čÅčĆąŠčüčéčī ą│ąŠčĆčÅčćą░čÅ
ą╝ąĄą┤ą▓ąĄąČčīčÅ ą║čĆąŠą▓čī ąĮą░ ą│ąŠčĆąĄą╗ąŠą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ. ąŚą┤ąĄčüčī ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čüąĄ, ąĖ ąŠąĮąĖ čĆą▓ą░ą╗ąĖ,
ą┐ąŠą▓ąĖčüą░čÅ ąĮą░ ┬½čłčéą░ąĮą░čģ┬╗, ąĘą░ą▒ąĖą▓ą░čÅ ą│ą╗ąŠčéą║ąĖ čłąĄčĆčüčéčīčÄ. ą×ąĮąĖ čüčéą░čĆą░ą╗ąĖčüčī ą▓čŗą│ąĮą░čéčī
ąĄą│ąŠ ąĮą░ čćąĖčüčéąĖąĮčā, ąĘą░ą║čĆčāąČąĖčéčī ąĖ ąŠčéą┤ą░čéčī ą┐ąŠą┤ ą┐čāą╗ąĖ čģąŠąĘčÅąĄą▓.
ą×ąĮ ą╗ąĄą│, ą▓čŗčéčÅąĮčāą▓ ą╗ą░ą┐čŗ, ą┐čĆąĖąČą░ą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ą║
ąĘąĄą╝ą╗ąĄ. ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ čĆą░ąĘąŠą╝ ąŠčéčüą║ąŠčćąĖą╗ąĖ. ą×ąĮąĖ‑č鹊 ąĘąĮą░ą╗ąĖ, čćč鹊 čüčāą╗ąĖčé čéą░ą║ąŠąĄ
čüą╝ąĖčĆąĄąĮąĖąĄ. ą×ą▒ą╗ą░ą▓čēąĖą║ąĖ ą╝ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą╗ą░ą╣ čüąŠą▒ą░ą║, ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ
ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī. ą×ąĮ ąČą┤ą░ą╗ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░, čüą╗ąĖąĘčŗą▓ą░čÅ čü ąĘąĄą╝ą╗ąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ
ą║čĆąŠą▓čī. ąÆąŠčé č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖą╗čüčÅ ąĮą░ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ą░, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ čĆčāąČčīąĄ,
ąĮąŠ čüčéčĆąĄą╗čÅčéčī ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄ ą▓ ą║ąŠą│ąŠ. ąÆ čéčĆą░ą▓ąĄ ą╝ąĄą╗čīą║ą░ą╗ąĖ ą╗ąĖčłčī čüąŠą▒ą░čćčīąĖ čüą┐ąĖąĮčŗ.
ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐ąŠčłąĄą╗ ą┐čĆčÅą╝ąŠ ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ, ą░ ąŠąĮ čüą╗ąĄą┤ąĖą╗ ąĮąĄ ąĘą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ ŌĆō ąĘą░ čĆčāąČčīąĄą╝
ą▓ ąĄą│ąŠ čĆčāą║ą░čģ. ąś čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĘą░ą╗ą░čÅą╗ąĖ ą░ąĘą░čĆčéąĮąĄąĄ, ą▓čŗą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ąĘą▓ąĄčĆčÅ ŌĆō ą▓ąŠčé ąŠąĮ!
ą▓ąŠčé!
ą×čüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī čłąĄčüčéčī čüą░ąČąĄąĮ, ą║ąŠą│ą┤ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║
ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ čĆčāąČčīąĄ. ąÆ čŹč鹊čé ą╝ąĖą│ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī čüčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖą╗
ąĖąĘ čéčĆą░ą▓čŗ ąĖ čüą║ą░čćą║ą░ą╝ąĖ čĆąĖąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░. ąóąŠčé ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ ąĖ ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗ ą▓
čüč鹊čĆąŠąĮčā. ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī ą┐čĆąŠąĮąĄčüčüčÅ ą╝ąĖą╝ąŠ, čāą▓ą╗ąĄą║ą░čÅ čüąŠą▒ą░ą║, ą┐ąŠą╝čćą░ą╗čüčÅ č湥čĆąĄąĘ ą│ą░čĆčī ą║
ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠą╝čā čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║čā. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą╝ ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓ąŠ ąĘą░ą│čĆąĄą╝ąĄą╗ąĖ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗čŗŌĆ”
ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą│ą╗čāą▒ąŠą║ąŠą╣ ąĮąŠčćčīčÄ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī
ąŠč鹊čĆą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠčé čüąŠą▒ą░ą║ ąĖ čāčłąĄą╗ ą║ ą║čĆąŠą╝ą║ąĄ ąČąĖą▓ąŠą│ąŠ ą╗ąĄčüą░. ąśąĘąĮąĄą╝ąŠą│čłąĖą╣,
ąĘą░čģą╗ąĄą▒čŗą▓ą░čÄčēąĖą╣čüčÅ ą║čĆąŠą▓čīčÄ, ąĘą▓ąĄčĆčī čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąĄč鹥ą╗čī ąĖ ąĘą░ą╗ąĄą│ ąĮą░
čüą░ą╝ąŠą╣ ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄ čüą▓ąŠąĄą╣ ąĘą░ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ.
2
ąÆąĘčÅč鹊ą║ čü ą░ą║ą░čåąĖąĖ ą▒čŗą╗ čüąĖą╗čīąĮčŗą╝: ąĮąĄ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠ
ąĖ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ čü ąĮą░čćą░ą╗ą░ čåą▓ąĄč鹥ąĮąĖčÅ, ą░ čāąČ čüąŠčéčŗ ą┐ąŠą╗ąĮčŗąĄ. ąśčüą┐ą░čĆąĄąĮąĖąĄ ąĖ ąĘą░ą┐ą░čģ ą╝ąĄą┤ą░
ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ą╝ąŠčēąĮčŗą╝ąĖ, čćč鹊 ą║ą░ą║‑č鹊 ą▓čĆą░ąĘ ąĘą░ą│ą╗čāčłąĖą╗ąĖ, čĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ ą▓ čüąĄą▒ąĄ
ą▓ąĄąĘą┤ąĄčüčāčēąĖą╣ ąĖ ąĄą┤ą║ąĖą╣ ąĘą░ą┐ą░čģ ą│ą░čĆąĖ. ąĀąŠą▓ąĮčŗą╣, ą╝ąŠąĮąŠč鹊ąĮąĮčŗą╣ ą│čāą╗ ą┐ą░čüąĄą║ąĖ čüčéąĖčģą░ą╗
ą╗ąĖčłčī ąĮą░ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖąĄ čćą░čüčŗ ą╗ąĄčéąĮąĄą╣ ąĮąŠčćąĖ. ą×ą│čĆčāąĘčłąĖąĄ ą▓ąĘčÅčéą║ąŠą╝ ą┐č湥ą╗čŗ čü ą╗čæčéą░
ą┐ą░ą┤ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčåą░ čāą╗čīąĄą▓, ą║ą░ą║ čāčüčéą░ą▓čłąĖąĄ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ ą╝čāąČąĖą║ąĖ. ąÉ ąĮą░ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĄ
čāąČąĄ ą▒čŗą╗ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ąŠčüąŠčé, ąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╣ ą╝ąĄą┤ąŠąĮąŠčü ŌĆō ą║ąĖą┐čĆąĄą╣ ŌĆō ą▓čŗą│ąĮą░ą╗ čüč鹥ą▒ąĄą╗čī ąĖ
ąĮą░ą▒čĆą░ą╗ čåą▓ąĄčé. ąÆ ą║ąŠą╗ąŠą┤ą║ą░čģ ąĮąĄ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ čüą▓ąŠą▒ąŠą┤ąĮčŗčģ čüąŠč鹊ą▓, ąĖ ą┐č湥ą╗čŗ
ą┐ąŠą║čāčüąĖą╗ąĖčüčī ąĮą░ čüą▓čÅčéą░čÅ čüą▓čÅčéčŗčģ: ą▓čŗą▒čĆą░čüčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ąĄčéą║čā ą▓ąŠąĮ, ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮčÅčÅ čÅč湥ąĖ
ąĮąĄą║čéą░čĆąŠą╝.
ąÆ č鹊čé ą┤ąĄąĮčī čü čāčéčĆą░ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ, ą▓čŗą║ą░čłąĖą▓ą░ą╗ čéčĆą░ą▓čā ąĮą░ č鹊čćą║ąĄ ąĖ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą┐ąŠą┤ ą╗ąĄčéą║ą░ą╝ąĖ čāą╗čīąĄą▓ ą▒ąĄą╗čŗčģ,
ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą┐ą░ą▓čłąĖčģ ąĮą░ čüąŠą╗ąĮčåąĄ ą╗ąĖčćąĖąĮąŠą║. ą×ąĮ ą┐ąŠą▓ąĄčüąĖą╗ ą║ąŠčüčā ąĮą░ ą┐čĆčÅčüą╗ąŠ ąĖ
ą┐ąŠčłąĄą╗ ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą╝ąĄą┤ąŠą│ąŠąĮą║čā. ą¤ąŠą║ą░ čüąĮąĖą╝ą░ą╗ čü č湥čĆą┤ą░ą║ą░ čäą╗čÅą│ąĖ, čéą░čüą║ą░ą╗ ąĖąĘ
čüą║ą╗ą░ą┤ą░ čüčāčłčī ŌĆō čĆą░ą╝ą║ąĖ čü ą┐čāčüčéčŗą╝ąĖ čüąŠčéą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą║ą░ čĆą░čüą║ąŠč湥ą│ą░čĆąĖą╗ ą┤čŗą╝ą░čĆčī, ąĖąĘ
ą╗ąĄą▓ą░ą┤čŗ ą┐čĆąĖą▒ąĄąČą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĖ ąĘą░ąŠčĆą░ą╗, ą▓čŗą║ą░čéčŗą▓ą░čÅ ą│ą╗ą░ąĘą░:
ŌĆō ąæą░čéčÅ! ąĀąŠą╣! ąĀąŠą╣ ąĖą┤ąĄčé! ąóčāčćą░!
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą▓čŗčĆčāą│ą░ą╗čüčÅ ą┐čĆąŠ čüąĄą▒čÅ ąĖ
ą┐čĆąĖą┐čāčüčéąĖą╗ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā.
ąØą░ą┤ čāą╗čīčÅą╝ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ąŠčüčī ąŠą▒ą╗ą░ą║ąŠ ą┐č湥ą╗. ą×ąĮąŠ
č鹊 ąĘą░ą▓ąĖčüą░ą╗ąŠ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥, čüąŠą▒ąĖčĆą░čÅčüčī ą▓ čłą░čĆ, č鹊 čĆą░ąĘąĮąŠčüąĖą╗ąŠčüčī čĆą▓ą░ąĮčŗą╝ąĖ
ąŠčģą▓ąŠčüčéčīčÅą╝ąĖ, 菹┤ą░ą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąĄąĘą┤ąĄčüčāčēąĖą╝ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ‑čēčāą┐ą░ą╗čīčåą░ą╝ąĖ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆčÅčÅ
ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ ą▓ąŠą║čĆčāą│ čüąĄą▒čÅ. ąĀąŠą╣ ąĖčüą║ą░ą╗ ą╝ą░čéą║čā; ąĄąĄ ąČąĄ ąĖčüą║ą░ą╗ąĖ čéčĆčāčéąĮąĖ,
ą┐čĆąŠčłąĖą▓ą░čÅ ąĮą░čüą║ą▓ąŠąĘčī ą╝ąĄą╗čīč鹥賹░čēąĄąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą║ąŠ. ą×ąĮąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ąĖ
ąĖą╗ąĖ ą╗ąĄąĮąĖą▓čŗą╝ąĖ, ą║ą░ą║ čüčćąĖčéą░ą╗ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║. ą×ąĮąĖ ąĮąĄ ąČąĖą╗ąĖ ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąČąĖčéčī
ąĮą░ ą┤ą░čĆą╝ąŠą▓čēąĖąĮą║čā, ąĘą░ čüč湥čé čćčāąČąŠą│ąŠ čģčĆąĄą▒čéą░ ŌĆō ąŠąĮąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖ čüą▓ąŠąĄ
ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄ, ą║ą░ą║, ą▓ą┐čĆąŠč湥ą╝, ąĖčüą┐ąŠą╗ąĮčÅąĄčé ąĄą│ąŠ ą╝ą░čéą║ą░. ą×ąĮąĖ ą┐čĆąŠą┤ą╗ąĄą▓ą░ą╗ąĖ
čĆąŠą┤ čüą▓ąŠąĄą╣ čüąĄą╝čīąĖ, ąĖ ą▓ čŹč鹊ą╝ ą▒čŗą╗ ą▓čŗčüčłąĖą╣ čüą╝čŗčüą╗ ąĖčģ ąČąĖąĘąĮąĖ.
ąĢčüą╗ąĖ čéčĆčāčéąĮąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ čĆąŠčÄ, ąĘąĮą░čćąĖčé,
ą╝ą░čéą║ą░ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą▓čŗčłą╗ą░ ąĖąĘ čāą╗čīčÅ. ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖą╗, ąŠčéą║čāą┤ą░
ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé čĆąŠą╣, ąĖ ą┐čĆąĖčüąĄą╗ ą║ ą╗ąĄčéą║čā ą║ąŠą╗ąŠą┤ą║ąĖ. ąÆąŠčé ą▒čŗ ą╝ą░čéą║čā ą┐ąŠą╣ą╝ą░čéčī! ąś č鹊ą│ą┤ą░
ą▒čŗ ą┐č湥ą╗čŗ ą┐ąŠą╝ąĄčéą░ą╗ąĖčüčī ąĖ, čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖą▓čłąĖčüčī, ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčī ąĮą░ąĘą░ą┤. ą¢ą░ą╗ą║ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓
ą┐ąŠčĆčā čģąŠčĆąŠčłąĄą│ąŠ ą▓ąĘčÅčéą║ą░ ąŠčüą╗ą░ą▒ą╗čÅčéčī čüąĄą╝čīčÄ, č鹥ą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čćč鹊 ąĮą░ ą║ąŠčĆą┐čāčüąĄ čāąČąĄ
čüč鹊čÅą╗ ą╝ąĄą╗ąŠą▓ąŠą╣ ą║čĆąĄčüčéąĖą║ ŌĆō ą╝ąĄčéą░, čćč鹊 ąĖąĘ čŹč鹊ą╣ čüąĄą╝čīąĖ ąĮčŗąĮč湥 čāąČąĄ čüčģąŠą┤ąĖą╗
čĆąŠą╣. ą¤č湥ą╗čŗ čā ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░ ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ąĖčüčī ąŠčüąŠą▒čŗą╝ ąĮčĆą░ą▓ąŠą╝: ąŠą▒čŗčćąĮąŠ ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ą░čģ,
ąĄčüą╗ąĖ ąĄčüčéčī ą▓ąĘčÅč鹊ą║, ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čĆąŠčÅ ąĮąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé, čéčāčé ąČąĄ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ čüą┤čāčĆąĄą╗ąĖ.
ąØąĄčé čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ąĖ čéą░čüą║ą░čéčī ą╝ąĄą┤ ŌĆō čĆąŠčÅčéčüčÅ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą┤ąĄąĮčī. ąśąĘ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čüąĄą╝čīąĖ ą┐ąŠ
ą┤ą▓ą░‑čéčĆąĖ čĆąŠčÅ čāčģąŠą┤ąĖčé, ą┐čĆąĖč湥ą╝ ąŠą┤ąĖąĮ ąĘą░ ąŠą┤ąĮąĖą╝. ą¤č湥ą╗ ą▓ čāą╗čīąĄ ŌĆō ą┐čĆąĖą│ąŠčĆčłąĮčÅ
ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ, čāąČ ąĖ ą┤ąĄą╗ąĖčéčī‑č鹊 ąĮąĄč湥ą│ąŠ! ąÉąĮ ąĮąĄčé! ąĪąĮąŠą▓ą░ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖčüčī,
čĆą░ąĘąŠą▒čĆą░ą╗ąĖ čłą░ą┐ą║ąĖ, ą║ą░ą║ ą╝čāąČąĖą║ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┤čĆą░ą║ąĖ, ąĖ čĆą░ąĘąŠčłą╗ąĖčüčī čćčāąČąĖą╝ąĖ. ą¤ąŠ
ąĮą░čāą║ąĄ ąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╝čā ąŠą┐čŗčéčā ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąĘąĮą░ą╗, ąŠčéč湥ą│ąŠ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé čĆąŠąĄąĮąĖąĄ:
ą▓ čüąĄą╝čīąĄ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ą░čÅ ą╝ą░čéą║ą░, ą░ ą▓ą┤ą▓ąŠąĄą╝ čüąŠ čüčéą░čĆąŠą╣ ąĖą╝ ŌĆō ą║ą░ą║ ą┤ą▓čāą╝
ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅą╝ ą▓ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą▒ąĄčĆą╗ąŠą│ąĄ ąĮąĄ čāą╗ąĄąČą░čéčīčüčÅ. ą¢ąĖąĘąĮčī čā ą┐č湥ą╗, čģąŠčéčī ąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé,
čćč鹊 ąĮąĄčĆą░ąĘčāą╝ąĮą░čÅ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ ąĮąĄą╣ čćčāą┤ąĄčü, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĮąĖč湥ą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ,
ą║ą░ą║ čĆą░ąĘčāą╝ąŠą╝, ąĮąĄ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖčłčī. ą¤č湥ą╗ąŠą▓ąŠą┤čŗ čüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗ąĖ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčā ą┐ąŠą╝ąĄąĮčÅčéčī
ą╝ą░č鹊ą║ ŌĆō ą▓ąĘčÅčéčī čü ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┐ą░čüąĄą║: ą╝ąŠą╗, ą▓ ą╝ą░čéą║ą░čģ ą▓čüąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ, ąŠčé ąĮąĖčģ čéą░ą║ą░čÅ
čĆąŠą╣ą╗ąĖą▓ąŠčüčéčī, ąĮąŠ č湥ą╝ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ą░ą╗ ąĘą░ čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ
ą▒čāąĮčéčāčÄčēąĖą╝ąĖ ą┐č湥ą╗ą░ą╝ąĖ, č鹥ą╝ čüąĖą╗čīąĮąĄąĄ čāą▒ąĄąČą┤ą░ą╗čüčÅ, čćč鹊 ą╝ą░čéą║ąĖ‑č鹊 ąĘą┤ąĄčüčī ąĮąĖ ą┐čĆąĖ
č湥ą╝. ąöąĄą╗ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ čüą░ą╝ąĖčģ ą┐č湥ą╗ą░čģ. ąŁč鹊 ąŠąĮąĖ čü ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ąĮąĄąĖčüčéčĆąĄą▒ąĖą╝ąŠą╣
ąĮą░čüč鹊ą╣čćąĖą▓ąŠčüčéčīčÄ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐čĆąĄą┤čćčāą▓čüčéą▓čāčÅ čüą▓ąŠčÄ ą┐č湥ą╗ąĖąĮčāčÄ ą▒ąĄą┤čā, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
ą┐ąŠą┤čüčéčĆą░čģąŠą▓čŗą▓ą░čÅčüčī ąĮą░ ą▒čāą┤čāčēąĄąĄ, ąŠą┤ąĖąĮ ąĘą░ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ąĘą░ą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ čüąŠčéą░čģ
ą╝ą░č鹊čćąĮąĖą║ąĖ ŌĆō čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ čĆą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĮčŗąĄ ą│ąĮąĄąĘą┤ą░, ą║čāą┤ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝
ą╝ą░čéą║ą░ ąŠčéą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ą░ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čÅą╣čåąŠ. ąŁč鹊 ąŠąĮąĖ, ą┐č湥ą╗čŗ, ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ čÅą╣čåą░
ą▓čŗą║ą░čĆą╝ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĮąŠą▓čāčÄ ą╝ą░čéą║čā. ąśąĘ ą┤čĆčāą│ąĖčģ č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ąĖčģ ąČąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ
ą┐č湥ą╗čŗ, ąĖąĘ čŹč鹊ą│ąŠ ŌĆō ą╝ą░čéą║ą░. ąĀą░ąĘą▓ąĄ čŹč鹊 ąĮąĄ čćčāą┤ąŠ?
ąÆąĮą░čćą░ą╗ąĄ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ, ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆčÅčÅ čāą╗čīąĖ,
ąĮąĄčēą░ą┤ąĮąŠ ą▓čŗčĆąĄąĘą░ą╗ ą╝ą░č鹊čćąĮąĖą║ąĖ čü ą▓čŗčüąĄą▓ąŠą╝ ŌĆō ą▓ąĄčĆąĮčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄą┤ąĖčéčī
čĆąŠą╣, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐č湥ą╗čŗ ą▓čüą║ąŠčĆąĄ čüąŠąŠčĆčāąČą░ą╗ąĖ ąĮąŠą▓čŗąĄ, ąĖ čéą░ą║ čłą╗ąŠ ą▒ąĄčüą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ.
ą¤ąŠč鹊ą╝ ąŠąĮ ą┐ąŠąĮčÅą╗, čćč鹊 ą┐č湥ą╗čŗ ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠčÅčéčüčÅ, čćč鹊 ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą┐čĆąŠčüčéčā ą▒ąŠčÅčéčüčÅ
ąŠčüčéą░čéčīčüčÅ ą▒ąĄąĘ ą╝ą░čéą║ąĖ. ąś, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĖą▓ ą▓ ąĖčģ ą▒ąŠčÅąĘąĮčī, ąŠąĮ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĖą╗ ą▓ čĆą░ąĘčāą╝ ą┐č湥ą╗.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čüąĖą┤ąĄą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą╗ąĄčéą║ą░. ąøą░ą▓ąĖąĮčŗ
ą┐č湥ą╗, ąĮą░ą│čĆčāąČąĄąĮąĮčŗčģ ą┐čĆąŠ ąĘą░ą┐ą░čü ą╝ąĄą┤ąŠą╝, ą▓čŗč鹥ą║ą░ą╗ąĖ ąĖąĘ čāą╗čīčÅ, čĆą░ąĘą▒ąĄą│ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ
ą┐čĆąĖą╗ąĄčéąĮąŠą╝čā ą║čĆčŗą╗čīčåčā, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą╗čÄą┤ąĖ ąŠčé ą▒ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ, ąĖ ą▓ąĘą╝čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ.
ą¤ąŠą┐čĆąŠą▒čāą╣, ąĘą░ą╝ąĄčéčī čéčāčé ą▓ąŠą▓čĆąĄą╝čÅ ą╝ą░čéą║čā, čĆą░ąĘą▒ąĄčĆąĖčüčī ą▓ čŹč鹊ą╣ ą║ą░čłąĄ! ąōą╗ą░ąĘą░
ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░čüą╗ąĄąĘąĖą╗ąĖčüčī, ąĘą░čĆčÅą▒ąĖą╗ąŠ ąŠčé ą╝ąĄą╗čīą║ą░ąĮąĖčÅ ą┐č湥ą╗; ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć
ą┐čĆąŠč鹥čĆ ąĖčģ ą║čāą╗ą░ą║ą░ą╝ąĖ, čüą║ą╗ąŠąĮąĖą╗čüčÅ ąĮąĖąČąĄ. ąÆąŠčé ąČąĄ ą║ą░ą║ čāčüčéčĆąŠąĄąĮąŠ! ąĪčéą░čĆą░čÅ
ą╝ą░čéą║ą░ ą▒ąĄčĆąĄčé čü čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčā čüąĄą╝čīąĖ ąĖ čāčģąŠą┤ąĖčé ąĖąĘ ą┤ąŠą╝ą░. ą¤ąŠ‑čģąŠčĆąŠčłąĄą╝čā‑č鹊,
ą┐ąŠ‑ą╗čÄą┤čüą║ąĖ, ąŠąĮą░ ą▒čŗ ą▓ čāą╗čīąĄ ąŠčüčéą░čéčīčüčÅ ą┤ąŠą╗ąČąĮą░: ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ čĆąŠą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮąĖčåą░,
čģąŠąĘčÅą╣ą║ą░. ąØąŠ ąĮąĄčé ąČąĄ, ąĄčēąĄ ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ą╝ą░čéą║ąĖ ą▓čŗą╗čāą┐ąĖčéčīčüčÅ ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗ąĖ, ą┐ąŠ
ą╝ą░č鹊čćąĮąĖą║ą░ą╝ čüąĖą┤čÅčé, ą░ čüčéą░čĆą░čÅ čāąČąĄ čćčāąĄčé ąĖ čüą║ąŠčĆąĄą╣‑čüą║ąŠčĆąĄą╣ ąŠčé čüą▓ąŠąĖčģ
ą┐ąĖč鹊ą╝ąĖčå. ąÆąĄą┤čī ąĖ ąĖąĘą▒čā čüą▓ąŠčÄ ąŠą▒ąČąĖčéčāčÄ ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé, ą┤ąĄčéąĖčłąĄą║ čüą▓ąŠąĖčģ,
ąĮą░čüąĄčÅąĮąĮčŗčģ ą▓ čÅč湥ą╣ą║ą░čģ, ą╝ąĄą┤, čĆą░ą╝ą║ąĖ ąĖ ą╗ąĄčéąĖčé č湥čĆčé‑č鹥 ą║čāą┤ą░! ąĢą╣ ą▒čŗ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄąČčī
ą▓čŗą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī ŌĆō ą┐čāčüą║ą░ą╣ čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠ ąČąĖčéčī ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčé, čĆą░ą▒ąŠčéą░čÄčé,
ą▒ąŠą│ą░č鹥čÄčé, ŌĆō ą░ ąŠąĮą░ čüą░ą╝ą░ ąĮąŠčĆąŠą▓ąĖčé čāą╗ąĄč鹥čéčī. ąÆąŠčé ąĖ čüą║ą░ąČąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝, čćč鹊
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čāą╝ąĮąĄąĄ ąĖ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆąŠą┤ąĮąĄąĄ ą▓čüąĄčģ ą▓ ą┐čĆąĖčĆąŠą┤ąĄŌĆ”
ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą┤čāą╝ą░ą╗ čéą░ą║ ąĖ
čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗, čćč鹊 ąĮą░ą┐čĆą░čüąĮąŠ č鹊čĆčćąĖčé čā ą╗ąĄčéą║ą░, ąĮąŠ čāąČ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ąČą░ą╗ą║ąŠ
ąŠčéą┐čāčüą║ą░čéčī čĆąŠą╣ ąĖ čĆą░ąĘčĆčāčłą░čéčī čüąĄą╝čīčÄ. ąŚą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąĮąĄą╣ ąŠąĮ
ą┐čĆąŠą╝ąŠčĆą│ą░ą╗ čāąČąĄ ą┤ą▓ą░ čĆąŠčÅ: ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓ąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ, čģąŠčéčī čéčŗ ą╗ąŠą┐ąĮąĖ. ą¤ąŠą┐ąŠą╗ąŠčēčāčéčüčÅ
ąĮą░ą┤ ą┐ą░čüąĄą║ąŠą╣ ŌĆō ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ą╗ąĖčüčī ąĖčüą║ą░čéčī ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą┤ąŠą╗ąĖ ą│ą┤ąĄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ą▓
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░čģ. ąÆąĄą┤čī ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠąĖ ŌĆō ąŠą▒ąŠąČąČąĄąĮąĮčŗąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗąĄ ą│čĆąĖą▒ą║ąĖ ŌĆō čüč鹊čÅčé
ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą┐ą░čüąĄą║ąĄ, ąĖ ą┐čāčüčéčŗąĄ čāą╗čīąĖ čü čüčāčłčīčÄ ąĖ ą╝ąĄą┤ąŠą╝: ąĘą░čüąĄą╗čÅą╣čüčÅ ąĖ ąČąĖą▓ąĖ. ąÆčüąĄ
čĆą░ą▓ąĮąŠ čāčģąŠą┤čÅčéŌĆ”
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐ą╗čÄąĮčāą╗, čüą▒ąĄą│ą░ą╗ ą║ čüą║ą╗ą░ą┤čā ąĖ,
čüčģą▓ą░čéąĖą▓ ą┤ą▓ąĄ ą║ąŠčüčŗ ą▒ąĄąĘ č湥čĆąĄąĮą║ąŠą▓, ąĘą░ą│čĆąĄą╝ąĄą╗, ąĘą░ą▒čĆąĄąĮčćą░ą╗ ąĖą╝ąĖ. ą×čé čĆąĄąĘą║ąŠą│ąŠ
čłčāą╝ą░ čĆąŠą╣ ą┤ąŠą╗ąČąĄąĮ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĖą▓ąĖčéčīčüčÅ čüą║ąŠčĆąĄąĄ, ąĮąŠ čéčāčé čģąŠčéčī ą▓ ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗ą░ ą▒ąĄą╣ ŌĆō
ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą╗čīąĘčŗ. ąæčĆąŠčüąĖą▓ ą║ąŠčüčŗ, ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą┐čĆąĖąĮąĄčü čĆčāąČčīąĄ ąĖ, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą▓
čüčéą▓ąŠą╗čŗ, ą▓čŗą┐ą░ą╗ąĖą╗ ą┤čāą┐ą╗ąĄč鹊ą╝. ąĀąŠą╣ ą╝ąĄčéąĮčāą╗čüčÅ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā, čüą│čāčüčéąĖą╗čüčÅ, ąĮąŠ
ąĘą░č鹥ą╝ ą▓ąĮąŠą▓čī čĆą░čüčüąĄčÅą╗čüčÅ: ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄą▓ą░ą╗čüčÅ čāą╣čéąĖ ą▓ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĖ.
ŌĆō ąóą░čēąĖ ą┐ą░čéčĆąŠąĮčŗ! ŌĆō ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ ąÉčĆčéčÄčłąĄ. ŌĆō
ąŻą╣ą┤ąĄčé!
ąÉčĆčéčÄčłą░, ą┐čĆąĖą│ąĖą▒ą░čÅčüčī ąĖ ąŠčéą╝ą░čģąĖą▓ą░čÅčüčī ąŠčé
ą┐č湥ą╗, ą┐čĆąĖąĮąĄčü ą┐ą░čéčĆąŠąĮčéą░čł ąĖ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮąŠ ąĖčüč湥ąĘ. ą×ąĮ čāąČąĄ čéčĆąĖ ą│ąŠą┤ą░ ąČąĖą╗ ąĮą░
ą┐ą░čüąĄą║ąĄ, ąĮąŠ ą┐č湥ą╗ ą▒ąŠčÅą╗čüčÅ ą║ą░ą║ čĆąĄą▒ąĄąĮąŠą║. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čĆą░čüčüčéčĆąĄą╗čÅą╗ ą┤ąĄčüčÅč鹊ą║
ą┐ą░čéčĆąŠąĮąŠą▓, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čĆąŠą╣ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗ ąĮą░ą┤ ą│ą░čĆčīčÄ. ą×čüčéą░ą▓ą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣
čüą┐ąŠčüąŠą▒ čāą┤ąĄčƹȹ░čéčī ąĖ ą┐ąŠčüą░ą┤ąĖčéčī ąĄą│ąŠ ŌĆō ą┐čĆąĖą▓ąŠą╣ ąĮą░ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą╣ ąČąĄčĆą┤ąĖ. ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣
ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć čüą▒ąĄą│ą░ą╗ ąĘą░ ąĮąĖą╝ ą║ ą┐čĆčÅčüą╗čā, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ ą┐čĆąĖą▓ąŠą╣, ą║ą░ą║ ąĘąĮą░ą╝čÅ, ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗
ąĮą░ čĆąŠą╣.
ą×ąĮ ą┐ąĖčģą░ą╗ ąĄą│ąŠ ą▓ čüą░ą╝čāčÄ ą│čāčēčā ą┐č湥ą╗,
ą┐ąŠą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ ąĖą╝ ą│čĆąĖą▒ąŠą║ ŌĆō čüą░ą┤ąĖč鹥čüčī, ą┐ąŠąČą░ą╗čāą╣čüčéą░! ŌĆō ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čĆąŠą╣ čāą║ą╗ąŠąĮčÅą╗čüčÅ
ąŠčé ą┐čĆąĖą▓ąŠčÅ, ąĖ ą▓čüąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ čüčéą░čĆąŠą╣ ą╝ą░čéą║ąĄ. ąĢčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąŠąĮą░ čüąĄą╗ą░, ąĄąĄ
čüąĄą╝ąĄą╣čüčéą▓ąŠ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą▒čŗ ąĘą░ ąĮąĄą╣. ą£ą░čéą║ą░ ąČąĄ čāą┐ąŠčĆąĮąŠ čéčÅąĮčāą╗ą░
ą┐č湥ą╗ ąŠčé čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą┤ąŠą╝ą░. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čü ą┐čĆąĖą▓ąŠąĄą╝ ą▓ čĆčāą║ą░čģ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ
ą▒ąĄąČą░ą╗ ąĘą░ čĆąŠąĄą╝, ąĮą░čéčŗą║ą░ą╗čüčÅ ąĮą░ čāą╗čīąĖ, ąĮą░ ą┐ąĮąĖ, ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ ą▓čĆąĄąĘą░ą╗čüčÅ ą│čĆčāą┤čīčÄ ą▓
ą┐čĆčÅčüą╗ąŠ. ąŚą┤ąĄčüčī ąŠąĮ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ ą┐čĆąĖą▓ąŠą╣, ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĄąĘ č湥čĆąĄąĘ ąĖąĘą│ąŠčĆąŠą┤čī ąĖ ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗, ąĮąĄ
ą▓čŗą┐čāčüą║ą░čÅ ąĖąĘ ą▓ąĖą┤ą░ ą┐č湥ą╗ąĖąĮąŠąĄ ąŠą▒ą╗ą░ą║ąŠ: ą╝ąŠąČąĄčé, ąŠą┤čāą╝ą░čÄčéčüčÅ, čüčÅą┤čāčé ą│ą┤ąĄŌĆ”
ąÆčŗčüąŠą║ąĖą╣ ą║ąĖą┐čĆąĄą╣ čüč鹥ą│ą░ą╗ ą┐ąŠ ą╗ąĖą┐čā, ą┐čāčéą░ą╗ ąĮąŠą│ąĖ, ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĖą╣ ą╝ą░ą╗ąĖąĮąĮąĖą║
ą┤čĆą░ą╗ čłčéą░ąĮčŗ, ą║ą░ą║ ą║ąŠą╗čÄčćą░čÅ ą┐čĆąŠą▓ąŠą╗ąŠą║ą░; ąŠąĮ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘ čüą┐ąŠčéčŗą║ą░ą╗čüčÅ, ą┐ąŠą║ą░
ąĮąĄ ą▓čŗą▒ąĄąČą░ą╗ ąĮą░ ą╝ąĖąĮą┐ąŠą╗ąŠčüčā, ą░ čéą░ą╝ ą╝ą░čģąĮčāą╗ čĆčāą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠčłąĄą╗ ąĮą░ąĘą░ą┤.
ąÉčĆčéčÄčłą░ čüąĖą┤ąĄą╗ ąŠą║ąŠą╗ąŠ ąĖąĘą▒čŗ ąĖ, ą┤ąĄčƹȹ░čüčī ąĘą░
čēąĄą║čā, ąČą░ą╗ąŠą▒ąĮąŠ čüč鹊ąĮą░ą╗: ąĄą│ąŠ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ čāą║čāčüąĖą╗ą░ ą┐č湥ą╗ą░.
ŌĆō ąś čŹč鹊čé čāčłąĄą╗, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ,
ąŠą┐čāčüą║ą░čÅčüčī čĆčÅą┤ąŠą╝. ŌĆō ą¦ąĄą│ąŠ ąŠąĮąĖ ąĮą░čü ąĮąĄ ą╗čÄą▒čÅčé, ąÉčĆč鹥ą╝ąĖą╣?
ŌĆō ąÜ ąĮąĄą╝čā ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║čā ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗ąĖ, ŌĆō
ą┐čĆąŠčüč鹊ąĮą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō ą×ąĮ ą┐ąŠą╝ą░ąĮąĖą╗, ąŠąĮąĖ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗ąĖŌĆ”
ŌĆō ąÜč鹊 ąŠąĮ‑č鹊?
ŌĆō ąöą░ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čāčłą║ąŠ, ŌĆō ą┐čĆąŠčéčÅąĮčāą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō
ą×ąĮ ą▓ąĄą┤čī ąŠą▒ąŠčĆąŠč鹥ąĮčī, ąŠąĮ ą▓čüąĄ ą╝ąŠąČąĄčé. ąŚą░ą▓ąĄą╗, ą┐ąŠą┤ąĖ, ą┐ą░čüąĄą║čā ą▓ ą╗ąĄčüčā ą┤ą░
ą┐ąŠą┤ą╝ą░ąĮąĖą▓ą░ąĄčé ąĮą░čłąĖčģ.
ŌĆō ą¤ąŠčłą╗ąĖ ąĖčüą║ą░čéčī, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ. ŌĆō
ą¢ą░ą╗ą║ąŠ, ąĘą░ą╝ąĄčƹʹĮčāčé ąĘąĖą╝ąŠą╣.
ą×ąĮ ą▓ąĘčÅą╗ ą▒ąĄčĆąĄčüčéčÅąĮčāčÄ čĆąŠąĄą▓ąĮčÄ, čüčāąĮčāą╗ č鹊ą┐ąŠčĆ
ąĘą░ ąŠą┐ąŠčÅčüą║čā, ąÉčĆčéčÄčłąĄ ą▓čĆčāčćąĖą╗ ą┐ąĖą╗čā ąĮą░ čüą╗čāčćą░ą╣, ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ ą▓ą░ą╗ąĖčéčī
čüčāčģąŠčüč鹊ąĖąĮčā čü čĆąŠąĄą╝, ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ą╗čüčÅ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąŠą▓.
ąöą░ąČąĄ ą▓ ą▓čæą┤čĆąŠ, ą┐čĆąĖ čüą▓ąĄčéą╗ąŠą╝ čüąŠą╗ąĮčåąĄ ąĖ
čéąĖčģąŠą╣ ą┐ąŠą│ąŠą┤ąĄ, ą╝ąĄčĆčéą▓čŗą╣ ą╗ąĄčü ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ čüčāą╝čĆą░čćąĮčŗą╝, ąČčāčéą║ąŠą▓ą░čéčŗą╝. ąōą┤ąĄ‑č鹊
čüą║čĆąĖą┐ąĄą╗ąŠ, ąĮąĖ čü č鹊ą│ąŠ ąĮąĖ čü čüąĄą│ąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐ą░ą┤ą░ą╗ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ, ą▓ąĮąĄčłąĮąĄ ą║čĆąĄą┐ą║ąŠąĄ ąĖ
ąĘą▓ąŠąĮą║ąŠąĄ, ąĄčüą╗ąĖ čüčéčāą║ąĮčāčéčī č鹊ą┐ąŠčĆąŠą╝; ąĖ ą┐ą░čģą╗ąŠ ąĘą┤ąĄčüčī ą│ąĮąĖą╗čŗą╝ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠą╝,
ą┐čĆąĄą╗čīčÄ, ą│čĆąĖą▒ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠą│ą░ąĮą║ą░ą╝ąĖ. ąØąŠ čüą░ą╝ąŠąĄ ąĮąĄą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠąĄ, čćč鹊 čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ ąĮąĄ
čłčāą╝ąĄą╗ ąĖ ą┐čĆąĖ čüąĖą╗čīąĮąŠą╝ ą▓ąĄčéčĆąĄ; č鹊ą╗čīą║ąŠ čüą║čĆąĖą┐, čüą║čĆąĄąČąĄčé ąĖ ą║ąŠčüčéčÅąĮąŠą╣ čüčéčāą║. ąś
ą║ čŹč鹊ą╝čā ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčģ ą║ą░ą║ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčéčī ą┐ąŠčüą╗ąĄ ąČąĖą▓ąŠą│ąŠ‑č鹊 ą╗ąĄčüą░! ą¤ąŠąČą░čĆčŗ ąĮąĄ
čēą░ą┤ąĖą╗ąĖ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąČąĖą▓ąŠą│ąŠ, čćč鹊 čü čéą░ą║ąĖą╝ čéčĆčāą┤ąŠą╝ ą▓čŗčĆą░čüčéą░ą╗ąŠ ąĖ čĆąŠąČą┤ą░ą╗ąŠčüčī
ąĘą┤ąĄčüčī. ąĪą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī, ą│ąŠčĆąĄą╗ą░ ąĘąĄą╝ą╗čÅ, čüą░ą╝čŗą╣ ąĄąĄ ąĮąĄąČąĮčŗą╣ ąĖ ą┤čĆą░ą│ąŠčåąĄąĮąĮčŗą╣ čüą╗ąŠą╣.
ąōąŠčĆąĄą╗ą░ ą▒ąĄąĘ ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖ ąĖ čéčĆąĄčüą║ą░, ą┤čŗą╝ąĖą╗ą░čüčī ą╝ąĄčüčÅčåą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą║ą░ ąŠčüąĄąĮąĮąĖąĄ ą┤ąŠąČą┤ąĖ
ąĖą╗ąĖ ąĘąĖą╝ąĮąĖąĄ čüąĮąĄą│ą░ ąĮąĄ ą│ą░čüąĖą╗ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą│ąŠ ąŠčćą░ą│ą░. ąÆčŗą│ąŠčĆąĄą▓čłąĖąĄ čüąĄčĆčŗąĄ ą┐čÅčéąĮą░
ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠąČąŠą│ą░ą╝ąĖ.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čü ąÉčĆčéčÄčłąĄą╣ ą┐čĆąŠčłą╗ąĖ č湥čĆąĄąĘ ą│ą░čĆčī,
čéčÅąĮčāą▓čłčāčÄčüčÅ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆą░ ąĮą░ čéčĆąĖ ąŠčé ą┐ą░čüąĄą║ąĖ, ąĖ čüčéčāą┐ąĖą╗ąĖ ą▓ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║.
ąÉčĆčéčÄčłą░ č鹊 ąĖ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĘą░ą┐ąĖąĮą░ą╗čüčÅ, čåąĄą┐ą╗čÅą╗čüčÅ, čłą░čĆą░čģą░ą╗čüčÅ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ, ąĖ ą┐ąĖą╗ą░ ąĮą░
ąĄą│ąŠ ą┐ą╗ąĄč湥 ąČą░ą╗ąŠą▒ąĮąŠ ą┐ąŠąĘą▓ą░ąĮąĖą▓ą░ą╗ą░. ąÆ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĄ ąŠąĮ čüčéą░ą╗ ąČą░čéčīčüčÅ ą║
ąÆą░čüąĖą╗ąĖčÄ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčćčā, ąĮą░čüčéčāą┐ą░ą╗ ąĮą░ ą┐čÅčéą║ąĖ ąĖ ąŠąĘąĖčĆą░ą╗čüčÅ. ąĢą│ąŠ ą┐čāą│ą░ą╗ ąĮąĄ čüą░ą╝
ą╝ąĄčĆčéą▓čŗą╣ ą╗ąĄčü, ą░ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ čüčāčģąŠčüč鹊ą╣ąĮčŗąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīčÅ. ąŻą▓ąĖą┤ąĄą▓ ą▓čŗčüąŠč湥ąĮąĮčāčÄ ąĄą╗čī,
ąŠąĮ ą▓čŗčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ ą┤čĆąŠąČą░čēčāčÄ čĆčāą║čā, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čłąĄą┐ąŠč鹊ą╝, ą▓čŗą║ą░čéčŗą▓ą░čÅ ą│ą╗ą░ąĘą░:
ŌĆō ąæą░čéčÅ, ą│ą╗čÅą┤ąĖ!
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗, ąĖ ąĄą╝čā č鹊ąČąĄ
čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠčüčī ąĮąĄ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ. ąĪčāčģąĖąĄ ąĄą╗ąĖ ą┐ąŠčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĮą░ čüą║ąĄą╗ąĄčéčŗ, ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčĆą░čÄčēąĖąĄ
ąĮąĄą▒ąŠ ą▓čŗą▒ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠčüčéčÅą╝ąĖ. ąØąŠ ą┐čāą│ą░ą╗ąŠ ąĮąĄ čŹč鹊 čüčģąŠą┤čüčéą▓ąŠ, ą░
ąĮąĄąĄčüč鹥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąŠą▒čüčéčāą┐ą░čÄčēąĄą╣ čüąŠ ą▓čüąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ ą▒ąĄąĘąČąĖąĘąĮąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓
ą║ąŠčłą╝ą░čĆąĮąŠą╝ čüąĮąĄ.
ŌĆō ąÉ čćč鹊 čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī‑č鹊? ą¦č鹊? ŌĆō čłąĄą┐ąŠč鹊ą╝
čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ.
ŌĆō ąöą░ą║ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ!.. ąŚą░čüąŠčģą╗ąŠ, ą░ čĆą░čüč鹥čé.
ąĪčāčģąŠčüč鹊ąĖ ąĖ ą▓ą┐čĆčÅą╝čī, ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ą▒čāą┤č鹊
ą▓čŗčĆąŠčüą╗ąĖ.
ąÆ ąŠą┤ąĖąĮąŠčćą║čā ąÉčĆčéčÄčłą░ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĄ čüąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą▓
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĖ. ąÉ č鹥 ąĖčģ ąŠčüčéčĆąŠą▓ą║ąĖ, čćč鹊 ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║čā, ąŠąĮ
ą▒čŗčüčéčĆąŠ ą┐čĆąŠą▒ąĄą│ą░ą╗ ąĖą╗ąĖ čłąĄą╗, ąĘą░ąČą╝čāčĆąĖą▓čłąĖčüčī, ą║ą░ą║ ą▓ ą┤ąĄčéčüčéą▓ąĄ ą╝ąĖą╝ąŠ ą║ą╗ą░ą┤ą▒ąĖčēą░.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ąŠąĮ ą▒ąŠčÅą╗čüčÅ ą┐ąŠąČą░čĆą░, ąĖ čüč鹊ąĖą╗ąŠ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčā ąĘą░ą║čāčĆąĖčéčī,
ą║ą░ą║ ąÉčĆčéčÄčłą░ čāąČąĄ ą│ą╗ą░ąĘ ąĮąĄ čüą┐čāčüą║ą░ą╗ čü ąŠą║čāčĆą║ą░. ąØą░ ą┐ą░čüąĄą║ąĄ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ąĖąĘą▒čŗ čüč鹊čÅą╗ą░
ą║ą░ą┤ą║ą░ čü ą▓ąŠą┤ąŠą╣, čÅčēąĖą║ čü ą┐ąĄčüą║ąŠą╝, ąĮą░ čüč鹥ąĮąĄ ŌĆō ą▒ą░ą│čĆčŗ, ą▓ąĄą┤čĆą░, č鹊ą┐ąŠčĆąĖą║ąĖ ŌĆō
ą▓čüąĄ ą║ą░ą║ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ. ąŁč鹊 ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ąÉčĆčéčÄčłąĄą╣, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąŠąĮ
ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗ ą┐ąŠąČą░čĆąĮąŠąĄ čāčćąĖą╗ąĖčēąĄ ąĖ ą╗ąĄčé ą┐čÅčéčī čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆąŠą╝
ą│ąŠčüą┐ąŠąČąĮą░ą┤ąĘąŠčĆą░ ą▓ čćąĖąĮąĄ čüčéą░čĆčłąĄą│ąŠ ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░. ąś čģąŠą┤ąĖą╗ ąŠąĮ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓
ą┐ąŠąĮąŠčłąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╣ č乊čĆą╝ąĄ ą▒ąĄąĘ ą┐ąŠą│ąŠąĮ ąĖ ą┐ąŠą║ąŠčĆąŠą▒ąĖą▓čłąĄą╣čüčÅ čäčāčĆą░ąČą║ąĄ.
ą×ąĮąĖ ą┐čĆąŠčłą╗ąĖ ą┐ąŠ ą║čĆąŠą╝ą║ąĄ čüčāčģąŠčüč鹊čÅ, čüčĆąĄą┤ąĖ
ąŠą▒čāą│ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓čŗčüąŠą║ąĖčģ ą┐ąĮąĄą╣ ąĖ č湥čĆąĮčŗčģ ą┤ąĄčĆąĄą▓čīąĄą▓, ą┐ąŠą╗ąĄąĘą╗ąĖ ą│ą╗čāą▒ąČąĄ, ą▓ ąĘą░ą▓ą░ą╗čŗ
ąĖ ąĮą░ą│čĆąŠą╝ąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ą▓ąĄčéčĆąŠą▓ą░ą╗ą░. ąśčüą║ą░čéčī ąĘą┤ąĄčüčī čāą╗ąĄč鹥ą▓čłąĖą╣ čĆąŠą╣ ą▒čŗą╗ąŠ čćč鹊
ąĖą│ąŠą╗ą║čā ą▓ čüč鹊ą│čā, ąĮąŠ ą▓ąĄą┤čī čāą╗ąĄč鹥ą╗‑č鹊 čéčĆąĄčéąĖą╣! ąźąŠčéčī ąŠą┤ąĖąĮ ąŠčéčŗčüą║ą░čéčī, ą░ č鹊
čüą║ąŠčĆąŠ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą╗ąĖčéčüčÅ ą▓ ą┤čāą┐ą╗ą░.
ąÆą┤čĆčāą│ ąÉčĆčéčÄčłą░ ą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ąĘą░ čĆčāą║ą░ą▓, čāą║ą░ąĘą░ą╗ ą▓
čüč鹊čĆąŠąĮčā:
ŌĆō ąæą░čéčī! ąōą╗čÅą┤ąĖ!
ŌĆō ą¦č鹊? ŌĆō ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠą│ą╗čÅąĮčāą╗čüčÅ.
ŌĆō ąöą░ ą▓ąŠąĮŌĆ” ą¤ą░čüąĄą║ą░ŌĆ”
ąØą░ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčÄčēąĄą╝ ą┐ąĮąĄ ą▓čŗčüąŠč鹊ą╣ ą╝ąĄčéčĆą░ ą▓ čéčĆąĖ
čüč鹊čÅą╗ čāą╗ąĄą╣. ąźąŠčĆąŠčłąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą║ą░ą║ čüąĮčāčÄčé ą┐č湥ą╗čŗ čā ą╗ąĄčéą║ą░, ąĖ ą┤ą░ąČąĄ,
ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čéčÅąĮčāą╗ąŠ ąĘą░ą┐ą░čģąŠą╝ čåą▓ąĄčéčāčēąĄą╣ ą░ą║ą░čåąĖąĖ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čüąĮčÅą╗ čü ą┐ą╗ąĄčć
čĆąŠąĄą▓ąĮčÄ, čüąĄą╗ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąŠą┤ąĖąĮčā. ąØąĄčé, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą▓ąĖą┤ąĄą╗čüčÅ čāą╗ąĄą╣; čüč鹊ąĖčé čüąĄą▒ąĄ čüą░ą╝čŗą╣
ąĮą░čüč鹊čÅčēąĖą╣, ą┐čĆąĖą║ąŠą╗ąŠč湥ąĮąĮčŗą╣ ą║ ą┐ąĮčÄ ą┐ąŠą╗ąŠčüąŠą▓čŗą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąŠą╝, čćč鹊ą▒ ą▓ąĄčéčĆąŠą╝ ąĮąĄ
čüčĆąŠąĮąĖą╗ąŠ. ąØąŠ ąŠčéą║čāą┤ą░ ąĄą╝čā ąĘą┤ąĄčüčī ą▓ąĘčÅčéčīčüčÅ, čüčĆąĄą┤ąĖ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąŠą▓? ąöą░ ąĖ
čāą╗ąĄą╣‑č鹊 ŌĆō čćčāąČąŠą╣ŌĆ”
ŌĆō ą» ąČ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ŌĆō ąĄą│ąŠ ą┐ą░čüąĄą║ą░! ŌĆō ąĘą░čłąĄą┐čéą░ą╗
ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō ą×ąĮ ąĮą░čłąĖčģ ą┐č湥ą╗ ą╗ąŠą▓ąĖčé ąĖ ą┐ą░čüąĄą║čā čĆą░ąĘą▓ąŠą┤ąĖčé!
ŌĆō ąÜč鹊? ŌĆō ąŠčłą░ą╗ąĄą╗ąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ.
ŌĆō ąöą░ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čāčłą║ąŠ! ą×ą▒ąŠčĆąŠč鹥ąĮčī!.. ą¤ąŠčłą╗ąĖ,
ą▒ą░čéčī, ąŠčéčüčÄą┤ą░. ąÆąŠąĘčīą╝ąĄčé ą┤ą░ ą┐čĆąĖą┤ąĄčé, čā ąĮą░čü ąĖ čĆčāąČčīčÅ ąĮąĄčéčāŌĆ”
ŌĆō ą¤ąŠą│ąŠą┤ąĖ‑ą║ą░, ŌĆō ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ą┐ąĮčÄ,
ąŠą▒ąŠčłąĄą╗ ą▓ąŠą║čĆčāą│, ąĘą░ą┤čĆą░ą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā. ŌĆō ąś ą▓ą┐čĆčÅą╝čī ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ąŠą▒ąŠčĆąŠč鹥ąĮčīŌĆ” ąÜą░ą║
č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░čéą░čēąĖą╗ čéčāą┤ą░?
ŌĆō ą×ąĮ ą▓čüčæ ą╝ąŠąČąĄčé, ŌĆō ąŠąĘąĖčĆą░čÅčüčī, ą┐čĆąŠčłąĄą┐čéą░ą╗
ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō ą×ąĮ, čüą╗čŗčłčī, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĮąĖ ą┐ąŠ ą╗ąĄčüčā čĆą░ąĘąĮąŠčüąĖčé ą┤ą░ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąĖ ąČąČąĄčé!
ą×ąĮ! ą» čüą░ą╝ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ŌĆ”
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ ąŠą┐ąĖą╗ąŠą║ ą┐ąĮčÅ, ą╗ąĄąČą░čēąĖą╣
ą┐ąŠą┤ ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ, ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ, čüąĄą╗. ąÜą░ąČą┤ąŠą╣ ą┐ą░čüąĄą║ąĄ, ą┐ąŠ ąĮąĄą┐ąĖčüą░ąĮčŗą╝
čüčéčĆąĄą╝čÅąĮčüą║ąĖą╝ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ą░ą╝, ą┐čĆąĖąĮą░ą┤ą╗ąĄąČą░ą╗ą░ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖčÅ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī
ą▓ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ. ąŁčéą░ą║ąĖą╣ ą║čĆčāą│, ąŠč湥čĆč湥ąĮąĮčŗą╣ čāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠą╣ ą╗ąĖąĮąĖąĄą╣‑ą│čĆą░ąĮąĖčåąĄą╣,
ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą░čéčī čĆą░ą▒ąŠčćą░čÅ ą┐č湥ą╗ą░. ąś čāąČ ą║č鹊 čüąĄą╗ čü ą┐ą░čüąĄą║ąŠą╣ ąĮą░
ą╝ąĄčüč鹊, ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čéąĖč湥čüą║ąĖ ąŠčéč鹊čĆą│ą░ą╗ą░čüčī čģąŠąĘčÅąĖąĮčā ąĖ ą│čĆą░ąĮąĖčåčŗ ąĄąĄ
ąĮą░čĆąĄąĘą░ą╗ąĖčüčī čüą░ą╝ąĖ čüąŠą▒ąŠą╣, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, ą┐č湥ą╗ą░ą╝ąĖ. ąæą╗ą░ą│ąŠ, čćč鹊 čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ
ą│ą░čĆąĄą╣ ąĮą░ čÄą│ ąŠčé ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ čüąŠčéąĮąĖ čéčŗčüčÅčć ą│ąĄą║čéą░čĆąŠą▓. ąĪ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ, ą║ą░ą║
ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ą░ ąŠą▒čĆąŠčüą╗ą░ ą┐ą░čüąĄą║ą░ą╝ąĖ, čüčĆąĄą┤ąĖ ą┐č湥ą╗ąŠą▓ąŠą┤ąŠą▓ čüčćąĖčéą░ą╗ąŠčüčī čüą░ą╝čŗą╝
ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╝ ą┤ąĄą╗ąŠą╝ ą╗ąŠą▓ąĖčéčī čćčāąČąĖąĄ čĆąŠąĖ. ąøčāčćčłąĄ čāąČ ą│ąŠą╗čŗą╝ ą┐ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ ą┐čĆąŠą╣čéąĖ,
č湥ą╝ ą┐čāčüčéčŗąĄ čāą╗čīąĖ ą║ ą┐ą░čüąĄą║ą░ą╝ ą┐ąŠą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī. ąöčĆčāą│ąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ, ąĄčüą╗ąĖ čéčŗ ą▓ ą┤čāą┐ą╗ąĄ
čüąĄą╝čīčÄ ąĮą░čłąĄą╗. ąĪą╗ąŠą▓ą░ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ čüą║ą░ąČąĄčé, ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą▒čāą┤čāčé, ą╝ąŠą╗,
čüčćą░čüčéą╗ąĖą▓čćąĖą║, ą┐ąŠą▓ąĄąĘą╗ąŠ. ą×čé ąŠą┤ąĖčćą░ą▓čłąĖčģ ą┐č湥ą╗, ą┐ąĄčĆąĄąĘąĖą╝ąŠą▓ą░ą▓čłąĖčģ ą▓ ą┤čāą┐ą╗ąĄ, ąŠčé
ąĖčģ ą╝ą░čéą║ąĖ čłą╗ąŠ čģąŠčĆąŠčłąĄąĄ ą┐ąŠč鹊ą╝čüčéą▓ąŠ, ąĖ ą┐ą░čüąĄą║ą░ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąĄčĆąĄ
ąŠą╝ąŠą╗ą░ąČąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī, ą║čĆąĄą┐ą╗ą░. ąØąŠ ą║ąŠą╝čā ąŠčģąŠčéą░ ą╗ąŠą╝ąĖčéčīčüčÅ čüą║ą▓ąŠąĘčī ą╗ą░ą▒ąĖčĆąĖąĮčéčŗ
ąĘą░ą▓ą░ą╗ąŠą▓ ą▓ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░čģ, čćč鹊ą▒ ąĖčüą║ą░čéčī čéą░ą║ąŠą│ąŠ čüčćą░čüčéčīčÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ
ąĮą░ ą┐ą░čüąĄą║ą░čģ ą┐ąŠ ą│ąŠčĆą╗ąŠ? ąŻą┤ą░čćą░‑č鹊 ą▒čŗą╗ą░ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ą▓ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠčüčéąĖ: ą▒čāą┤č鹊 čłąĄą╗
ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ąĖ ąĮą░čłąĄą╗ ą║ąŠčłąĄą╗čī čü ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą╝.
ąÜč鹊 ąČąĄ ą╝ąŠą│ ąĘą░ą╗ąĄąĘčéčī ąĮą░ čćčāąČčāčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ? ąÜč鹊
ą┐ąŠą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗ čāą╗ąĄą╣?
ŌĆō ąĪą╗čŗčłčī, ą▒ą░čéčī, ŌĆō ąÉčĆčéčÄčłą░ čéčĆąĄą┐ą░ą╗ ąĄą│ąŠ ąĘą░
čłčéą░ąĮąĖąĮčā. ŌĆō ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąĄą│ąŠ čü čĆčāąČčīčÅ‑č鹊 ą┐čĆąŠčüč鹊 čéą░ą║ ąĮąĄ ą▓ąŠąĘčīą╝ąĄčłčī. ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé,
ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą┐čāą╗ąĖ ą╝ąĄą┤ąĮčāčÄ ą┐čāą│ąŠą▓ą║čā ąĘą░čĆčÅą┤ąĖčéčī ąĮą░ą┤ąŠ. ą×ą▒ąŠčĆąŠčéąĮčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą╝ąĄą┤ąĮąŠą╣
ą┐čāą│ąŠą▓ą║ąŠą╣ čāą▒čīąĄčłčīŌĆ” ą£ąŠąČąĄčé, čüą▒ąĄą│ą░čéčī ąĘą░ čĆčāąČčīąĄą╝?
ŌĆō ą×ą▒ąŠą╣ą┤ąĄą╝čüčÅ, ŌĆō ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗
čĆąŠąĄą▓ąĮčÄ. ŌĆō ąĀą░ąĘ ą┤ąĄąĮčī ąĮą░čüą╝ą░čĆą║čā, ą┐ąŠčłą╗ąĖ, ąÉčĆč鹥ą╝ąĖą╣. ąĪčģąŠą┤ąĖą╝ ą▓ ą»čĆą░ąĮą║čā, ą║ ą┤ąĄą┤čā
ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮčā. ąŻąĘąĮą░ąĄą╝, ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ŌĆō ąĮąĄčéŌĆ”
ąöąĄą┤ ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ ąČąĖą╗ ąŠą┤ąĖąĮ ą▓ ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮąŠą╣
ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ ąĖ čĆąŠą┤ąŠą╝ ą▒čŗą╗ ąĖąĘ ą║ąĄčƹȹ░ą║ąŠą▓. ąÆąĄčüąĮąŠą╣ čā ąĮąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╝ąĄčĆą╗ą░ čüčéą░čĆčāčģą░, ąĖ
ą▓čŗčłą╗ą░ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā ą┐ąŠą▓ąŠą┤čā ą║ą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ąĪčéą░čĆąĖą║ ą▓čŗą┤ąŠą╗ą▒ąĖą╗ ąĄą╣ ą║ąŠą╗ąŠą┤čā, čüčģąŠčĆąŠąĮąĖą╗,
ą║ą░ą║ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī čā čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåąĄą▓, ąĖ ą▓ čüąĄą╗čīčüąŠą▓ąĄčé ąĮąĖ čüą╗ąŠą▓ą░. ąźą▓ą░čéąĖą╗ąĖčüčī
čéą░ą╝ ŌĆō čüą╗čāčģ ą┤ąŠčłąĄą╗, ŌĆō ąĮą░ą┤ąŠ čüą╝ąĄčĆčéčī ąŠč乊čĆą╝ąĖčéčī, čćč鹊ą▒čŗ ą▓čĆą░čć ąĄąĄ ą┐ąŠą┤čéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗,
ą░ ą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮą░čÅ čāąČ ą╝ąĄčüčÅčå ą║ą░ą║ ą▓ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ. ąóčāčé ą║ą░ą║ąŠąĄ‑č鹊 ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĖąĘ čĆą░ą╣ąŠąĮą░
ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ, ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čÄ čüąĄą╗čīčüąŠą▓ąĄčéą░ ą▓čŗą│ąŠą▓ąŠčĆ ą┤ą░ą╗ąĖ, ąĘą░ąŠą┤ąĮąŠ
č乥ą╗čīą┤čłąĄčĆčā, ąĖ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčī ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║. ąÉ ąĘą┤ąĄčüčī ąĄčēąĄ
ąŠą┤ąĖąĮ čüą╗čāčģ: ą▒čāą┤č鹊 ą┤ąĄą┤ ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ čüą▓ąŠčÄ čüčéą░čĆčāčģčā čāą▒ąĖą╗. ąÜą░ą║ ąĮąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖ,
čéčĆąĄčéčīčÄ ąĘą░ čüą▓ąŠčÄ ąČąĖąĘąĮčī čģąŠčĆąŠąĮąĖčé, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, ąĘą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ čüąĄą╝čī ą╗ąĄčé. ąÜąŠą╝čā‑č鹊
čŹč鹊 ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ą╝ąĮąŠą│ąŠ, ąĖ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĄ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā ą┤ąĄą╗čā
ą▓ąŠąĘą▒čāą┤ąĖą╗ąĖ, ą░ čüčéą░čĆąĖą║čā čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą║ąŠą╗ąŠą┤čā ą▓čŗą║ą░ą┐čŗą▓ą░čéčī ą▒čāą┤čāčé ąĖ
čüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī, ąĮąĄ čāą▒ąĖčéą░čÅ ą╗ąĖ. ąöąĄą┤ ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ąĮąŠčćčīčÄ ą║ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčā ŌĆō
čüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░čéčīčüčÅ. ąÜąŠą│ą┤ą░ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗ąĄą╝ čüąĄą╗čīčüąŠą▓ąĄčéą░
ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ, ąŠąĮąĖ ą┤čĆčāąČąĖą╗ąĖ, ą▓ ą│ąŠčüčéąĖ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā ąĄąĘą┤ąĖą╗ąĖ. ą¤ąŠč鹊ą╝
čüąĄą╗čīčüąŠą▓ąĄčé ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ąĖ ą▓ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÄ ąĘą░ čüąŠčĆąŠą║ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░
ąĮą░ąĘąĮą░čćąĖą╗ąĖ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤ąĖčĆąŠą╝ ą┐ąŠąČą░čĆąĮąĖą║ąŠą▓, ąĖ ą┤čĆčāąČą▒ą░ ą║ą░ą║‑č鹊 čĆą░ąĘą▓ą░ą╗ąĖą╗ą░čüčī. ąØąŠ č鹊čé
ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ą║čĆą░ą┤čāčćąĖčüčī ąŠčé čüąŠčüąĄą┤ąĄą╣, ąĖ čüčĆą░ąĘčā ą║ą░čÅčéčīčüčÅ ąĮą░čćą░ą╗, ąŠą┐čĆą░ą▓ą┤čŗą▓ą░čéčīčüčÅ:
ŌĆō ąöą░ ąĮąĄ čāą▒ąĖą▓ą░ą╗ čÅ ąĄąĄ! ąĪą░ą╝ąĖ ąŠąĮąĖ
ą┐ąŠą╝ąĖčĆą░čÄčé. ą£ąĄąĮčÅ čüą╝ąĄčĆčéčī ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą▒ąĄčĆąĄčé, ą░ čüčéą░čĆčāčģąĖ ą╝čĆčāčé. ąóą░ą║ ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░čé čÅ
ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčé?
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗ ąĄą│ąŠ, čāč鹥賹Ėą╗ ąĖ
ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ ą┤ąŠą╝ąŠą╣. ąØą░čāčéčĆąŠ ą┐čĆąĖą╝čćą░ą╗čüčÅ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čī ŌĆō ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ ąĄčēąĄ ą┐ą░čĆąĄąĮčī,
ąĮąĄąĘą┤ąĄčłąĮąĖą╣, ąĖ čü čĆą░čüčüą┐čĆąŠčüą░ą╝ąĖ: ą╝ąŠą╗, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą╗ąĖ ą┤ąŠą▓ąĄčĆčÅčéčī ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮčā? ąźąŠčéčī ąĖ
ąĘą░ ą┤ąĄą▓čÅąĮąŠčüč鹊 ąĄą╝čā, ą░ ą║čĆąĄą┐ą║ąĖą╣ ąĄčēąĄ, ą║ą░ą║ čüą╝ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą┐ąĄąĮčī. ąÜč鹊 ąĄą│ąŠ ąĘąĮą░ąĄčé, ą▓
čüąĄčĆą┤čåą░čģ čłą░čĆą░čģąĮąĄčé ą║čāą╗ą░ą║ąŠą╝ čüčéą░čĆčāčłąŠąĮą║čā, ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą╗ąĖ ąĄą╣ ąĮą░ą┤ąŠ? ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąŠąĮ
ąĘą╗ąŠą╣ ą▒čŗą▓ą░ąĄčé, ąĮąĄčĆą▓ąĮčŗą╣. ąÜą░ą║ ąĮąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖ, ą▓ čéčĆąĖą┤čåą░čéčŗčģ ą│ąŠą┤ą░čģ ą▓ čéčÄčĆčīą╝ąĄ
čüąĖą┤ąĄą╗, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓ čüčüčŗą╗ą║ąĄ ąČąĖą╗, ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆą░čüą║čāą╗ą░čćąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
ą┐ąŠčüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ ąĖ ą┐ąŠčĆčāčćąĖą╗čüčÅ ąĘą░ čüčéą░čĆąĖą║ą░, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖ čā čüą░ą╝ąŠą│ąŠ ą▓ ą┤čāčłąĄ
ą▓ąŠčĆąŠčģąĮčāą╗čüčÅ č湥čĆą▓čÅč湊ą║. ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čüčéą░ą╗ąŠ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, čćč鹊 ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ ąĖąĘ
ą»čĆą░ąĮą║ąĖ ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗. ąŻčłąĄą╗ ą║čāą┤ą░‑č鹊 ŌĆō ąĖ čü ą║ąŠąĮčåą░ą╝ąĖ. ąźąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ą░ čā ąĮąĄą│ąŠ ą║ąŠčé
ąĮą░ą┐ą╗ą░ą║ą░ą╗ ŌĆō ą┐čÅč鹊ą║ čāą╗čīąĄą▓ ą┤ą░ ą┐čÅč鹊ą║ ąŠą▓ąĄčå čü ą║ąŠčĆąŠą▓ąŠą╣, ąĮąŠ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ą│ą╗ą░ąĘ
ąĮčāąČąĄąĮ. ąÉ čéčāčé ąĮąĄą┤ąĄą╗čÄ ąĮąĄčé, ą▓č鹊čĆčāčÄ, čéčĆąĄčéčīčÄ. ąĪą║ąŠčéąĖąĮą░ čüą░ą╝ą░ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ čģąŠą┤ąĖčé,
ą┐č湥ą╗čŗ, ą┐ąŠą┤ąĖ, ąŠą┤ąĖčćą░ą╗ąĖ, ą░ ą║ąŠą▒ąĄą╗čī, ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąĖąĘą▓čŗą╗čüčÅŌĆ” ą£ąŠąČąĄčé, čāą╝ąĄčĆ ą│ą┤ąĄ
čüčéą░čĆąĖą║ ąĖ ą╗ąĄąČąĖčé ąĮąĄą┐ąŠčģąŠčĆąŠąĮąĄąĮąĮčŗą╣?
ą×čé čćčāąČąŠą│ąŠ čāą╗čīčÅ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠčłą╗ąĖ
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ, ą╗ąŠą╝ąĖą╗ąĖčüčī čćą░čüą░ ą┐ąŠą╗č鹊čĆą░ ą┐ąŠ ą▒čāčĆąĄą╗ąŠą╝ąĮąĖą║čā, ą░ ą▓ą░ą╗ąĄąČąĮąĖą║
ą▒čŗą╗ ąŠčüąŠą▒čŗą╣, ąĄą╗ąŠą▓ąŠ‑ą┐ąĖčģč鹊ą▓čŗą╣ ŌĆō ą▓čŗčüąŠčģčłąĖą╣ ąĮą░ ą║ąŠčĆąĮčÄ, ą░ąČ ąĘą▓ąĄąĮąĄą╗ ąĖ
č鹊ą┐ąŠčĆčēąĖą╗čüčÅ čüčāčćčīčÅą╝ąĖ, ą║čĆąĄą┐ą║ąĖą╝ąĖ, čćč鹊 čüą░ą╝ąŠą║ąŠą▓ąĮčŗąĄ ą│ą▓ąŠąĘą┤ąĖ; č鹊čé ąČąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣
ą│ąĮąĖą╗ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ, ą▒čŗą╗ ąĄčēąĄ ąŠą┐ą░čüąĮąĄąĄ. ąĪą│ąĮąĖą▓čłą░čÅ ą┐ąŠą┤ ą║ąŠčĆąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąŠąĮčī
ą┐čĆąĄą▓čĆą░čēą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą╝čŗą╗ąŠ, ąĖ čāą┐ą░čüąĖ ą▒ąŠą│ ąĮą░čüčéčāą┐ąĖčéčī ąĮą░ čéą░ą║ąŠąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąŠ.
ąÆčŗą▒čĆą░ą▓čłąĖčüčī ąĮą░ čüčéą░čĆčāčÄ čÅčĆą░ąĮčüą║čāčÄ ą┤ąŠčĆąŠą│čā, ąŠąĮąĖ čüąĄą╗ąĖ ą┐ąŠą║čāčĆąĖčéčī. ąÆąĄčĆąĮąĄąĄ,
ą║čāčĆąĖą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ, ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĘą░ą▒ąŠčéąĖą╗čüčÅ ąŠ ą┐ąŠąČą░čĆąĮąŠą╣ ą▒ąĄąĘąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ. ąÆą┤ąŠą╗čī
ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖ ą┐ąŠ čüčéą░čĆčŗą╝ ą│ą░čĆčÅą╝ čāąČąĄ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī ą╝ąŠą╗ąŠą┤čŗąĄ ą║ąĄą┤čĆąŠą▓ąĮąĖą║ąĖ, čüą░ąČąĄąĮąĮčŗąĄ
ą╗ąĄčé ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī ąĮą░ąĘą░ą┤.
ąśą┤čéąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ čüčéą░ą╗ąŠ
ą┐čĆąĖčÅčéąĮąŠ, č鹥ą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čü ąŠą▒ąĄąĖčģ čüč鹊čĆąŠąĮ ą│čāčüč鹊 ą┐ąŠčłčāą╝ą╗ąĖą▓ą░ą╗ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ ą║ąĄą┤čĆą░čć. ąś
ą╝čŗčüą╗ąĖ čā ąÆą░čüąĖą╗ąĖčÅ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčćą░ ą┐ąŠą▓ąĄčüąĄą╗ąĄą╗ąĖ, ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ ą▒čŗčüčéčĆąĄą╣. ą¤čĆąŠą╣ą┤ąĄčé
ąĄčēąĄ ą╗ąĄčé ą┐čÅčéčīą┤ąĄčüčÅčé, ą┤čāą╝ą░ą╗ ąŠąĮ, ąĖ ą▓čüčÅ čŹčéą░ ąĖčüč鹥čƹʹ░ąĮąĮą░čÅ ą▒ąĄą┤ą░ą╝ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÅ
ąĘą░čĆą░čüč鹥čé, ą┐ąŠą│ąĮąĖąĄčé ą▓ą░ą╗ąĄąČąĮąĖą║, čāą┐ą░ą┤ąĄčé ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ čüčāčģąŠčüč鹊ą╣, ąĖ čüčĆąŠą┤čā ąĮąĄ
ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ąĄčłčī, čćč鹊 ąĘą┤ąĄčüčī čüąŠčģą░čéčŗąĄ ąĮąŠą│ąĖ ą╗ąŠą╝ą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą║čĆąŠą╝ąĄ ą┤čÅčéą╗ąŠą▓ ąĖ
ą┐čéąĖčåčŗ‑č鹊 ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą╣ ąĮąĄ ą▓ąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī. ąś ą┐ą░čüąĄą║ąĖ ąĖčüč湥ąĘąĮčāčé, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĮąĄ
čüčéą░ąĮąĄčé ą║ąĖą┐čĆąĄčÅ. ą×čüčéą░ąĮąĄčéčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘąŠą╗ą░ ąĖ čāą│ąŠą╗čī. ąŚą░čéčÅąĮąĄčéčüčÅ ą┤ąĄčĆąĮąŠą╝,
ą╝čģąŠą╝, čüą╗ąŠąĄą╝ ą┐ą░ą▓čłąĄą╣ ą╗ąĖčüčéą▓čŗ, ąĮąŠ ąŠčüčéą░ąĮąĄčéčüčÅ. ąÜąŠą│ą┤ą░ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą║ąŠą┐ą░ą╗
ąŠą╝čłą░ąĮąĖą║, ąĮą░ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą╝ąĄčéčĆą░ ąĮą░čéą║ąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ č鹊ą╗čüčéčŗą╣ čüą╗ąŠą╣ čāą│ą╗čÅ ąĖ
ąĘąŠą╗čŗ. ąöąŠą╗ą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░ą╗ ąĄą│ąŠ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, č鹥čĆ ą▓ ą╗ą░ą┤ąŠąĮčÅčģ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ čāą│ą╗ąĄą╝ ą┐ąĖčüą░čéčī
ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒ąŠą▓ą░ą╗. ąŻą│ąŠą╗čī ą┐ąĖčüą░ą╗ ąĖ ąĮą░ ą▓ąĖą┤ ą▒čŗą╗ čüąŠą▓čüąĄą╝ čüą▓ąĄąČąĖą╝ŌĆ” ąś č鹊ą│ą┤ą░ ąĄčēąĄ
ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą┐ąĄčćą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓čŗą▓ąŠą┤, čćč鹊 čā čŹč鹊ą│ąŠ ą║čāčüą║ą░, čā čŹč鹊ą╣
ą║čĆą░čÄčłą║ąĖ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ, ą▓ąĄčćąĮą░čÅ čüčāą┤čīą▒ą░: ą│ąĖą▒ąĮčāčéčī ąŠčé ąĮą░ą┐ą░čüč鹥ą╣, ą│ąŠčĆąĄčéčī ą▓ ąŠą│ąĮąĄ ąĖ
ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ čüčćąĖčéą░čéčīčüčÅ ą╝ąĄčüč鹊ą╝ ą│ą╗čāčģąĖą╝ ąĖ ą┐čĆąŠą║ą╗čÅčéčŗą╝.
ąØąŠ čćč鹊 ąĘą░ čćčāą┤ąŠ! ąŁčéą░ ą│ą╗čāčģą░čÅ, ą╝ąĄčĆčéą▓ą░čÅ
ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗ą░čüčī ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╝ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą╝, čĆąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ ą┤ą╗čÅ ąĘą┤ąĄčłąĮąĖčģ
ą╝ąĄčüčé, ąĮąĄą▓ąĖą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ŌĆō ą╝ąĄą┤. ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé ąČąĄ, ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ čüčćą░čüčéčīčÅ, ą┤ą░ ąĮąĄčüčćą░čüčéčīąĄ
ą┐ąŠą╝ąŠą│ą╗ąŠ.
ą¤ąŠą┤ čŹčéąĖ čüčéą░čĆčŗąĄ, ą║ą░ą║ ą┤ąŠčĆąŠą│ą░, ąĮąŠ čģąŠčĆąŠčłąĖąĄ
ą╝čŗčüą╗ąĖ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠčéą╝ą░čģą░ą╗ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą┐čÅčéčī. ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗
čĆą░čüčüčéą░ą▓ą░čéčīčüčÅ čü ą┐ąĖą╗ąŠą╣, čüčćąĖčéą░čÅ, čćč鹊 ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī‑ąŠą▒ąŠčĆąŠč鹥ąĮčī, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüą╗ąĄą┤ąĖčé
ąĘą░ ąĮąĖą╝ąĖ, ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĄąĄ čāą┐čĆąĄčé, ąĖ čāąČ ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ čāčéą░čēąĖą╗ čĆąŠąĄą▓ąĮčÄ,
ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčŗą╝ ąĮą░ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ.
ąÜąĄą┤čĆąŠą▓ąĮąĖą║ąĖ ą║ąŠąĮčćąĖą╗ąĖčüčī, ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī
čüąŠčüąĮąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠčüą░ą┤ą║ąĖ, ą┤ąŠ čüąĄą╣ ą┐ąŠčĆčŗ čģąŠą╗ąĖą╝čŗąĄ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮčüą║ąĖą╝ ą╗ąĄčüąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝. ąōąŠą┤ą░
ą┤ą▓ą░ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠ, ą║ą░ą║ ąĘą░ą║čĆčŗą╗ąĖ ą║ąŠčĆą┤ąŠąĮ ą▓ ą»čĆą░ąĮą║ąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ
ąĖąĘ‑ąĘą░ ą┐ąŠą╗čāčüąŠčéąĮąĖ ą│ąĄą║čéą░čĆąŠą▓ čüąŠčüąĮčÅą║ą░. ą¤ąŠąČą░ą╗čāą╣, ąĖ čüąĄą╣čćą░čü ą▒čŗ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ąĖ, ą┤ą░
čÅčĆą░ąĮčüą║ąĖą╣ ą╗ąĄčüąĮąĖą║ čāč鹊ąĮčāą╗, ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ ąČąĄ ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ ąĮąĄ
ąĮą░čłą╗ąŠčüčī. ąŁč鹊 ą▓ąĄą┤čī ąĮą░ą┤ąŠ čåąĄą╗ąŠąĄ ą╗ąĄč鹊 ą┐ąŠąČą░čĆčŗ čéčāčłąĖčéčī, ą░ ą╗ąĄč鹊ą╝ čüčéčĆą░ą┤ą░ čā
ą▓čüąĄčģ ŌĆō ą┐ą░čüąĄą║ąĖ. ąĪ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ ą┤ąĄą┤ ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ ąČąĖą╗ ą▓ ą»čĆą░ąĮą║ąĄ ąŠą┤ąĖąĮ. ąś ą▓ąŠčé,
ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ŌĆ”
ą×čüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī čéčĆąĖ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠčéą░ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░
ą┐ąŠčüą░ą┤ąŠą║. ąöą░ą╗čīčłąĄ čłą╗ąĖ ąĘą░čĆąŠčüčłąĖąĄ ąŠčüąĖąĮąĮąĖą║ąŠą╝ ą┐ąŠą╣ą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čÅčĆą░ąĮčüą║ąĖąĄ ą┐ąŠą╗čÅ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĘą░ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╝ ąČąĄ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠč鹊ą╝ ą┐ąŠčüą░ą┤ąŠą║ ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī. ąóąŠčćąĮąĄąĄ, ą▓ąĄčüčī
ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣ čüąŠčüąĮčÅą║ ą┐ąŠ ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖ ą▒čŗą╗ ąĮą░čćąĖčüč鹊 ą▓čŗčĆčāą▒ą╗ąĄąĮ ąĖ čüą╗ąŠąČąĄąĮ ą▓
ą║čāčćąĖ. ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ čüą▓ąŠąĖą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĖą╗. ą×ąĮ čüą▓ąĄčĆąĮčāą╗ ąĮą░
ąŠą▒ąŠčćąĖąĮčā, ą┐ąŠčéčĆąŠą│ą░ą╗ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣, ą▓ čĆčāą║čā č鹊ą╗čēąĖąĮąŠą╣, ą┐ąĄąĮąĄą║. ąĀčāą▒ąĖą╗
ą║č鹊‑č鹊 ąĮąĄčāą╝ąĄą╗ąŠ, čéčÅą┐ą░ą╗ č鹊ą┐ąŠčĆąŠą╝ ą▓ą║čĆąĖą▓čī, čćą░čüč鹊, ą║ąŠą│ą┤ą░ čéą░ą║ąŠąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓čåąĄ
ą╝ąŠąČąĮąŠ čüąĮąĄčüčéąĖ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ą╝ą░čģąŠą╝. ąĀčÅą┤čŗ ą┐ąĮąĄą╣ čéčÅąĮčāą╗ąĖčüčī ąĮą░čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ
ą│ą╗ą░ąĘąŠą╝, ąĖ ą▓čüąĄ čüą▓ąĄąČąĖąĄ.
ŌĆō ąÉčĆč鹥ą╝ąĖą╣! ŌĆō ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ. ŌĆō ąóčŗ
ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĖ, ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĖ‑ą║ą░!
ą¤čĆąĖą▒ąĄąČą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░ čü ą┐ąĖą╗ąŠą╣, ą▓čŗčéą░čĆą░čēąĖą╗
ą│ą╗ą░ąĘą░.
ŌĆō ąśčłčī ąĮą░čĆčāą▒ąĖą╗‑č鹊 čüą║ąŠą║ąŠ! ąÜą░ą║ ą╗ąĖč鹊ą▓ą║ąŠą╣
čüą║ąŠčüąĖą╗!
ŌĆō ąöą░ ąĖą┤ąĖ čéčŗŌĆ” ŌĆō ą▓čŗčĆčāą│ą░ą╗čüčÅ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ. ŌĆō
ąÆąĖą┤ąĖčłčī ŌĆō čĆčāą▒ą╗ąĄąĮąŠ? ą£ąĄą┤ą▓ąĄą┤čī č鹥ą▒ąĄ čĆčāą▒ąĖčéčī čüčéą░ąĮąĄčé?
ŌĆō ąÉ čćč鹊? ŌĆō ąĮąĄ čüą╝čāčéąĖą╗čüčÅ ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō
ą×ą▒ąŠčĆąŠčéąĮčÄ‑č鹊 čĆą░ąĘ ą┐ą╗čÄąĮčāčéčī. ąÆąĘčÅą╗ č鹊ą┐ąŠčĆ ŌĆō ąĖ ą┤čāą╣ ąĮąĄ čüč鹊ą╣ŌĆ” ąōąŠą▓ąŠčĆčÄ ąČąĄ,
ą┐čāą│ąŠą▓ą║čā ąĘą░čĆčÅą┤ąĖčéčī, ą╝ąĄą┤ąĮčāčÄ, ąĖ ą┐čāą│ąŠą▓ą║ąŠą╣ ąĄą│ąŠ čüčéčĆąĄą╗ąĖčéčī.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ ąĖ ąĘą░čłą░ą│ą░ą╗ ą┐ąŠ
ą▓čŗčĆčāą▒ą║ąĄ. ąÆčüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗, ą║ą░ą║ ą▓ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąŠą▒čÅąĘą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī
ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ą╗ąĄčüąŠą┐ąŠčüą░ą┤ą║ąĖ. ąś ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗, ąŠčé čüčéą░čĆąĖą║ąŠą▓ ą┤ąŠ čłą║ąŠą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓ ŌĆō
ą▓čüąĄčģ, ą▓čŗą▓ąŠąĘąĖą╗ ąĮą░ ą│ą░čĆčī, ąĮą░čĆąĄąĘą░ą╗ ą┐ą╗ą░ąĮ ŌĆō ąŠčé čüąĖčģ ą┤ąŠ čüąĖčģ, čģą╗ąŠą┐ąŠčéą░ą╗, čćč鹊ą▒
ąŠą▒ąĄą┤ ą▓ąŠą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘą╗ąĖ, čćč鹊ą▒ ą╗ąŠą┐ą░čéčŗ čā ą▓čüąĄčģ ą▒čŗą╗ąĖ. ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮčüą║ąĖąĄ č鹊ą│ą┤ą░
ąĄčēąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą┤čĆčāąČąĮąŠ: ą▓ ą╗ąĄčü čłą╗ąĖ, ąĖąĘ ą╗ąĄčüčā ą┐ąĄą╗ąĖ, ą║ą░ą║ ą▓ ą║ąŠą╗čģąŠąĘąĮčŗąĄ
ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░. ą¤ąŠč鹊ą╝ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠčéčī ąŠčüąĖąĮąĮąĖą║, ąĮąŠ čāąČąĄ ą▒ąĄąĘ ąŠčģąŠčéčŗ ŌĆō ą┐ą░čüąĄą║ąĖ ą▓
ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ čĆąŠčüą╗ąĖ ą║ą░ą║ ą│čĆąĖą▒čŗ. ąÉ čāąČ ą┐čĆąŠčĆąĄąČąĖą▓ą░čéčī ą▓čŗą┤čāčĆąĖą▓čłąĖąĄ ą▓
č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖą╣ čĆąŠčüčé čüąŠčüąĮčÅą║ąĖ ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ čüąĖą╗ą║ąŠą╝ ąĘą░čéčÅąĮčāčéčī ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čłąĄą╗ ą▓ ą┐čĆąĄą┤čćčāą▓čüčéą▓ąĖąĖ ą▒ąĄą┤čŗ.
ąØą░ą║ąĖą┐ą░ą╗ąŠ čĆą░ąĘą┤čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ čéąĖčģą░čÅ ąĘą╗ąŠčüčéčī: ą║č鹊 čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ čĆčāą▒ąĖčéčī? ąÜč鹊
ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗? ąöą░ ąĖ ąĘą░č湥ą╝ čĆčāą▒ąĖčéčī? ąóąŠą╗čīą║ąŠ‑č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░čĆą░čüčéą░čéčī čüčéą░ą╗ąŠ!..
ą×ąĮ čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ. ą¤ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ, ą▓ąŠą╗ąŠčćą░
ą┐ąĖą╗čā, ą▒ąĄąČą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░ čü čłąĖčĆąŠą║ąŠ čĆą░ąĘąĖąĮčāčéčŗą╝ čĆč鹊ą╝.
ŌĆō ąæą░čéčÅ‑ą░! ŌĆō ąŠčĆą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆō ą¤ąŠąČą░čĆ! ą¤ąŠąČą░čĆ
čćčāčÄ‑čÄ‑čā!
ŌĆō ąōą┤ąĄ? ŌĆō ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗čüčÅ, ąĮčÄčģąĮčāą╗
ą▓ąŠąĘą┤čāčģ. ŌĆō ą¦ąĄą│ąŠ ąŠčĆąĄčłčī?
ąÉčĆčéčÄčłą░ ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ ąĮąŠąĘą┤čĆčÅą╝ąĖ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ, čāą║ą░ąĘą░ą╗
ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤.
ŌĆō ąóą░ą╝! ąöčŗą╝ ŌĆō ąĮčÄčģą░ą╣! ąØčā?
ąöčŗą╝ąŠą╝ ąĄčēąĄ ąĮąĄ ą┐ą░čģą╗ąŠ. ąĀą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 čćčāčéą║ąĖą╣
ąĮąŠčü ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ ą┐ąŠąČą░čĆąĮąĖą║ą░ čāą╗ąŠą▓ąĖą╗ ąĄą│ąŠ; ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮąĄ ą»čĆą░ąĮą║ąĖ ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ
č湥čĆąĮčŗą╣ ą┤čŗą╝ąĮčŗą╣ čüč鹊ą╗ą▒ ąĖ čāąČąĄ ą┐ą╗čÄčēąĖą╗čüčÅ, ąĘą░ą║čĆčāčćąĖą▓ą░čÅčüčī ą▓ ą│čĆąĖą▒.
ąÉčĆčéčÄčłą░ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ ą┐ąĖą╗čā ąĖ čéčÅąČąĄą╗ąŠ ąĘą░ą▒čāčåą║ą░ą╗
čüą░ą┐ąŠą│ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ, ą┐ąŠą╝ąĄą┤ą╗ąĖą▓, ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ čüą╗ąĄą┤ąŠą╝.
ą»čĆą░ąĮą║ą░, ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮą░čÅ ą▓čÅčéčüą║ąĖą╝ąĖ
ą┐ąĄčĆąĄčüąĄą╗ąĄąĮčåą░ą╝ąĖ, čüčéčĆąŠąĖą╗ą░čüčī ąĄą┤ąĖąĮąŠąČą┤čŗ ąĖ ąĮą░ą▓ąĄą║ąĖ. ąśąĘą│ąŠą╗ąŠą┤ą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ ą┐ąŠ
ą┤ą░čĆą╝ąŠą▓ąŠą╣ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ąĖ ą╗ąĄčüčā ą╝čāąČąĖą║ąĖ čĆčāą▒ąĖą╗ąĖ ąĖąĘą▒čŗ čü čĆą░ąĘą╝ą░čģąŠą╝, čü čĆą░čüč湥č鹊ą╝ ąĮą░
ą║čĆąĄą┐ą║ąŠąĄ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ąŠ ąĖ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ čüąĄą╝čīčÄ. ąÆąĄąĮčåčŗ čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▓ ą┤ą▓ą░ ąŠą▒čģą▓ą░čéą░, ąĖ
ą┐ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄčéčī‑č鹊 čüčéčĆą░čłąĮąŠ, ąĮąĄ č鹊 čćč鹊 čüčéčĆąŠąĖčéčī ąĖąĘ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą╗ąĄčüą░.
ąÆąŠčüąĄą╝čī‑ą┤ąĄčüčÅčéčī ą▓ąĄąĮčåąŠą▓ ŌĆō ąĖ ąĖąĘą▒ą░. ąöą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą»čĆą░ąĮą║ąĄ čüč鹊čÅčéčī ą▓ąĄčćąĮąŠ.
ąÜą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░ą║čĆčŗą╗čüčÅ ą▓ ąĪčéčĆąĄą╝čÅąĮą║ąĄ ą╗ąĄčüą┐čĆąŠą╝čģąŠąĘ, ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ą░ ąĖ ą»čĆą░ąĮą║ą░. ąĢąĄ
ąČąĖč鹥ą╗ąĖ ą┐ąŠąĄčģą░ą╗ąĖ ą▓ čĆą░ą╣čåąĄąĮčéčĆ. ąÉ ąĖąĘą▒čŗ ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ čüč鹊čÅą╗ąĖ ą▓ą┤ąŠą╗čī ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣
čÅčĆą░ąĮčüą║ąŠą╣ čāą╗ąĖčåčŗ ąĖ ą┐ąĄčćą░ą╗čīąĮąŠ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ąĖ ąĮą░ ą┤ąŠčĆąŠą│čā ą│ą╗ą░ąĘąĮąĖčåą░ą╝ąĖ ąŠą║ąŠąĮ, ą║ą░ą║
ą┐ąŠąČąĖą▓čłąĖąĄ ąĮą░ čüą▓ąĄč鹥 ą▓ą┤ąŠą▓čŗ.
ąÜą░ąČą┤čŗą╣ ą│ąŠą┤ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÄ ąŠą┐ą░čģąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣
ą┐ąŠą╗ąŠčüąŠą╣, ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ąĮąĄ ąŠčé ąČąĄą╗ą░ąĮąĖčÅ čāą▒ąĄčĆąĄčćčī ąĄąĄ ąŠčé ą┐ąŠąČą░čĆą░, ą░ čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą┐ąŠ
ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ąĄ, ąĖ ą┤ąĄą┤ ą×čēąĄą┐ą║ąĖąĮ čüą░ąČą░ą╗ ąĮą░ čŹč鹊ą╣ ą┐ą░čģąŠč鹥 ą║ą░čĆč鹊賹║čā.
ąÜąŠą│ą┤ą░ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čü ąÉčĆčéčÄčłąĄą╣ ą┤ąŠčüčéąĖą│ą╗ąĖ
čüčéą░čĆąŠą╣ čÅčĆą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą┐ąŠčüą║ąŠčéąĖąĮčŗ, ąĮą░čćą░ą╗ąŠ čüą╝ąĄčĆą║ą░čéčīčüčÅ. ąöčŗą╝ąĮčŗą╣ čüč鹊ą╗ą▒ ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą╗,
ąŠą║čĆą░čüąĖą╗čüčÅ čüąĮąĖąĘčā ą▒ą░ą│čĆąŠą▓čŗą╝ąĖ ąŠčéčüą▓ąĄčéą░ą╝ąĖ, ąĖ čüčéą░ą╗ąŠ čÅčüąĮąŠ, čćč鹊 ą│ąŠčĆąĖčé ą┤ąŠą╝,
ą┐čĆąĖč湥ą╝ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąĮą░ ą▒ąĄą│čā čĆą░čüčüčćąĖčéą░ą╗, č湥ą╣ čŹč鹊 ą╝ąŠą│ ą▒čŗčéčī ą┤ąŠą╝ ŌĆō
ąśą▓ą░ąĮą░ ą£ą░ą╗čŗčłąĄą▓ą░. ąōąŠčĆąĄą╗ąŠ ąĮą░ąĖčüą║ąŠčüąŠą║ ąŠčé ą║ą╗čāą▒ą░, ą│ą┤ąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ ą│ąŠą┤čŗ ą╗ąĄčüčģąŠąĘ
ą▓čÅąĘą░ą╗ ą╝ąĄčéą╗čŗ. ąÉ čüą░ą╝ ą║ą╗čāą▒ čüč鹊čÅą╗ ą▓ ą║ąĄą┤čĆąŠą▓ąŠą╣ čĆąŠčēąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čüą┐ą░čüąĄąĮąĮąŠą╣ ąŠčé
čłąĄą╗ą║ąŠą┐čĆčÅą┤ą░, ąĖ ąŠčéą▒ą╗ąĄčüą║ąĖ ą┐ąŠąČą░čĆą░ ąŠčéčüą▓ąĄčćąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓ ąĄąĄ č鹥ą╝ąĮčŗčģ
ą║čĆąŠąĮą░čģ.
ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĘą░ą┐ą░ą╗ąĖą╗čüčÅ, ą┤čŗčłą░ą╗ čéčÅąČąĄą╗ąŠ,
ąĘą░ą║čĆąŠą▓ąĄąĮąĄą╗ąĖ ą▓čŗą┐čāą║ą╗čŗąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░. ąØą░ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčā ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊
ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĖ ą▓ą┐čĆčÅą╝čī ąĮąĄąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╣, č鹊čćąĮąĄąĄ, ąĮąĄ čéąĖčģąĖą╣ ą┤čāčĆą░č湊ą║ ŌĆō ą░ ą▒čāą╣ąĮčŗą╣,
čüčāą╝ą░čüčłąĄą┤čłąĖą╣. ąĪčéą░ą╗ąŠ ąĮąĄ ą┐ąŠ čüąĄą▒ąĄ. ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą╝ą░čłąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠ
ą┐čĆąĖąŠčéčüčéą░ą╗. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ č鹊čé ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą┐čĆąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ:
ŌĆō ąæą░čéčī, čéčŗ ą║ ą┤ąĄą┤čā ą▒ąĄą│ąĖ, ą╝ąŠąČąĄčé, ą▒ą░ą│ąŠčĆ
ą┤ą░čüčé. ąśą╗ąĖ ą▓ąĄą┤čĆą░.
ąś čüčĆą░ąĘčā ąŠčéą╗ąĄą│ą╗ąŠ. ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ
ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąŠčüčī, ą║ą░ą║ čāčćąĖč鹥ą╗čī ąÆąĄąČąĖąĮ ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗, čćč鹊 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĖčüą┐ąŠą║ąŠąĮ
ą▓ąĄą║ąŠą▓ ą▒ąŠąĖčéčüčÅ ąŠą│ąĮčÅ ąĖ ą┐čĆąĖ ą▓ąĖą┤ąĄ ąĄą│ąŠ ą▒čāą┤č鹊 ą┤ąĖčćą░ąĄčé, ą▒čāą┤č鹊 ą▓ ąĮąĄą╝
ą┐čĆąŠčüčŗą┐ą░čÄčéčüčÅ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĖąĄ ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čéčŗ: ąŠąĮ ą╗ąĖą▒ąŠ ą▒ąĄąČąĖčé, ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čĆčÅč湥čéčüčÅ. ąś ą▒čāą┤č鹊
ąŠą│ąŠąĮčī čüą┤ąĄą╗ą░ą╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ŌĆ”
ąöąŠ ą┐ąŠąČą░čĆą░ ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ čüč鹊, ą║ąŠą│ą┤ą░
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┐čŗą╗ą░čÄčēąĄą│ąŠ, ą┤ąŠą╝ą░ č鹊ą╗ą┐čā ąĮą░čĆąŠą┤ą░. ąøčÄą┤ąĖ
ą▒ąĄą│ą░ą╗ąĖ, čüčāąĄčéąĖą╗ąĖčüčī, ąĖ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮčŗą╝, čćč鹊
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐čĆąĖąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ, ą┐ąŠčłąĄą╗ čłą░ą│ąŠą╝. ąÉ ąÉčĆčéčÄčłą░ ąĘą░čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ, ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗
čĆą░ą┤ąŠčüčéąĮąŠ:
ŌĆō ąæą░čéčÅ! ąÆąĄą┤čī ąĖąĘą▒čā‑č鹊 čéčāčłą░čé! ąóčāčłą░čé!
ŌĆō ąØą░čĆąŠą┤‑č鹊 ąŠčéą║čāą┤ą░? ŌĆō čāą┤ąĖą▓ąĖą╗čüčÅ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
ąĖ č鹊ąČąĄ ąĘą░čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ, ąĮą░čéčÅąĮčāč鹊, čéą░ą║, čćč鹊 čüą║čāą╗čŗ čüą▓ąĄą╗ąŠ.
ą×ąĮąĖ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĮąĄ čüą┐ąĄčłą░, ąĖ čü ą║ą░ąČą┤čŗą╝
čłą░ą│ąŠą╝ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗, ą║ą░ą║ čŹčéą░ ą┤čāčĆą░čåą║ą░čÅ čāą╗čŗą▒ą║ą░ ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą╗ąĖčåąĄ
čĆą░čüčéčÅą│ąĖą▓ą░ąĄčé čĆąŠčé, čēąĄą║ąĖ, ą╗ąŠą╝ąĖčé č湥ą╗čÄčüčéčī: ą╗čÄą┤ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠąČą░čĆąĄ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖ čćč鹊‑č鹊
čüčéčĆą░ąĮąĮąŠąĄ, ą┐čāą│ą░čÄčēąĄąĄ, ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮąŠąĄ. ą×ąĮąĖ ą┐ą╗čÅčüą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĮąŠą╣ ąŠą│ąĮąĄą╝
čāą╗ąĖčåąĄ, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, ą▒ąĄčüą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠčćąĮąŠ ą┐čĆčŗą│ą░ą╗ąĖ, ąŠčĆą░ą╗ąĖ ąĖ čģąŠčģąŠčéą░ą╗ąĖ. ą×čéą║čāą┤ą░‑č鹊 ąĖąĘ
čüčāą╝ąĄčĆąĄą║, ą│čāčüčéčŗčģ ąŠčé ąŠą│ąĮčÅ, ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠ čéčĆąĄčüą║čā ą┐čŗą╗ą░čÄčēąĖčģ čüąŠčüąĮąŠą▓čŗčģ ą▒čĆąĄą▓ąĄąĮ ąĖ ą▓
čéą░ą║čé ąĄą╝čā, ą│čĆąĄą╝ąĄą╗ąĖ ą▒ą░čĆą░ą▒ą░ąĮčŗ, ą║č鹊‑č鹊 ą┐ąĄą╗ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą╝ ąĘą╗čŗą╝ ąĖ ąŠčéčćą░čÅąĮąĮčŗą╝. ąÆčüčæ
čŹč鹊 čüą┐ą╗ąĄčéą░ą╗ąŠčüčī, čüą║čĆčāčćąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ ąĄą┤ąĖąĮčŗą╣ čłčāą╝, čéčĆąĄčüą║ ąĖ ą┤čĆąĄą▒ąĄąĘą│, čĆą▓ą░ą╗ąŠčüčī
ą▓ ąĮąĄą▒ąŠ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┤čŗą╝ąŠą╝ ąĖ ąĖčüą║čĆčÅčēąĖą╝čüčÅ ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĄą╝.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ, ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ą┐čĆčŗą│ą░ą╗ąŠ
ąŠą│ąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ą┐čÅčéąĮąŠ.
ŌĆō ąÉčĆč鹥ą╝ąĖą╣! ŌĆō ą┐ąŠąĘą▓ą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆō ąÉčĆč鹥ą╝ąĖą╣!
ąś čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąÉčĆčéčÄčłčā ą▓ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĮąŠą╝ ą║čĆčāą│čā. ą×ąĮ
ą╝ąĄčéą░ą╗čüčÅ čüčĆąĄą┤ąĖ č鹊ą╗ą┐čŗ ąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗:
ŌĆō ąæą░ą│čĆčŗ!! ą¦ąĄą│ąŠ ą▓čüčéą░ą╗ąĖ? ąæąĄą│ąŠą╝ ąĘą░
ą▒ą░ą│čĆą░ą╝ąĖ! ąÆąĄą┤čĆą░? ąōą┤ąĄ ą▓ąĄą┤čĆą░?!
ąøąĖą║čāčÄčēąĖą╣ čłčāą╝ čćčāčéčī čāą│ą░čü ŌĆō ąÉčĆčéčÄčłą░ ą┐ąĖčģą░ą╗
čĆčāą║ą░ą╝ąĖ čéą░ąĮčåčāčÄčēąĖčģ, ą▒čāčĆą░ą▓ąĖą╗ č鹊ą╗ą┐čā, čüą╝ąĄčłąĖą▓ą░ą╗ ąĄąĄ, ąĖ ąĘą▓čāą║ąĖ ą┐ąĄčüąĮąĖ
ą┐ąŠą╗čŗčģąĮčāą╗ąĖ ą│čĆąŠą╝č湥. ąśąĘą▒ą░ č鹥ą┐ąĄčĆčī ąŠą▒čŖčÅą╗ą░čüčī ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĄą╝ ąŠčé ąĮąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▓ąĄąĮčåą░ ą┤ąŠ
ą║čĆčŗčłąĖ, ąĖąĘ ą┐čāčüčéčŗčģ ąŠą║ąŠąĮ ą▓čŗą║ą░čéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒čāčĆčŗąĄ ą║ą╗čāą▒čŗ ąŠą│ąĮčÅ.
ŌĆō ąĀą░čüą║ą░čéčŗą▓ą░čéčī! ŌĆō ąŠčĆą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō ąĪ
ą║čĆčŗčłąĖ čĆą░čüą║ą░čéčŗą▓ą░čéčī! ąĀčāą▒ąĖčéčī ąĘą░ą▒ąŠčĆčŗ! ąæčŗčüčéčĆąĄą╣!.. ąōą┤ąĄ ą╗ąŠą┐ą░čéčŗ? ąĪ ą╗ąŠą┐ą░čéą░ą╝ąĖ
ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ!
ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąŠą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗čüčÅ, čüą╝ąŠčĆą│ąĮčāą╗
ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå ą┐čÅčéąĮąŠ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ŌĆō ą▒čāą┤č鹊 ąŠčé ąĮą░ą▓ą░ąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖąĘą▒ą░ą▓ąĖą╗čüčÅ. ąś čŹčéą░ ą┤ąĖą║ą░čÅ
ą┐ą╗čÅčüą║ą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ąĖ ąŠą│ąĮčÅ čüčéą░ą╗ą░ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠą╣: ąŠąĮ ąŠčēčāčéąĖą╗ ąČą░čĆ ąŠčé ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖ, čāą▓ąĖą┤ąĄą╗
ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüąŠą▒ąŠą╣ ą╗ąĖčåą░ ą┐ą░čĆąĮąĄą╣, ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ čĆąŠąĘąŠą▓ąĄąĮčīą║ąŠąĄ ą┤ąĄą▓č湊ąĮąŠčćčīąĄ ą╗ąĖčćąĖą║ąŠ ŌĆō
ą▓čüąĄą╝ ą╗ąĄčé ą┐ąŠ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī ŌĆō čłąĄčüčéąĮą░ą┤čåą░čéčī. ąś čĆą░ąĘąŠą▒čĆą░ą╗ čüą╗ąŠą▓ą░ ą┐ąĄčüąĮąĖ,
ąĮąĄčüčāčēąĖąĄčüčÅ ąĖąĘ ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝čŗčģ ąĖ ą╝ąŠčēąĮčŗčģ čĆąĄą┐čĆąŠą┤čāą║č鹊čĆąŠą▓:
ąĪąĮąŠą▓ą░ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠčé!
ą¦č鹊 ąŠąĮ ąĮą░ą╝ ąĮąĄčüąĄčé?..
ŌĆō ąĪ ą▓ąĄą┤čĆą░ą╝ąĖ ŌĆō ąĮą░ ąĖąĘą▒čŗ! ŌĆō ą║ąŠą╗ąŠą▒čĆąŠą┤ąĖą╗ ą▓
č鹊ą╗ą┐ąĄ ąĖ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąŠą▓ą░ą╗ ąÉčĆčéčÄčłą░. ŌĆō ą¦č鹊ą▒ ąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║ąĖąĮčāą╗ąŠčüčī!.. ąóčĆą░ą▓čā! ąóčĆą░ą▓čā čü
ąŠą│ąŠčĆąŠą┤ą░ čéčāčłąĖčéčī!
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╗čüčÅ,
ą▒čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą▓ ąĘą░čĆąŠčüą╗ąĖ ą╗ąĄą▒ąĄą┤čŗ ąĖ ą║čĆą░ą┐ąĖą▓čŗ: čéą░ą╝ čāąČąĄ ą▓čüą┐čŗčģąĮčāą╗ ąŠčćą░ąČąŠą║, ą╗ąĖąĘąĮčāą╗
ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠą┤ąĮąĖą╣ ą▒čŗą╗čīąĮąĖą║. ąŚą░č鹊ą┐čéą░ą▓ ąĄą│ąŠ ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ, ąŠąĮ ą┐ąŠą▒ąĄąČą░ą╗ ą║ ą┐čĆąŠą▓ąĖčüčłąĄą╣
ą│ąŠčĆąŠą┤čīą▒ąĄ, ą▓čŗčģą▓ą░čéąĖą╗ č鹊ą┐ąŠčĆ. ąĪčāčģąĖąĄ ąŠčüąĖąĮąŠą▓čŗąĄ ąČąĄčĆą┤ąĖ ą▒čĆčŗą║ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąŠą┤
čāą┤ą░čĆą░ą╝ąĖ, ą┐čĆčāąČąĖąĮąĖą╗ąĖ, ą┐čĆčÅčüą╗ąŠ čüą░ą╝ąŠ čüąŠą▒ąŠą╣ čĆčāčģąĮčāą╗ąŠ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą▓čŗą┐čāčüčéąĖą╗
č鹊ą┐ąŠčĆ, ąŠčéčéą░čēąĖą╗ ą┐čĆąŠą╗ąĄčé ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą║ąŠą╗čīčÅą╝ąĖ ąĖ ą▓čÅąĘą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą┤ąŠčĆąŠą│čā.
ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ąÉčĆčéčÄčłą░ ą║čāą┤ą░‑č鹊 ąĖčüč湥ąĘ ąĖąĘ
ą║čĆčāą│ą░ čéą░ąĮčåčāčÄčēąĖčģ, ą┐ą░čĆąĮąĖ čüą▒ąĖą╗ąĖčüčī ą┐ą╗ąŠčéąĮąĄąĄ, ą┐čĆčŗą│ą░ą╗ąĖ ą░ąĘą░čĆčéąĮąŠ,
čüą░ą╝ąŠąĘą░ą▒ą▓ąĄąĮąĮąŠ, ąĖ ą║č鹊‑č鹊 čāąČąĄ čüčéą░čüą║ąĖą▓ą░ą╗ čĆčāą▒ą░čģčā ŌĆō ąČą░čĆą║ąŠ! ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą│ąŠą╗čŗčģ
čüą┐ąĖąĮ čü ą▓čŗą┐ąĖčĆą░čÄčēąĖą╝ąĖ ą║čĆčŗą╗čŗčłą║ą░ą╝ąĖ ą╗ąŠą┐ą░č鹊ą║ ą┤ąĄčĆą│ą░ą╗ąĖčüčī ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ąĖ
ą┐ąŠą▒ą╗ąĄčüą║ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąŠčé ą┐ąŠčéą░. ąĀąĄą▓ ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖ čüą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ čü čĆąĄą▓ąŠą╝ ą┤ąĖąĮą░ą╝ąĖą║ąŠą▓.
ąĪąĮąŠą▓ą░ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠčé!
ą¦č鹊 ąŠąĮ ąĮą░ą╝ ąĮąĄčüąĄčé?..
ąÆ čåąĄąĮčéčĆąĄ ą┐ą╗čÅčüą░ą╗ą░ č鹊ąĮąĄąĮčīą║ą░čÅ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ą░ čü
ą▓ąŠą╗ąŠčüą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą▓čÅąĘą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ č鹥čüčīą╝ąŠą╣, ą░ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ŌĆō ą┤ą▓ą░ ą┐ą░čĆąĮčÅ: ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣, čĆčŗąČąĖą╣,
ą▓ ą╝ą░ąĄčćą║ąĄ čü ą║ą░ą║ąĖą╝ąĖ‑č鹊 ąĮą░ą┤ą┐ąĖčüčÅą╝ąĖ, ąĖ ąŠčćą║ą░čĆąĖą║ ą▓ ą│ąŠą╗čāą▒ąŠą╣ čĆčāą▒ą░čłą║ąĄ čü č湥čĆąĮąŠą╣
ą╗ąĄąĮč鹊ą╣ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ą│ą░ą╗čüčéčāą║ą░. ą×ą┤ąĖąĮ čéą░ąĮčåąĄą▓ą░ą╗ čü čĆą░ąĘą╝ą░čģąŠą╝, ą▓ąĄčĆč鹥ą╗čüčÅ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥,
ąĮą░čüčéčāą┐ą░ą╗ ąĮą░ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║čā ąĖ čćč鹊‑č鹊 ą▓čüąĄ ą║čĆąĖčćą░ą╗, ąĮą░ą┐čĆčÅą│ą░čÅ čāąĘą║ąŠąĄ ą│ąŠčĆą╗ąŠ;
ą┤čĆčāą│ąŠą╣, ąĮą░ąŠą▒ąŠčĆąŠčé, ą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗čüčÅ čüą║čĆąŠą╝ąĮąŠ, ą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖąĄ, ąĮąŠ čĆąĄąĘą║ąĖąĄ ą▓ąĘą╝ą░čģąĖ
čĆčāą║ą░ą╝ąĖ, ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣, čéą░ą║ čćč鹊 ą╗ąĄąĮčéą░ ąĮą░ čłąĄąĄ ą╝ąŠčéą░ą╗ą░čüčī ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ.
ąÆąŠą║čĆčāą│ čŹč鹊ą╣ čéčĆąŠąĖčåčŗ ąĮą░ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čĆą░čüčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ą║ąŠą╗ą│ąŠčéąĖą╗ąĖčüčī ą▓čüąĄ
ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąŚčĆąĄą╗ąĖčēąĄ čŹč鹊 ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊 čüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ą┐čĆąĖčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ąŠ, ą┤ą░ąČąĄ
ąĘą░ą▓ąŠčĆą░ąČąĖą▓ą░ą╗ąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗.
ą¤ąŠąČą░čĆčŗ ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą▓ąĄą║čā čüą╗čāčćą░ą╗ąĖčüčī čéą░ą║ čćą░čüč鹊, čćč鹊 ąĮą░ čĆą░čüč鹥čĆčÅąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ
ą┐ą░ąĮąĖą║čā ąĮąĄ čāčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ąĮąĖ ąĄą┤ąĖąĮąŠą╣ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ. ąØąĄčüčćą░čüčéčīąĄ ąŠą▒čĆčāčłąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī, ą║ą░ą║
ą▓čüąĄą│ą┤ą░, ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐čĆąĖą▓čŗą║čłąĖąĄ ą║ ąŠą│ąĮčÄ čüąĄą╗čīčćą░ąĮąĄ ą▒ąĄąĘ ąŠčüąŠą▒čŗčģ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤
ąĘąĮą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą┤ąĄą╗ą░čéčī: čüą┐ą░čüą░ą╗ąĖ čĆąĄą▒čÅčéąĖčłąĄą║, ą▓čŗą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖ čüą║ąŠčé, ą▓čŗčéą░čüą║ąĖą▓ą░ą╗ąĖ
ą┤ąŠą▒čĆąŠ ąĖąĘ ąĖąĘą▒čŗ ąĖ čéčāčłąĖą╗ąĖ. ąÆčüąĄ, ąŠčé ą╝ą░ą╗ą░ ą┤ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖą║ą░.
ą£čāąĘčŗą║ą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå ąŠą▒ąŠčĆą▓ą░ą╗ą░čüčī. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
ą▒čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą▓ ą║čĆčāą│.
ŌĆō ąĪą│ąŠčĆąĖčé ąČąĄ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÅ! ŌĆō ą║čĆąĖą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ. ŌĆō
ąóčāčłąĖčéčī, čéčāčłąĖčéčī ąĮą░ą┤ąŠ!
ąØąŠ čĆąĄą▒čÅčéą░, ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░čÅ čéą░ąĮčåąĄą▓ą░čéčī ą▒ąĄąĘ
ą╝čāąĘčŗą║ąĖ, ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ čćč鹊‑č鹊 ąĮąĄ ą┐ąŠ‑čĆčāčüčüą║ąĖ, ąĘą░čüą╝ąĄčÅą╗ąĖčüčī ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ
čüą║ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░čéčī:
ŌĆō ą¢ąŠ‑ą║菹╣! ą¢ąŠ‑ą║菹╣!..
ą×čćą║ą░čĆąĖą║ čü č鹥čüčīą╝ąŠą╣ ąĮą░ čłąĄąĄ ąĮčŗčĆąĮčāą╗
ą║čāą┤ą░‑č鹊 ąĖąĘ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║čĆčāą│ą░, ą▓čüąĄ ąĘą░čģą╗ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ąŠčé čĆą░ą┤ąŠčüčéąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖąĘ
ą┤ąĖąĮą░ą╝ąĖą║ąŠą▓ čĆą░ąĘą┤ą░ą╗čüčÅ ą║ą░čĆčéą░ą▓čÅčēąĖą╣ ą╝ą░ą╗čīčćąĖčłąĄčüą║ąĖą╣ ą│ąŠą╗ąŠčü, čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĄčēąĄ
ą┤ąĄčéčüą║ąĖą╣, ąĮąŠ čĆąĄčćčī ą▒čŗą╗ą░ ąĮąĄčĆčāčüčüą║ą░čÅ, ą║čāčĆą╗čŗą║ą░čÄčēą░čÅ. ąĀčŗąČąĖą╣ čü ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ąŠą╣
čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĮąĄ ąĘą░ą╝ąĄčćą░ą╗ąĖ ąŠą║čĆčāąČą░čÄčēąĖčģ, čéą░ąĮčåąĄą▓ą░ą╗ąĖ ą┤čĆčāą│ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą┐ąŠą┤ čéčĆąĄčüą║
ąĖ ą│čāą╗ ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖ.
ŌĆō ąĀąĄą▒čÅčéą░! ąöą░ ą▓čŗ čćč鹊?.. ŌĆō ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣
ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąŠčüąĄą║čüčÅ: čÅčĆąŠčüčéąĮčŗą╣ ą▒ą░čĆą░ą▒ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▒ąŠą╣ ąĘą░ą│ą╗čāčłąĖą╗ ą┤ą░ąČąĄ čéčĆąĄčüą║ ąŠą│ąĮčÅ.
ąś ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą▒ąŠąĄą╝ ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░ą▓ąŠčĆąŠčćą░ą╗ą░čüčī ąĖ, čĆą░čüčüčŗą┐ą░čÅčüčī ąĖčüą║čĆą░ą╝ąĖ, čĆčāčģąĮčāą╗ą░
ą║čĆčŗčłą░ ąĖąĘą▒čŗ. ąøąĖą║čāčÄčēąĖą╣ ą▓ąŠąĘą│ą╗ą░čü ą▓ąĘą▓ąĖčģčĆąĖą╗čüčÅ ąĮą░ą┤ čéą░ąĮčåčāčÄčēąĖą╝ąĖ, ą░ ą▓ ą║čĆčāą│
čüąĮąŠą▓ą░ ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖą╗ ą┐ą░čĆąĄąĮčī ą▓ ąŠčćą║ą░čģ, ąĖ ą▓čüąĄ ąĘą░ą║čĆčāąČąĖą╗ąŠčüčī, ąĘą░ą▓ąĄčĆč鹥ą╗ąŠčüčī ą┐ąĄčĆąĄą┤
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░.
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čĆą░čüč鹥čĆčÅą╗čüčÅ, čģčāąČąĄ č鹊ą│ąŠ,
ą┐ąŠčćčāą▓čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗, ą║ą░ą║ ąĘąĮąŠą▒čÅčēąĖą╣ čüčéčĆą░čģ čüčéčÅąĮčāą╗ ą║ąŠąČčā ąĮą░ ąĘą░čéčŗą╗ą║ąĄ. ą×ą│ąŠąĮčī
ą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąĮąĄčāą┤ąĄčƹȹĖą╝čŗą╝; ąĄčēąĄ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄą║ąĖąĮąĄčéčüčÅ ąĮą░ čüąŠčüąĄą┤ąĮąĖąĄ,
ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą║čĆčŗčłąĖ ąĖąĘą▒ ąĖ ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčé ą┐ą╗ą░čüčéą░čéčī ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮąĄ. ąÉ ąĄčēąĄ ą▓ą┤čĆčāą│
ą┐ąŠąĮčÅą╗, čćč鹊 čŹčéąĖ ą╗čÄą┤ąĖ ąĮąĄ čüą╗čŗčłą░čé ąĄą│ąŠ ąĖ ą║čĆąĖčćą░čéčī ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąŠąĮ
ąĘą░ą╝ąĄčéą░ą╗čüčÅ čüčĆąĄą┤ąĖ ąĮąĖčģ, čģą▓ą░čéą░čÅ ąĘą░ čĆčāą║ąĖ, ąĮą░čéčŗą║ą░čÅčüčī ąĮą░ ą┐ą╗ąĄčćąĖ, ąĮąŠ čéą░ą║
ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąĮąĄ čüčģą▓ą░čéąĖą╗. ąóą░ąĮčåčāčÄčēąĖąĄ čāčüą║ąŠą╗čīąĘą░ą╗ąĖ, čāą▓ąĄčĆčéčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī, čéą░ą║ čćč鹊
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐čĆąŠą▒ąĄąČą░ą╗ čüą║ą▓ąŠąĘčī č鹊ą╗ą┐čā ą▒čāą┤č鹊 čüą║ą▓ąŠąĘčī ą┐čāčüč鹊ąĄ ą╝ąĄčüč鹊.
ą×ąĮ čćč鹊‑č鹊 ą║čĆąĖčćą░ą╗, čüą░ą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÅ čćč鹊 ąĖ
ąĮąĄ čüą╗čŗčłą░ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠčüą░. ąæą░čĆą░ą▒ą░ąĮąĮą░čÅ ą┤čĆąŠą▒čī ąĖ ą▒ą╗ąĄčüą║ ą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĖ, ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī,
ąŠčüą╗ąĄą┐ąĖą╗ąĖ ąĖ ąŠą│ą╗čāčłąĖą╗ąĖ ą▓čüąĄčģ. ąĪą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, čéą░ąĮčåčāčÄčēąĖąĄ ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖ ąĖ ą┤čĆčāą│
ą┤čĆčāą│ą░ŌĆ”
ą¤čĆąŠą╣ą┤čÅ čüą║ą▓ąŠąĘčī čŹč鹊čé ą▓ąŠą┤ąŠą▓ąŠčĆąŠčé, ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
čüąĮąŠą▓ą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▓ č鹥ą╝ąĮąŠč鹥 ąĖ čéčāčé ąĮą░čéą║ąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊 ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆčŗ čü
ąĘąĄą╗ąĄąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą║čĆą░čüąĮčŗą╝ąĖ ąŠą│ąŠąĮčīą║ą░ą╝ąĖ, ą┐čĆąĖčüčéčĆąŠąĄąĮąĮčŗąĄ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮčāč鹊ą╝ ą┐ąŠčüčāą┤ąĮąŠą╝
čłą║ą░čäčā. ą¤ąŠ ąŠą▒ąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ąŠčé ąĮąĖčģ ą▓ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ čāą┤ą░ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░ ąĮą░
čéčĆą░ą▓ąĄ čüč鹊čÅą╗ąĖ ą┤ą▓ą░ ą┤čĆąĄą▒ąĄąĘąČą░čēąĖčģ ąŠčé ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ č湥čĆąĮčŗčģ čÅčēąĖą║ą░,
ą║ąŠąĮą▓čāą╗čīčüąĖą▓ąĮąŠ ąĖąĘčĆčŗą│ą░ą▓čłąĖčģ ąĮą░čåąĄą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ č鹊ą╗ą┐čā ąĘą▓čāą║ąĖ. ąĪč鹊čÅ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ą║
ą┐ąŠąČą░čĆčā, ąŠąĮ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ, ą╗ąŠą╝ą░čÄčēąĖąĄčüčÅ ą▓ čéą░ą║čé ąĘą▓čāą║ą░ą╝, č鹥ąĮąĖ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ąĖ
ąĮą░ čüčéą▓ąŠą╗ą░čģ č鹊ą╗čüčéčŗčģ ą║ąĄą┤čĆąŠą▓ ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ čüčéą░čĆąŠą│ąŠ ą║ą╗čāą▒ą░. ąÉ ą┤ą░ą╗čīčłąĄ,
ąĮą░čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čģą▓ą░čéą░ą╗ąŠ ą│ą╗ą░ąĘ, ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ąĖ ąĘą╗ąŠą▓ąĄčēąĄ čłąĄą▓ąĄą╗ąĖą╗ąĖčüčī ąŠčéą▒ą╗ąĄčüą║ąĖ ąŠą│ąĮčÅ.
ąØą░ ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ąŠąĮ ąŠą│ą╗čÅąĮčāą╗čüčÅ. ą¤ąŠč鹊ą╝
ąĖąĮčüčéąĖąĮą║čéąĖą▓ąĮąŠ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą▓ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ ą▒ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ, čĆčŗą▓ą║ąŠą╝ ąŠą┐čĆąŠą║ąĖąĮčāą▓
čłą║ą░čä čü ą┐čĆąĖą▒ąŠčĆą░ą╝ąĖ, čĆą░čüčłą▓čŗčĆčÅą╗ ą│čāą┤čÅčēąĖąĄ č湥čĆąĮčŗąĄ čÅčēąĖą║ąĖ, ąĖ ą▓ą╝ąĖą│ čüčéą░ą╗ąŠ čéąĖčģąŠ.
ąøąĖčłčī čü čéčĆąĄčüą║ąŠą╝ ąĖ čłąŠčĆąŠčģąŠą╝ čüč鹊ąĮą░ą╗ ą┐ąŠąČą░čĆ.
ąś čüčĆą░ąĘčā ąŠčéčģą╗čŗąĮčāą╗ čģąŠą╗ąŠą┤ąŠą║ čüčéčĆą░čģą░,
ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╣ ą▓ąĄč鹥čĆ ą┐ą░čģąĮčāą╗ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ. ąĀą░ąĘąŠą│čĆąĄčéčŗąĄ ą╗čÄą┤ąĖ ą▓ č鹊ą╗ą┐ąĄ ąĄčēąĄ ą┐ą╗čÅčüą░ą╗ąĖ, ąĮąŠ
ą║č鹊‑č鹊 ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ ą║čĆąĖčćą░čéčī:
ŌĆō ą¢ąŠ‑ą║菹╣! ą¢ąŠ‑ą║菹╣!..
ąĀą░čüčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░čÅ ą┐ą░čĆąĮąĄą╣, ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć
ą▓čŗčłąĄą╗ ąĖąĘ č鹥ą╝ąĮąŠčéčŗ. ąÉčĆčéčÄčłą░ ą▓čŗą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ ą╗ąŠą┐ą░č鹊ą╣ ą║ąŠą╝čīčÅ čüą╗ąĄąČą░ą▓čłąĄą╣čüčÅ ąĘąĄą╝ą╗ąĖ
ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗, ą╝ąĄčéą░ą╗ ą▓ ąŠą│ąŠąĮčī, ąĮąŠčĆąŠą▓čÅ ą┐ąŠą┐ą░čüčéčī ą▓ čüą░ą╝čāčÄ ąĄą│ąŠ ą│čāčēčā.
ŌĆō ą¢ąŠ‑ą║菹╣! ŌĆō čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ ą┐ą░čĆąĮąĖ. ŌĆō
ą¢ąŠ‑ą║菹╣!
ąś ąĘą░čģą╗ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ ą╗ą░ą┤ąŠčłąĖ. ą×čćą║ą░čĆąĖą║ čéą░ąĮčåąĄą▓ą░ą╗
ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ąĖ, ąĖ, ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ąĄą╝čā ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ąĄąĄ ąĮą░ąĄą┤ąĖąĮąĄ čü
čĆčŗąČąĖą╝. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ č鹊ą╗ą┐ą░ čüą║ą░ąĮą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ą░ ą▓čüąĄ ą│čĆąŠą╝č湥 ąĖ ąĮą░čüč鹊ą╣čćąĖą▓ąĄą╣, čéą░ąĮąĄčå
čāą▓čÅą╗, ą┐ą░čĆąĮąĖ ą▓ ąĮąĄč鹥čĆą┐ąĄąĮąĖąĖ č鹊ą┐čéą░ą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥.
ŌĆō ąÆčŗ čćč鹊 ąČąĄ ą┤ąĄą╗ą░ąĄč鹥?! ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ, ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÅ ąĮą░ ą│ąŠčĆčÅčēčāčÄ ąĖąĘą▒čā. ŌĆō ąÆąĄą┤čī čéčāčłąĖčéčī ąĮą░ą┤ąŠ! ąĪą│ąŠčĆąĖą╝ ą║
č湥čĆč鹊ą▓ąŠą╣ ą╝ą░č鹥čĆąĖ! ąØčā?!
ąĢą│ąŠ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗ąĖ, čāąČąĄ ąĮąĖą║č鹊 ąĮąĄ
čéą░ąĮčåąĄą▓ą░ą╗, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ą░ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ą╗ą░ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčéčīčüčÅ.
ŌĆō ą¦č鹊, ąŠą│ą╗ąŠčģą╗ąĖ?! ŌĆō čĆą░ąĘčŖčÅčĆąĖą╗čüčÅ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣
ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć, ąĮą░čüčéčāą┐ą░čÅ ąĮą░ čĆčŗąČąĄą│ąŠ. ŌĆō ąÉ ąĮčā‑ą║ą░ ą▒čŗčüčéčĆąŠ, ą▓ąĄą┤čĆą░, ą╗ąŠą┐ą░čéčŗ!..
ą×ąĮ ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗ ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊
č鹊ą╗ą┐ą░ čüąĮą░čćą░ą╗ą░ čĆą░ąĘčĆąĄą┤ąĖą╗ą░čüčī, ąĘą░č鹥ą╝ čüą│čĆčāą┤ąĖą╗ą░čüčī, ąĖ čĆą░ąĘą┤ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ąŠąĘą╝čāčēąĄąĮąĮčŗąĄ
ą│ąŠą╗ąŠčüą░:
ŌĆō ąÉą┐ą┐ą░čĆą░čéčāčĆą░!
ŌĆō ąĀą░ąĘą▒ąĖą╗ąĖ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čéčāčĆčā!
ą×čéą║čāą┤ą░‑č鹊 ą▓čŗą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąŠčćą║ą░čĆąĖą║, ą▒ą╗ąĄčüąĮčāą╗
ą▒ą░ą│čĆąŠą▓čŗą╝ąĖ čüč鹥ą║ą╗ą░ą╝ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüą░ą╝čŗą╝ ą╗ąĖčåąŠą╝ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░.
ŌĆō ąĪą║ąŠčéčŗ, ŌĆō čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć
ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮąŠąĄ čüą║ą▓ąŠąĘčī ąĘčāą▒čŗ čüą╗ąŠą▓ąŠ.
ąś čéčāčé ąČąĄ ąĮą░ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗čüčÅ čĆčŗąČąĖą╣, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą╗ąĄą│ą║ąŠ ąŠčéč鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ ąĖ čłą░ą│ąĮčāą╗ ą║ ąÉčĆčéčÄčłąĄ. ąóąŠą╗ą┐ą░ čāą┐ą╗ąŠčéąĮčÅą╗ą░čüčī,
čéą░čĆą░čēąĖą╗ą░čüčī ąĮą░ ąĮąĖčģ; ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ą░ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå ą┐ąĄčĆąĄčüčéą░ą╗ą░ čéą░ąĮčåąĄą▓ą░čéčī, ąŠą║ą░ąĘą░ą▓čłąĖčüčī
čüąŠą▓čüąĄą╝ čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčŗą╝. ąÆą┤čĆčāą│ ą║č鹊‑č鹊 ąĘą░čåąĄą┐ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ąĘą░ ą┐ą╗ąĄč湊, ąĖ ą▓
čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣ ą╝ąĖą│ ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ą▓ąĮąŠą▓čī ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ą╗ąĖčåąŠ čĆčŗąČąĄą│ąŠ.
ŌĆō ąØčā, čćč鹊 ą▓čüčéą░ą╗ąĖ‑č鹊?! ŌĆō ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ. ŌĆō ąÆčüąĄą╝ čéčāčłąĖčéčī! ąÜč鹊 čā ą▓ą░čü čüčéą░čĆčłąĖą╣? ąóčŗ?!
ą×ąĮ čüčģą▓ą░čéąĖą╗ čĆčŗąČąĄą│ąŠ ąĘą░ čĆčāą║ą░ą▓ ą╝ą░ą╣ą║ąĖ,
ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ ą▓ čüč鹊čĆąŠąĮčā. ąĀčŗąČąĖą╣ ą▓čŗą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ, ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ.
ŌĆō ąÜąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ! ŌĆō čāąČąĄ čćčāčéčī ąĮąĄ ą┐ą╗ą░ą║ą░ą╗
ą║č鹊‑č鹊 ą▓ č鹊ą╗ą┐ąĄ. ŌĆō ąÉą┐ą┐ą░čĆą░čéčāčĆčā ą▓ą┤čĆąĄą▒ąĄąĘą│ąĖ!
ąÜčĆčāą│ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ č鹥čüąĮąĄąĄ, ąĘą░ą┤ąĮąĖąĄ
ąĮą░ą┐ąĖčĆą░ą╗ąĖ; ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ą░ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ą░ ą▒ąĄąĘ ąĖčüą┐čāą│ą░, čü ą╗čÄą▒ąŠą┐čŗčéčüčéą▓ąŠą╝, čĆčÅą┤ąŠą╝ čü ąĮąĄą╣
ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ąŠčćą║ą░čĆąĖą║.
ąōąŠčĆčÅčēą░čÅ ąĖąĘą▒ą░ čü ą│čĆąŠčģąŠč鹊ą╝ ąŠčüąĄą╗ą░,
ą▓ąĘą╝ąĄčéąĮčāą▓ č乥ą╣ąĄčĆą▓ąĄčĆą║ ąĖčüą║čĆ, ąČą░čĆ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĮąĄčüč鹥čĆą┐ąĖą╝čŗą╝.
ŌĆō ąÜąŠą╝čā ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé?! ŌĆō ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ čüąĮąŠą▓ą░
ą┐ąŠą╣ą╝ą░ą╗ čĆčŗąČąĄą│ąŠ. ŌĆō ąÉ ąĮčā ąČąĖą▓ąŠ ąĘą░ ą▓ąĄą┤čĆą░ą╝ąĖ!
ŌĆō ąÜč鹊 čéą░ą║ąŠą╣? ŌĆō ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ č鹊čé,
ą▓čŗčĆčŗą▓ą░čÅčüčī. ŌĆō ą¤ąŠčł‑čłąĄą╗!.. ąĀčāą║ąĖ!
ŌĆō ąÉčģ čéčŗ, čüąŠą┐ą╗čÅ ąĘąĄą╗ąĄąĮą░čÅ! ą» č鹥ą▒ąĄ ą┐ąŠą║ą░ąČčā,
ą║č鹊 čéą░ą║ąŠą╣! ŌĆō čĆą░čüčüąĄčĆą┤ąĖą╗čüčÅ ąĮąĄ ąĮą░ čłčāčéą║čā ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ.
ŌĆō ąÜąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖ‑ąĖ‑ąĖčĆ!! ŌĆō ąŠčĆą░ą╗ąĖ ą▓ č鹊ą╗ą┐ąĄ.
ŌĆō ąÆčĆąĄąČčī ąĄą╝čā, ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ!!
ąĀčŗąČąĄą│ąŠ ą▒čāą┤č鹊 ą┐ąŠą┤č鹊ą╗ą║ąĮčāą╗ąĖ, ąĖ ąŠąĮ ą┐čĆčŗą│ąĮčāą╗
ąĮą░ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░, čåąĄą╗čÅ ą║čāą╗ą░ą║ąŠą╝ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ, ąĮąŠ ą┐čĆąŠą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
ąŠčéčłą▓čŗčĆąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ ąĖ ą▓ č鹊čé ąČąĄ ą╝ąĖą│ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąĘą░ą╗ąĖą▓ąĖčüčéčŗą╣ čüą╝ąĄčģ ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ąĖ. ąĀčÅą┤ąŠą╝
čü ąĮąĄą╣ ą┐ąŠą▒ą╗ąĄčüą║ąĖą▓ą░ą╗ ąŠčćą║ą░ą╝ąĖ ą┐ą░čĆąĄąĮčī čü č鹥čüčīą╝ąŠą╣ ąĮą░ čłąĄąĄ. ąóąŠą╗ą┐ą░, ąĘą░ą╝ąĄčĆąĄą▓ ąĮą░
ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ, čĆą░ąĘąŠą╝ ą▓čŗą┤ąŠčģąĮčāą╗ą░, ąĖ ą│čāą╗ ą│ąŠą╗ąŠčüąŠą▓ čüą┐čāčéą░ą╗čüčÅ čü ą│čāą╗ąŠą╝ ąĖ čéčĆąĄčüą║ąŠą╝
ą┐ąŠąČą░čĆą░. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░ ą║čĆąĖą║ ąĖ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗, čćč鹊 ąÉčĆčéčÄčłčā ąŠčéčéą░čüą║ąĖą▓ą░čÄčé
ąŠčé ą┐čŗą╗ą░čÄčēąĄą╣ ąĖąĘą▒čŗ, ą▓čŗą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░čÅ ąĖąĘ čĆčāą║ ą╗ąŠą┐ą░čéčā, čāčüčéčĆąĄą╝ąĖą╗čüčÅ ą▒čŗą╗ąŠ ą║ ąĮąĄą╝čā,
ąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą╗ąĖčåąŠą╝ ą▓ąĮąŠą▓čī ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ čĆčŗąČąĖą╣, ą│ą╗ą░ąĘą░ ąĄą│ąŠ ą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ čÅčĆąŠčüčéčīčÄ,
ąĮąŠąĘą┤čĆąĖ čĆą░ąĘą┤čāą▓ą░ą╗ąĖčüčīŌĆ”
ąÉ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ą▓čüąĄ ąĄčēąĄ čüą╝ąĄčÅą╗ą░čüčī ą┤ąĄą▓ąŠčćą║ą░.
ąÜč鹊‑č鹊 čüą▒ąŠą║čā čĆą▓ą░ąĮčāą╗ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮą░ ąĘą░
ą┐ą╗ąĄč湊, ąĖ ą▓ č鹊čé ąČąĄ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąŠąĮ ąŠčēčāčéąĖą╗ čāą┤ą░čĆ ą▓ čāčģąŠ; ą║ą░čćąĮčāą╗ą░čüčī ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░.
ŌĆō ąöą░ čÅ ą▓ą░čü! ŌĆō ąĘą░ąŠčĆą░ą╗ ąŠąĮ, ą▒čĆąŠčüą░čÅčüčī
ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤, ą║ ąŠą│ąĮčÄ, ąĖ čĆą░čüčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░čÅ ą┐ą░čĆąĮąĄą╣. ŌĆō ąØą░ ą║ąŠą│ąŠ ą╗ąĄąĘąĄčłčī, ą╝ąĄą╗ąŠčćčī
ą┐čāąĘą░čéą░čÅ! ąÉ ąĮčā ŌĆō ą║čŗčł!..
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ąŠčéą╝ą░čģąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠčé ąĮą░čüąĄą┤ą░čÄčēąĖčģ
čüąĘą░ą┤ąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ą░čĆąĮąĖ ąĮą░ą▓ą░ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čü čéčĆąĄčģ čüč鹊čĆąŠąĮ, čāąČąĄ čéčĆąĄčēą░ą╗ ąĮą░ ą┐ą╗ąĄčćą░čģ
ą┐ąĖą┤ąČą░ą║ ąĖ čĆą▓ą░ą╗ą░čüčī ąĮą░ ą│čĆčāą┤ąĖ čĆčāą▒ą░čģą░. ą×ąĮ ą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ą┤ąŠčéčÅąĮčāčéčīčüčÅ ą║čāą╗ą░ą║ąŠą╝ ą┤ąŠ
čĆčŗąČąĄą│ąŠ, ąĮąŠ č鹊čé čāčüą║ąŠą╗čīąĘą░ą╗, ą╝ąĄą╗čīč鹥賹░ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖŌĆ”
ą¤ąŠč鹊ą╝ ą▓čüąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą║ą░ą║ ą▓ąŠ čüąĮąĄ. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ
čüąĮąŠą▓ą░ čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąÉčĆčéčÄčłčā, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▓čŗčĆą▓ą░ą╗čüčÅ ąŠčé ą┐ą░čĆąĮąĄą╣ ąĖ ąŠą┐čÅčéčī ą▒čĆąŠčüą░ą╗ ąĘąĄą╝ą╗čÄ
ą▓ ąŠą│ąŠąĮčī, ą▒čāą┤č鹊 čāą│ąŠą╗čī ą▓ č鹊ą┐ą║čā. ąÆą░čüąĖą╗ąĖą╣ ąóąĖą╝ąŠč乥ąĄą▓ąĖčć ąŠčé ą║ąŠą│ąŠ‑č鹊
ąŠčéą▒ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ, ąŠčéą╝ą░čģąĖą▓ą░ą╗čüčÅ, čćčāčÅ ąĮąĄčüąĖą╗čīąĮčŗąĄ, ąĮąŠ čćą░čüčéčŗąĄ čāą┤ą░čĆčŗ čüąŠ ą▓čüąĄčģ
čüč鹊čĆąŠąĮ. ą×ąĮ ą┐čĆąŠčĆčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą║ ąÉčĆčéčÄčłąĄ, ą░ č鹊čé čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąŠčéą┤ą░ą╗čÅą╗čüčÅ, ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░čÅ ą▓
č鹊ą╗ą┐ąĄ čü ą╗ąŠą┐ą░č鹊ą╣ ąĮą░ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčü.
ąś ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╣ čŹč鹊ą╣ čüą▓ą░ą╗ą║ąĄ ąĖ ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓ąŠą╣
čüčāč鹊ą╗ąŠą║ąĄ ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮčā ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čćčāą┤ąĖą╗čüčÅ ąĘą▓ąŠąĮą║ąĖą╣ ą┤ąĄą▓ąĖčćąĖą╣ čüą╝ąĄčģ.
ąŚą░č鹥ą╝ ąÉčĆčéčÄčłą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ čüąŠą▓čüąĄą╝ čĆčÅą┤ąŠą╝, ąĮąŠ
čāąČąĄ ą▒ąĄąĘ ą╗ąŠą┐ą░čéčŗ. ąĢą│ąŠ ą▒ąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ čüą┐ąĖąĮąĄ, čéčÅąĮčāą╗ąĖ ąĘą░ čĆčāą║ąĖ, čĆą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ ąĮąĄą╝
ąŠą┤ąĄąČą┤čāŌĆ”
ŌĆō ąĪą▓ąŠą╗ąŠčćąĖ!! ąÆčŗ čćč鹊?! ŌĆō ą║čĆąĖčćą░ą╗
ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ.
ąÉčĆčéčÄčłą░
čāą┐ą░ą╗, ąĘą░ąČąĖą╝ą░čÅ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ąČąĖą▓ąŠčé. ąŚą░ą▓ą░čƹʹĖąĮ ą┐čĆąŠą┤ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ą║ ąĮąĄą╝čā ą▓ ą║čĆčāą│,
čĆą░ąĘą▒čĆą░čüčŗą▓ą░čÅ ą┐ą╗ąŠčéąĮčāčÄ, ąŠčĆčāčēčāčÄ čüčéą░čÄ. ą¤čĆąŠą▒ąĖą╗čüčÅ, čüčģą▓ą░čéąĖą╗
|