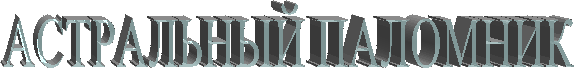|
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąóčĆąŠčäąĖą╝ąŠą▓ąĖčć ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąĪą╗ąŠą▓ąŠ

OCR ąĪčāą┤ąĮąĖčåčŗąĮ ą×ą╗ąĄą│: olegkz@yandex.ru
http://www.aldebaran.ru/
ąÉąĮąĮąŠčéą░čåąĖčÅ
ąōąĄčĆąŠą╣ čĆąŠą╝ą░ąĮą░ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓,
čüąŠą▒ąĖčĆą░č鹥ą╗čī ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą▓čüčÄ čüą▓ąŠčÄ ąČąĖąĘąĮčī
ą┐ąŠčüą▓čÅčēą░ąĄčé ą┐ąŠąĖčüą║ą░ą╝ ąĘą░ą│ą░ą┤ąŠčćąĮąŠą╣ ą┤ąŠčģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║ąŠą╣ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ čüčéą░čĆčåą░ ąöąĖą▓ąĄčÅ.
ą¢ąĄčüč鹊ą║ą░čÅ ą▒ąŠčĆčīą▒ą░ ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ čüč鹊ą╗ąĄčéąĖą╣ ą▓ąĄą╗ą░čüčī ąĘą░ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĮąĖąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą╣
čĆąĄą╗ąĖą║ą▓ąĖąĄą╣. ąŻą▓ąĖą┤čÅčé ą╗ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝ą║ąĖ, ąĮą░čłąĖ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąĖą║ąĖ, ą┤ąŠą║ąĖčĆąĖą╗ą╗ąĖč湥čüą║ąĖąĄ
čüą╗ą░ą▓čÅąĮčüą║ąĖąĄ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮą░?..
ąĪąĄčĆą│ąĄą╣ ąÉą╗ąĄą║čüąĄąĄą▓
ąĪą╗ąŠą▓ąŠ
ąØąśąÜąśąóąÉ ąĪąóąĀąÉąĪąóąØą½ąÖ
ąŻ ą▓ąŠčĆąŠčé ą┤ąŠą╝ą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ čüčåąĄą┐ąĖą╗ąĖčüčī
čüąŠą▒ą░ą║ąĖ. ąóčāą│ąŠą╣, čĆčŗčćą░čēąĖą╣ ą║ąŠą╝ ąĖąĘ ą┐ąŠą╗čāąŠą▒ą╗ąĄąĘą╗čŗčģ ą║ąŠą▒ąĄą╗ąĄą╣ ą▓čŗą║ą░čéąĖą╗čüčÅ ąĮą░
čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčā ą┐ąŠ‑ą▓ąĄčüąĄąĮąĮąĄą╝čā ą╗ąĖąĮčÅčÄčēąĄą│ąŠ čāąĘą║ąŠą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčāą╗ą║ą░. ąØą░ ą╝ąĖą│ ą║ą╗čāą▒ąŠą║
čĆą░ąĘą▓ą░ą╗ąĖą╗čüčÅ, čāą│ąŠą┤ąĖą▓ ą▓ ą║ą░čłčā čéą░čÄčēąĄą│ąŠ čüąĮąĄą│ą░ ąĖ ą│čĆčÅąĘąĖ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖą╣
ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé čüčģą▓ą░čéąĖą╗čüčÅ ąĄčēąĄ ą┐čĆąŠčćąĮąĄąĄ ąĖ ąĘą░ą▓ąĄčĆč鹥ą╗čüčÅ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥 ą▓ ą▒ąĄąĘčāą╝ąĮąŠą╣ ą┐ą╗čÅčüą║ąĄ
čüąŠą▒ą░čćčīąĄą╣ čüą▓ą░ą┤čīą▒čŗ. ą»čĆąŠčüčéąĮčŗą╣ čģčĆąĖą┐ ą┤čĆą░ą║ąĖ čéčāčé ąČąĄ ą┐ąŠą┤čģą▓ą░čéąĖą╗ąĖ čåąĄą┐ąĮčŗąĄ ą┐čüčŗ
ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░čģ; ą┤ą░ą▓čÅčüčī ąĮą░ ąŠčłąĄą╣ąĮąĖą║ą░čģ, ąŠąĮąĖ ąĘą░ą╗ą░čÅą╗ąĖ ąŠčüč鹥čĆą▓ąĄąĮąĄą╗ąŠ ąĖ čĆą░ąĘąŠą╝ ą┐ąŠ
ą▓čüąĄą╝čā ą┐ąĄčĆąĄčāą╗ą║čā. ąÜą╗ąŠčćčīčÅą╝ąĖ ą╗ąĄč鹥ą╗ą░ čłąĄčĆčüčéčī ąŠčé čüą▒ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ą▓ ą│čĆčāą┤čā č鹥ą╗,
ą╝ąĄą╗čīą║ą░ą╗ąĖ ąŠčēąĄčĆąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐ą░čüčéąĖ ąĖ ąŠą║čĆąŠą▓ą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą╝ąŠčĆą┤čŗ. ąśąĮąŠą╣ ą┐ąĄčü,
ą▓čŗą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖąĘ čüą▓ą░ą╗ą║ąĖ, č鹊čéčćą░čü ąČąĄ ą▓čüą║ą░ą║ąĖą▓ą░ą╗ ąĖ ą▒čĆąŠčüą░ą╗čüčÅ ą▓ ą║čāčćčā. ąóčāą┤ą░
ąČąĄ čĆąĖąĮčāą╗čüčÅ, čüąŠčĆą▓ą░ą▓čłąĖčüčī čü ą┐čĆąĖą▓čÅąĘąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą╝ą░čģąĮčāą▓ ąĘą░ą▒ąŠčĆ, ą║ąŠą▒ąĄą╗čī ąĖąĘ
čüąŠčüąĄą┤ąĮąĄą╣ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā čāčüą░ą┤čīą▒čŗ. ąōą╗ą░ą┤ą║ąŠą│ąŠ ąĖ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čüą░ č湥čĆąĄąĘ
ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĖąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ čāąĘąĮą░čéčī ą╗ąĖčłčī ą┐ąŠ ąŠą▒čĆčŗą▓ą║čā čåąĄą┐ąĖ.
ąÉ čüčāą║ą░, ą┐ąĄą│ą░čÅ, ąĮąĄą║ą░ąĘąĖčüčéą░čÅ čüąŠą▒ą░č湊ąĮą║ą░,
čüąŠą▒čĆą░ą▓čłą░čÅ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ ą║ąŠą▒ąĄą╗ąĄą╣ ą▓čüąĄą╣ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░, ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĖą▓ čāčłąĖ ąĖ
ą┐ąŠą┤ąČą░ą▓ čģą▓ąŠčüčé, ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĘą╗ą░ ą▓ ą┐ąŠą┤ą▓ąŠčĆąŠčéąĮčÄ ą┤ąŠą╝ą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║, č鹥ą╝
ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĄą╝ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą┐ąĄčĆąĄčāą╗ą║ą░, ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ čü ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ą║čĆąĖą▓čāčÄ
čüąŠčüąĮąŠą▓čāčÄ ą┐ą░ą╗ą║čā ąĖ, ąŠąĘąĖčĆą░čÅčüčī ąĮą░ ą┤ąĄčĆčāčēčāčÄčüčÅ čüą▓ąŠčĆčā, ąĮąĄčĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ
ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ: ą║č鹊 ąĘąĮą░ąĄčé, čćč鹊 ąĮą░ čāą╝ąĄ čā ąŠą┤ąĖčćą░ą▓čłąĄą╣ čüčéą░ąĖ?
ąĪą║ąŠčĆąŠ ą║ ąĮąĄą╝čā ą┐čĆąĖčüąŠąĄą┤ąĖąĮąĖą╗čüčÅ ą┤čĆčāą│ąŠą╣
ą┐čĆąŠčģąŠąČąĖą╣, ąĖ, ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄčēą░ą▓čłąĖčüčī, ąŠąĮąĖ ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗ąĖčüčī ą▓ ąŠą▒čģąŠą┤: čü čĆą░ąĘčŖčÅčĆąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ
ą│ąŠąĮąŠą╝ ą▒ąĄąĘą┤ąŠą╝ąĮčŗą╝ąĖ ą┤ą▓ąŠčĆąĮčÅąČą║ą░ą╝ąĖ ą╗čāčćčłąĄ ąĮąĄ ą▓čüčéčĆąĄčćą░čéčīčüčÅŌĆ”
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą▓
čüčŗąĮą░ ąĮą░ čĆą░ą▒ąŠčéčā, čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ąĘą░ą▓čéčĆą░ą║ą░čéčī, ą║ąŠą│ą┤ą░ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ ąĘą░ ąŠą║ąĮąŠą╝
ąŠčéčćą░čÅąĮąĮčŗą╣ čüąŠą▒ą░čćąĖą╣ čĆčŗą║. ąÆč鹊čĆčŗąĄ čĆą░ą╝čŗ ą▒čŗą╗ąĖ čāąČąĄ ą▓čŗčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ, ąĖ ąØąĖą║ąĖč鹥
ąĢą▓čüąĄąĖčćčā ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čüčģą▓ą░čéą║ą░ ąĖą┤ąĄčé čćčāčéčī ą╗ąĖ ąĮąĄ ą▓ ą┐ą░ą╗ąĖčüą░ą┤ąĮąĖą║ąĄ.
ąóąŠčĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą▓ ąĄą┤čā ąĮą░ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ čüč鹊ą╗, ąŠąĮ ą┐čĆąŠčłą░ą│ą░ą╗, ą┐čĆąĖčģčĆą░ą╝čŗą▓ą░čÅ,
ą║ ąŠą║ąĮčā ąĖ ąŠčéą┤ąĄčĆąĮčāą╗ čéčÅąČąĄą╗čāčÄ čłč鹊čĆčā. ąÆ ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčéą░čģ ą╝ąĄąČą┤čā č鹊ą┐ąŠą╗čÅą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ
ąŠą║čĆčāąČą░ą╗ąĖ ą┤ąŠą╝ ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄčéčĆčā, ą╝ąĄą╗čīą║ą░ą╗ąĖ čüąŠą▒ą░čćčīąĖ č鹥ą╗ą░, čüą┐čāčéą░ąĮąĮčŗąĄ ą▓
čāą┐čĆčāą│ąĖą╣ ą║ą╗čāą▒ąŠą║! ąĀčāą║ąĖ čā ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░ ą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗ąĖ, čłąĄą▓ąĄą╗čīąĮčāą╗ą░čüčī ąĮą░
čēąĄą║ą░čģ čüąĄą┤ą░čÅ, ąĄčēąĄ ąĮąĄ čĆą░čüč湥čüą░ąĮąĮą░čÅ ą▒ąŠčĆąŠą┤ą░. ą¤čĆąĖą┐ą░ą┤ą░čÅ ąĮą░ ą┐čĆąŠč鹥ąĘ, ŌĆō ą░
ą┐čĆąŠč鹥ąĘ ą▒čŗą╗ ąĮąŠą▓čŗą╣, ąĮąĄąŠą▒ąĮąŠčłąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖ ąŠčéč鹊ą│ąŠ ąĮąĄčāą┤ąŠą▒ąĮčŗą╣, ŌĆō ąŠąĮ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą║
čüč鹊ą╗čā ąĖ ą▓čŗą┤ąĄčĆąĮčāą╗ ą▓ąĄčĆčģąĮąĖą╣ čÅčēąĖą║. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čéčāčé ąČąĄ čü čüąĖą╗ąŠą╣ ąĘą░ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗ ąĄą│ąŠ
ąĮą░ąĘą░ą┤ ąĖ, čéąĖčģąŠ ą▓čŗčĆčāą│ą░ą▓čłąĖčüčī, ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā. ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ čłčāą╝ ą┤čĆą░ą║ąĖ ąĘą░
čüą┐ąĖąĮąŠą╣ ąĮą░čĆą░čüčéą░ą╗. ąĀą░ąĘąŠą╝ ąĖ ą╝ąŠčēąĮąŠ ą▓ąĘą╗ą░čÅą╗ąĖ čåąĄą┐ąĮčŗąĄ ą┐čüčŗ, ą│čāą╗ą║ąŠ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗, ąŠč鹊ąĘą▓ą░ą╗čüčÅ ąĖą╝ čüąŠčüąĄą┤čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą▒ąĄą╗čī. ąś čéčāčé ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗
ąŠ čĆčāąČčīąĄ, ą║čāą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠą┤ą░ ąĮą░ąĘą░ą┤ ą▓ ą┐ąŠą┤ą░čĆąŠą║ ą¤ąĄčéčĆąŠą▓ąĖčćčā ŌĆō
ą╝ą░ą║ą░čĆąĖčģąĖąĮčüą║ąŠą╝čā čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåčā. ąÜčāą┐ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝, ąĮąŠ čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą░čĆąĄąĮąĮąŠą╝.
ąĀčāąČčīąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čģąĖčéčĆąŠąĄ: ą▓ąĮąĖąĘčā ą┤čĆąŠą▒ąŠą▓ąŠą╣ čüčéą▓ąŠą╗, ą░ ą▓ą▓ąĄčĆčģčā ŌĆō ą╝ą░ą╗ąŠą║ą░ą╗ąĖą▒ąĄčĆąĮčŗą╣.
ąöą╗čÅ ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ą░ ą▓ čüą░ą╝čŗą╣ čĆą░ąĘ, ą¤ąĄčéčĆąŠą▓ąĖčć čéą░ą║ąŠąĄ ąĖ čģąŠč鹥ą╗ŌĆ”
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čŗčģą▓ą░čéąĖą╗ ąĖąĘ čüč鹊ą╗ą░ ą║ą╗čÄčćąĖ ąĖ
ą▒čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, ąĘą░ąĮą░ą▓ąĄčłąĄąĮąĮąŠą╣ čüčéą░čĆčŗą╝ ą┐ą╗čÄčłąĄą▓čŗą╝ ą║ąŠą▓čĆąŠą╝ čü ąŠą╗ąĄąĮčÅą╝ąĖ.
ą¤ąŠą▓ąŠąĘąĖą▓čłąĖčüčī čü ąĘą░ą╝ą║ą░ą╝ąĖ, ąŠąĮ čĆą░čüą┐ą░čģąĮčāą╗ ą┤ą▓ąĄčĆčī ą▓ č鹥ą╝ąĮčāčÄ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā ąĖ, ąĮąĄ
ąĘą░ąČąĖą│ą░čÅ čüą▓ąĄčéą░, ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ąĖąĘ‑ąĘą░ čłą║ą░čäą░ čü ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ ąŠą▒ąĄčĆąĮčāč鹊ąĄ ą▓ čéčĆčÅą┐ą║čā
čĆčāąČčīąĄ. ą¤ą░čéčĆąŠąĮčćąĖą║ąĖ ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ čéčāčé ąČąĄ, ąĘą░ čłą║ą░č乊ą╝, ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ
ą┐ąŠą┤ą░čĆą║ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą╝ą░ą║ą░čĆąĖčģąĖąĮčüą║ąĖčģ ąČąĖč鹥ą╗ąĄą╣ ŌĆō ąĮąĖčéą║ą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ čüąĄč鹥ą╣, čäą░ą▒čĆąĖčćąĮčŗą╝ąĖ
ą║ąŠą╗ąŠą▓ąŠčĆąŠčéą░ą╝ąĖ, ąČąĄąĮčüą║ąĖą╝ąĖ ą┐ą╗ą░čéą║ą░ą╝ąĖ ŌĆō č鹊ąČąĄ ąĮąĄ ą┐ąŠą┤ą░čĆąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┤ąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ.
ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą╝ąĖąĮčāčéčā ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą▒čŗą╗ čāąČąĄ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ąŠą║ąĮą░ ąĖ č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗
čĆčāąČčīąĄ. ą×ąĮ čéčÅąČąĄą╗ąŠ ą┤čŗčłą░ą╗, čćą░čüč鹊 ą▓čŗą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗ ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆ, čüą┐ąĄčłąĖą╗ ąĖ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ
ą╝ąŠą│ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĖčéčī čüčéą▓ąŠą╗čŗ čü ąĘą░ą╝ą║ąŠą╝. ą×ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ąŠąĮ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄ čāą╝ąĄąĄčé
ąŠą▒čĆą░čēą░čéčīčüčÅ čü ąŠčģąŠčéąĮąĖčćčīąĖą╝ čĆčāąČčīąĄą╝, čģąŠčéčÅ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüčćąĖčéą░ą╗ čüąĄą▒čÅ ąĘąĮą░č鹊ą║ąŠą╝
ą▓čüčÅą║ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĖ ą╗čÄą▒ąĖą╗ ąĄą│ąŠ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, čüąŠą▒čĆą░ą▓ čĆčāąČčīąĄ, ąŠąĮ ąĘą░ą┐ąĖčģą░ą╗
čüą║ąŠą╗čīąĘą║ąĖą╣ ą┐ą░čéčĆąŠąĮčćąĖą║ ą▓ čüčéą▓ąŠą╗ ąĖ ą▓ąĘą▓ąĄą╗ ą║čāčĆąŠą║. ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ą║ą░čéą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą│čĆčÅąĘąĖ,
ą╝ąĄą╗čīč鹥賹Ėą╗ąĖ, č鹊 ąĖ ą┤ąĄą╗ąŠ čüą║čĆčŗą▓ą░čÅčüčī ąĘą░ č鹊ą┐ąŠą╗čÅą╝ąĖ, ąĖ čüčéčĆąĄą╗čÅčéčī ą▒čŗą╗ąŠ
ąĮąĄčāą┤ąŠą▒ąĮąŠ. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┐čĆąŠčģčĆąŠą╝ą░ą╗ ą▓ čüąŠčüąĄą┤ąĮčÄčÄ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā, čĆą░čüą┐ą░čģąĮčāą╗
čüčéą▓ąŠčĆą║ąĖ ąŠą║ąĮą░ ąĖ ą┐čĆąĖčåąĄą╗ąĖą╗čüčÅ. ą×ąĮ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čüčéčĆąĄą╗čÅą╗, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÅ ąŠą┤ąĖąĮ
ą│ą╗ą░ąĘ, ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ čēčāčĆąĖą╗čüčÅ, ą┐čĆąĖčåąĄą╗ąĖą▓ą░čÅčüčī, ąŠčéč湥ą│ąŠ ą▒čĆąŠą▓ąĖ
ą┐čĆąĖą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ą▓ąĄčĆčģ ąĖ ąĘą░čüčéčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ ą║čĆčāč鹊ą╝ ąĖąĘą╗ąŠą╝ąĄ.
ąÆčŗčüčéčĆąĄą╗ čēąĄą╗ą║ąĮčāą╗ čüčāčģąŠ ąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠ. ąÆ
ą║ąŠą╝ąĮą░č鹥 ąĘą░ą┐ą░čģą╗ąŠ. čüą╗ą░ą┤ą║ąŠą▓ą░čéčŗą╝ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗą╝ ą┤čŗą╝ą║ąŠą╝ ąĖ ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╝ čĆčāąČąĄą╣ąĮčŗą╝
ą╝ą░čüą╗ąŠą╝. ąŁčéąĖ ąĘą░ą┐ą░čģąĖ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą┤čüč鹥ą│ąĮčāą╗ąĖ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ąĪčéčĆąĄą╝ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ
ą┐ąĄčĆąĄąĘą░čĆčÅą┤ąĖą▓ čĆčāąČčīąĄ, ąŠąĮ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ ąĄčēąĄ čĆą░ąĘ, ą┐ąŠč鹊ą╝ ąĄčēąĄ, čåąĄą╗čÅ ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮčā
čĆą░čüą┐ą░ą┤ą░čÄčēąĄą│ąŠčüčÅ ą║ąŠą╝ą░ ąĖąĘ čüąŠą▒ą░čćčīąĖčģ č鹥ą╗. ą×ąĮ čüą┐ąĄčłąĖą╗, ąĘąĮą░čÅ ą┐ąŠą▓ą░ą┤ą║ąĖ
ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ ą┐čüąŠą▓: čüč鹊ąĖčé ąĖą╝ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░čüą╗čŗčłą░čéčī ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗, ą║ą░ą║ čéčāčé ąČąĄ
ą║ąŠąĮčćąĖčéčüčÅ ą┤ą░ąČąĄ čüą░ą╝ą░čÅ ą╗čÄčéą░čÅ čüą▓ą░čĆą░. ąØąĄąĖčüč鹊ą▓čŗą╣ ąĮą░ą║ą░ą╗ ą╝ąĄąČą┤ąŠčāčüąŠą▒ąĮąŠą╣ čĆąĄąĘąĮąĖ
ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮąŠ čüą╝ąĄąĮąĖčéčüčÅ ą▓čüąĄąŠą▒čēąĖą╝ čüčéčĆą░čģąŠą╝, ąĖ čüčéą░čÅ ą▓ą╝ąĖą│ čĆą░čüčüąĄąĄčéčüčÅ.
ą¤ąŠčüą╗ąĄ čéčĆąĄčéčīąĄą│ąŠ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ą░ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹥 ą┤čĆą░ą║ąĖ
ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ ą╗ąĖčłčī ąŠą┤ąĖąĮ ą┐ąĄčü, č鹊 ą╗ąĖ čāą▒ąĖčéčŗą╣, č鹊 ą╗ąĖ ąĘą░ą│čĆčŗąĘąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓ ą┐ąŠčéą░čüąŠą▓ą║ąĄ.
ąŻą▒ąŠą╣ąĮąŠčüčéčī čā čĆčāąČčīčÅ ą▒čŗą╗ą░ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ą░čÅ, ą┤ą╗čÅ čéą░ą║ąŠą╣ čéą▓ą░čĆąĖ, ą║ą░ą║ ą▒čĆąŠą┤čÅčćą░čÅ
čüąŠą▒ą░ą║ą░, ąĮąĄ ą│ąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī. ąŁč鹊 ąĮąĄ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ ą┐ąŠą┤ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ąŠčćąĮčŗą╣ ą┐ą░čéčĆąŠąĮ. ąæčāą┤čī ąŠąĮ
čüąĄą╣čćą░čü čā ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ŌĆō ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčŗ čģąŠąĘčÅąĄą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąĖčģ ą┐ąŠą╝ąŠąĄą║ ąĮąĄ
čāčłą╗ąŠ ą▒čŗŌĆ”
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ąĘą░ą║čĆčŗą╗ ąŠą║ąĮąŠ ąĖ čģąŠč鹥ą╗
čüą┐čĆčÅčéą░čéčī čĆčāąČčīąĄ, ąĮąŠ ą▓ čŹč鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĮą░ čāą╗ąĖčåąĄ ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ čģą╗ąŠą┐ąĮčāą╗ą░ ą║ą░ą╗ąĖčéą║ą░ ąĖ
ąĘą░čüą║čĆąĖą┐ąĄą╗ąĖ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖčåčŗ ą║čĆčŗą╗čīčåą░. ą×ąĮ ą▓čŗčłąĄą╗ ą▓ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮčÄčÄ, ą┐ąŠą┤ą▓ąŠą╗ą░ą║ąĖą▓ą░čÅ
ą┐čĆąŠč鹥ąĘ ą╗ąĄą▓ąŠą╣ ąĮąŠą│ąĖ, ąĖ ą▓čüčéą░ą╗, ą│ą╗čÅą┤čÅ ąĮą░ ą┤ą▓ąĄčĆčī. ąŚą░ ąĮąĄčÄ ą║č鹊‑č鹊 ą▒čŗą╗, ąĮąŠ
ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ąĮąĄ čüčéčāčćą░ą╗čüčÅ, ąĘą░čéą░ąĖą╗čüčÅ.
ŌĆō ąÜąŠą│ąŠ čéą░ą╝ ąæąŠą│ ą┐ąŠčüą╗ą░ą╗? ŌĆō ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ą×ą▒ąĖčéą░čÅ ą▓ąŠą╣ą╗ąŠą║ąŠą╝ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąŠčéą▓ąŠčĆąĖą╗ą░čüčī, ąĖ ąĮą░
ą┐ąŠčĆąŠą│ąĄ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čü čüąŠčüąĮąŠą▓ąŠą╣ ą┐ą░ą╗ą║ąŠą╣ ą▓ čĆčāą║ąĄ, ą▒čāą┤č鹊 čüčéčĆą░ąĮąĮąĖą║ čü
ą┐ąŠčüąŠčģąŠą╝. ą×ąĮ čüąĮčÅą╗ čłą╗čÅą┐čā ąĖ, ąŠčéą┤čāą▓ą░čÅčüčī, ą┐ąŠąĘą┤ąŠčĆąŠą▓ą░ą╗čüčÅ. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć
ąĮą░ą│ąĮčāą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąĖ ą┐čĆąĖčēčāčĆąĖą╗čüčÅ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓čŗčåąĄą╗ąĖą▓ą░ą╗ ą│ąŠčüčéčÅ. ąóąŠčé ąČąĄ čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ
ąĖ, ą┐ąŠč鹊ą┐čéą░ą▓čłąĖčüčī, ąĘą░ą╝ąĄčéąĖą╗:
ŌĆō ą¦č鹊 ąČąĄ čéą░ą║ ą│ąŠčüčéčÅ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄčłčī? ŌĆō
ą║ąĖą▓ąĮčāą╗ ąĮą░ čĆčāąČčīąĄ. ŌĆō ąśą╗ąĖ ąĮąĄ čāąĘąĮą░ą╗ ą╝ąĄąĮčÅ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć?
ŌĆō ąŻąĘąĮą░ą╗ŌĆ” ŌĆō ą▒čāčĆą║ąĮčāą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ
čüčüčāčéčāą╗ąĖą╗čüčÅ.
ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ąŠčéą┤ąĄą╗ą░
čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ą║ąĮąĖą│ ąĖ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĄą╣ ą┐čāą▒ą╗ąĖčćąĮąŠą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ. ą¤ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░čéčŗą╣ ąĖ čāąČąĄ
ąĮąĄą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą╣, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čüčéčĆą░ą┤ą░ą╗ ąŠą┤čŗčłą║ąŠą╣, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ čü čéčĆčāą┤ąŠą╝, čćą░čüč鹊 ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤čÅ
ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĮą░ čłąĄą┐ąŠčé.
ŌĆō ąÜąŠą╗ąĖ ą│ąŠčüčéčī ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ čü ą┤čāą▒čīąĄą╝, čü č鹥ą╝ ąĖ
ą▓čüčéčĆąĄčćą░ąĄą╝, ŌĆō čüą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĮąŠ ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć.
ŌĆō ąÉ! ŌĆō ą▓ąĄčüąĄą╗ąŠ ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō
ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ąĮą░ čéą▓ąŠąĄą╣ čāą╗ąĖčåąĄ ąŠą┤ąŠą╗ąĄą╗ąĖ! ą×ą▒čģąŠą┤ąĖčéčī ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī.
ŌĆō ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ąŠą┤ąŠą╗ąĄą╗ąĖ? ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ą▓čŗą│ą╗čÅąĮčāą╗ ą▓ ąŠą║ąĮąŠ. ŌĆō ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ ąŠą┤ąŠą╗ąĄą╗ąĖŌĆ”
ąĪčāą║ą░, ą▓čŗą▒čĆą░ą▓čłąĖčüčī ąĖąĘ ą┐ąŠą┤ą▓ąŠčĆąŠčéąĮąĖ,
ą┐čāą│ą╗ąĖą▓ąŠ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖą╗ą░čüčī ą║ čĆą░čüą┐ą╗ą░čüčéą░ąĮąĮąŠą╝čā ą┐ąŠčüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ ą┐ąĄčĆąĄčāą╗ą║ą░ ą║ąŠą▒ąĄą╗čÄ, čü
ąŠą│ą╗čÅą┤ą║ąŠą╣ ąŠą▒ąĮčÄčģą░ą╗ą░ čüą▓ąĄąČčāčÄ ą║čĆąŠą▓čī ąĖ ąĮąĄč鹊čĆąŠą┐ą║ąŠ ąĘą░čéčĆčāčüąĖą╗ą░ ą┐čĆąŠčćčī. ąÜąŠą▒ąĄą╗čī
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┐čĆąĖą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ ąĖ, ą┐čĆąŠąĄą╗ąŠąĘąĖą▓ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą┐ąŠ ą│čĆčÅąĘąĖ,
čāčéą║ąĮčāą╗čüčÅ ą╝ąŠčĆą┤ąŠą╣ ą▓ ąĘąĄą╝ą╗čÄ, ąĘą░čéąĖčģ.
ąōąŠčüčéčī ąĖ čģąŠąĘčÅąĖąĮ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ąĖ, ąĮąĄ ą┤ąĄą╗ą░čÅ
ą┐ąŠą┐čŗč鹊ą║ ą▓ąŠąĘąŠą▒ąĮąŠą▓ąĖčéčī čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĘą░čéčÅą│ąĖą▓ą░čÄčēą░čÅčüčÅ ą┐ą░čāąĘą░ ąĮčāąČąĮą░ ą▒čŗą╗ą░
ąŠą▒ąŠąĖą╝ ą▓ čĆą░ą▓ąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć čüč鹊čÅą╗ čā ąŠą║ąĮą░ čü čĆčāąČčīąĄą╝ ą▓ čĆčāą║ą░čģ
ąĖ čüčāčéčāą╗ąĖą╗ čüą┐ąĖąĮčā ą┐ąŠą┤ čłąĖčĆąŠą║ąŠą╣, ąĮą░ą▓čŗą┐čāčüą║, čĆčāą▒ą░čģąŠą╣. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąČąĄ, ąĮąĄ ą▒čĆąŠčüą░čÅ
ą┐ą░ą╗ą║ąĖ, č鹊ą┐čéą░ą╗čüčÅ čā ą┐ąŠčĆąŠą│ą░ ąĖ čü ą╗čÄą▒ąŠą┐čŗčéčüčéą▓ąŠą╝ ąĘą░ą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗ ą▓ ą│ą╗čāą▒čī ą┤ąŠą╝ą░
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ąöąŠą╝ ą▒čŗą╗ čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗą╣, ą┤ąŠčĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠčüčéčĆąŠą╣ą║ąĖ, ąĖ čüąŠčüč鹊čÅą╗
ąĖąĘ ą░ąĮčäąĖą╗ą░ą┤čŗ ą║ąŠą╝ąĮą░čé čüąŠ čüąĮčÅčéčŗą╝ąĖ ąĘą░ ąĮąĄąĮą░ą┤ąŠą▒ąĮąŠčüčéčīčÄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ąĖ ą┤ą▓ąĄčĆčÅą╝ąĖ. ąśąĘ
ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčŗ ą▒čŗą╗ ą▓čģąŠą┤ ą▓ ą▒ąŠą║ąŠą▓čāčłą║ąĖ. ąĀą░ąĮčīčłąĄ ąĘą┤ąĄčüčī ąČąĖą╗ ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆ
čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ čüąĄą╝ąĄą╣čüčéą▓ąŠą╝, čüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĖą╝ ąĖąĘ
ą┤ąĄč鹥ą╣, ą▓ąĮčāą║ąŠą▓ ąĖ ą┐ą╗ąĄą╝čÅąĮąĮąĖą║ąŠą▓. ąŻčģąŠąČąĄąĮąĮą░čÅ, ąŠą▒čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮą░čÅ čüčéą░čĆąĖąĮąĮąŠą╣
ą╝ąĄą▒ąĄą╗čīčÄ ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆą░ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą╗ą░ ą▒ą░čĆčüą║ąĖą╣ ą┤ąŠą╝, čü ąĄą┤ąĖąĮąŠąČą┤čŗ ąĮą░ą▓ąĄą║ąĖ
ąĘą░ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ąŠą▒čŗčćą░čÅą╝ąĖ, ą┐čĆąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ą▓ąĄčēąĖ ŌĆō čüą▓ąŠąĄ
ą╝ąĄčüč鹊, ą░ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ŌĆō ą┤ąĄą╗ąŠ. ąØąŠ ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓čüą║ąŠčĆąĄ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čüčÄą┤ą░ ą┐ąĄčĆąĄą▒čĆą░ą╗čüčÅ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, ąŠą▒ą╝ąĄąĮčÅą▓čłąĖčüčī čü ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆąŠą╝ ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆą░ą╝ąĖ, ą▓ ą┤ąŠą╝ąĄ čĆą░ąĘ ąĖ
ąĮą░ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą┐ąŠčüąĄą╗ąĖą╗čüčÅ ą▒ąĄčüą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║. ąÜą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, ą▓čüąĄ ąĘą┤ąĄčüčī ą┐čĆąĖą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╗ąĖ ą║
čĆąĄą╝ąŠąĮčéčā, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ąĮąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ ąĄą│ąŠ, ąĖ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčŗ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ
ąĘą░čĆą░čüčéą░ą╗ąĖ ą┐čŗą╗čīčÄ. ąÜąŠčüąŠą▒ąŠčćąĖą╗ąĖčüčī ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆąŠą╝ čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗąĄ ąĖ
ąŠą▒čłą░čĆą┐ą░ąĮąĮčŗąĄ ą┤ąĖą▓ą░ąĮčćąĖą║ąĖ ąĮą░ ą│ąĮčāčéčŗčģ ąĮąŠąČą║ą░čģ, čģčĆąŠą╝ą░ą╗ąĖ ą▓ąĄąĮčüą║ąĖąĄ čüčéčāą╗čīčÅ, ą░ ąĮą░
ą┐ąŠčéčĆąĄčüą║ą░ąĮąĮčŗčģ čüč鹥ąĮą░čģ č鹥ą╝ąĮąĄą╗ąĖ ąĮąĄąĘą░ą▒ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ą▓ą░ą┤čĆą░čéčŗ ąŠčé ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čüąĮčÅčéčŗčģ
ą║ą░čĆčéąĖąĮ, ą│čāčüč鹊 č鹊ą┐ąŠčĆčēąĖą╗ąĖčüčī ą│ą▓ąŠąĘą┤ąĖ, ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊 čćč鹊‑č鹊 ą▓ąĖčüąĄą╗ąŠ
ąĖą╗ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖą▓čÅąĘą░ąĮąŠ. ąÆ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĄą╣, ąĮą░ čäąĖą│čāčĆąĮčŗčģ ą║čĆčÄčćčīčÅčģ ą▓ąĄčłą░ą╗ą║ąĖ, ą│ąŠčĆąŠą╣
ą▓ąĖčüąĄą╗ąĖ ąĖąĘčĆčÅą┤ąĮąŠ ą┐ąŠąĮąŠčłąĄąĮąĮčŗąĄ ą┐ą░ą╗čīč鹊, ą┐ą╗ą░čēąĖ, ą┤ąŠąČą┤ąĄą▓ąĖą║ąĖ, ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊 ą║čāčĆčéą║ąĖ,
čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 čüčÄą┤ą░ ą▓ą▓ą░ą╗ąĖą╗ą░čüčī č鹊ą╗ą┐ą░ ąĮą░čĆąŠą┤čā, č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░čüčī ąĖ
ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ą░ ą│ą┤ąĄ‑č鹊 ą▓ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ ą┐čĆąŠčüč鹊čĆąĮąŠą│ąŠ ą┤ąŠą╝ą░.
ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, čüą╗ąĄą┤ąĖčéčī ąĘą░ ą║ą▓ą░čĆčéąĖčĆąŠą╣ čéčāčé ą▒čŗą╗ąŠ
ąĮąĄą║ąŠą╝čā. ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąČąĖą╗ ą▓ą┤ą▓ąŠąĄą╝ čü čüčŗąĮąŠą╝ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮąŠą╝, ą▓čĆą░č湊ą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąŠą╣
ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčŗ, č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ čģąŠą╗ąŠčüčéčŗą╝ ąĖ ąĘą░ąĮčÅčéčŗą╝ ąĮą░ čĆą░ą▒ąŠč鹥.
ŌĆō ąØčā, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć! ŌĆō ąŠąČąĖą▓ąĖą╗čüčÅ
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠčéą┤čŗčłą░ą▓čłąĖčüčī. ŌĆō ąØąŠą▓ąŠčüčéčī čüą╗čŗčģą░ą╗ ŌĆō ąĮąĄčé?
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čćčāčéčī ą▓čŗą┐čĆčÅą╝ąĖą╗čüčÅ, čüą║čĆąĖą┐ąĮčāą╗
ą┐čĆąŠč鹥ąĘ.
ŌĆō ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčüąĄ ą┐ąŠą▒čŗą▓ą░ą╗! ŌĆō ą▓ą┤čĆčāą│
ąĘą░č鹊čĆąŠą┐ąĖą╗čüčÅ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąÜą░ą║ąŠą▓ąŠ, ą░?.. ą«čĆąĖą╣ ąōą░ą│ą░čĆąĖąĮ! ą¤ąĄčĆą▓čŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║
ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ą░ą╝ąĖ ąŚąĄą╝ą╗ąĖ!..
ŌĆō ąĪą╗čŗčģą░ą╗, ŌĆō ąŠčéčĆčāą▒ąĖą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć. ŌĆō
ąóą░ą║ čéčŗ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖčéčī ą╝ąĄąĮčÅ ą┐čĆąĖčłąĄą╗?
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ą┐ą░ą╗ą║čā ą▓ čāą│ąŠą╗ ąĖ,
ą▓ąĘą╝ą░čģąĮčāą▓ čłą╗čÅą┐ąŠą╣, čüą║čĆąĄčüčéąĖą╗ čĆčāą║ąĖ ąĮą░ ąČąĖą▓ąŠč鹥. ąØą░ ąĮąĄą│ąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ čüąĮąŠą▓ą░ ąĮą░ą┐ą░ą╗
ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ ąŠą┤čŗčłą║ąĖ: ą║ą╗ąŠą║ąŠčéąĮčāą╗ąŠ ą▓ ą│ąŠčĆą╗ąĄ, ąĖ ą▓ąŠą║čĆčāą│ čĆčéą░ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ čĆą░čüą┐ą╗čŗą╗čüčÅ
čüąĖąĮąĄą▓ą░čéčŗą╣ ąŠčéč鹥ąĮąŠą║.
ŌĆō ąŻ ą┐ąŠčĆąŠą│ą░ ąĮąĄ ą┤ąĄčƹȹĖ, ŌĆō čüą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÅčüčī čü
čłčāą╝ąĮčŗą╝ ą┤čŗčģą░ąĮąĖąĄą╝, ą┐čĆąŠčłąĄą┐čéą░ą╗ ąŠąĮ. ŌĆō ąĪą║ą░ąČčā, ąĘą░č湥ą╝ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ŌĆ”
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĄą╗ąŠą▓ą║ąŠ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĖ ą╝ąŠą╗čćą░
ąĘą░čģčĆąŠą╝ą░ą╗ čüą║ą▓ąŠąĘčī ą░ąĮčäąĖą╗ą░ą┤čā, ą┐ąŠčüčéčāą║ąĖą▓ą░čÅ ą┐čĆąŠč鹥ąĘąŠą╝ ąĖ ą┐čĆąĖą║ą╗ą░ą┤ąŠą╝ čĆčāąČčīčÅ.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠąĮčÅą╗, čćč鹊 čŹč鹊 ąŠąĘąĮą░čćą░ąĄčé ą┐čĆąĖą│ą╗ą░čłąĄąĮąĖąĄ, čü čéčĆčāą┤ąŠą╝ čüčéą░čēąĖą╗ čü čüąĄą▒čÅ
ą┐ą░ą╗čīč鹊, ą▒čĆąŠčüąĖą╗ čłą╗čÅą┐čā ąĮą░ ą▓ąĄčłą░ą╗ą║čā ąĖ ą┤ą▓ąĖąĮčāą╗čüčÅ čüą╗ąĄą┤ąŠą╝. ąÆ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╣
ą║ąŠą╝ąĮą░č鹥, ą┐čĆąĖčüą┐ąŠčüąŠą▒ą╗ąĄąĮąĮąŠą╣ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čŗą╝ ą┐ąŠą┤ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé, čģąŠąĘčÅąĖąĮ ą┐ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗
čĆčāąČčīąĄ ą║ čüč鹥ąĮąĄ, ą┐ąŠą║ąŠą┐ą░ą▓čłąĖčüčī čü čäąĖą║čüą░č鹊čĆąŠą╝, čüąŠą│ąĮčāą╗ ą▓ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĄ ą┐čĆąŠč鹥ąĘ ąĖ
čüąĄą╗ ąĘą░ čüč鹊ą╗. ąØą░ čüč鹊ą╗ąĄ, ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģ ą▒čāą╝ą░ą│, čüč鹊čÅą╗ ąĘą░ą▓čéčĆą░ą║ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░:
čéą░čĆąĄą╗ą║ą░ čü ą║čĆčāą┐ąĮčŗą╝ąĖ ą║čāčüą║ą░ą╝ąĖ ą║ąŠą╗ą▒ą░čüčŗ, čģą╗ąĄą▒ ąĖ ą║čĆčāąČą║ą░ čü čćą░ąĄą╝. ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć, ąĮąĄ ą│ą╗čÅą┤čÅ ąĮą░ ą│ąŠčüčéčÅ, ą┐čĆąĖą┤ą▓ąĖąĮčāą╗ čéą░čĆąĄą╗ą║čā ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ ąĄčüčéčī ą║ąŠą╗ą▒ą░čüčā.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐čĆąĖčüąĄą╗ čüą▒ąŠą║čā, ąĮąŠ ąŠą▒ąĄčēą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆą░ ąĮąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗. ą×ąĮ
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą┤ą╗čÅ čüąĄą▒čÅ ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╗, čćč鹊 čģąŠąĘčÅąĖąĮ ąĄčüčé ą▓čĆąŠą┤ąĄ ąĖ ąČą░ą┤ąĮąŠ, ą░
ąĮąĄąŠčģąŠčéąĮąŠ, ą▒čāą┤č鹊 ąĮą░čüąĖą╗čīąĮąŠ ą▓ą┐ąĖčģąĖą▓ą░ąĄčé ą▓ čüąĄą▒čÅ ą┐ąĖčēčā. ąÜąŠą╗ą▒ą░čüą░, ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╝čā
ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą▒čŗą╗ą░ ą▓ą║čāčüąĮą░čÅ ŌĆō čüčāčģą░čÅ, čü č湥čüąĮąŠčćą║ąŠą╝, ą▓ąŠąĘą▒čāąČą┤ą░ą▓čłąĖą╝ ą░ą┐ą┐ąĄčéąĖčé. ąĢąĄ
ą│ą╗ąŠčéą░čéčī ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗ čü čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝, čü ąĮą░čüą╗ą░ąČą┤ąĄąĮąĖąĄą╝, ŌĆō ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąČąĄ ąĄąĄ
ą║ą░ą║ ą║čāčüą║ąĖ ą│ą╗ąĖąĮčŗ ąČąĄą▓ą░ą╗. ą£čŗčüą╗ąĖ, čćč鹊 čģąŠąĘčÅąĖąĮčā ąĮąĄą┐čĆąĖą╗ąĖčćąĮąŠ ąĄčüčéčī ą▓ąŠčé čéą░ą║, ą▓
ąŠą┤ąĖąĮąŠčćą║čā, ąĮąĄ ą┐čĆąĖą│ą╗ą░čłą░čÅ, čā ą│ąŠčüčéčÅ ą┤ą░ąČąĄ ąĖ ąĮąĄ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą┐čĆąĖ ąĖčģ
čü ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čŗą╝ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅčģ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą┐ąŠą╗ąĮąĄ ąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╝.
ąś ąĄčēąĄ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąŠčéą╝ąĄčéąĖą╗, čćč鹊 čü ą╝ąŠą╝ąĄąĮčéą░
ą┐čĆąĖčģąŠą┤ą░ ą▓ čŹč鹊čé ą┤ąŠą╝ ąĮąĄąĘą░ą▓ąĖčüąĖą╝ąŠ ąŠčé čüąĄą▒čÅ čäąĖą║čüąĖčĆčāąĄčé ą║ą░ąČą┤čāčÄ č湥čĆč鹊čćą║čā ą▓
ą┐ąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĖ čģąŠąĘčÅąĖąĮą░ ąĖ ą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąŠ čüą╗ąĖčćą░ąĄčé ąĄąĄ čü čāąČąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ąĖ ąĄą╝čā. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
čāąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ ąĖ ąĮąĄ čāąĘąĮą░ą▓ą░ą╗ ąØąĖą║ąĖčéčā ąĪčéčĆą░čüčéąĮąŠą│ąŠ. ąÆčüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖą╣ čĆą░ąĘ ąŠąĮąĖ
ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖčüčī ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī ą╗ąĄčé ąĮą░ąĘą░ą┤ŌĆ”
ŌĆō ąÉ ąĮąĄ čĆą░ąĮąŠ ą╗ąĖ? ŌĆō ą▓ą┤čĆčāą│ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, čłą▓čŗčĆąĮčāą▓ ąŠą│čĆčŗąĘąŠą║ ą║ąŠą╗ą▒ą░čüčŗ ą▓ čéą░čĆąĄą╗ą║čā.
ŌĆō ą¦č鹊ŌĆ” ąĮąĄ čĆą░ąĮąŠ? ŌĆō ąĮąĄ ą┐ąŠąĮčÅą╗ ą│ąŠčüčéčī ąĖ
ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗čüčÅ. ąĢą╝čā ąĘą░čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ ąĖ ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī, ąĮąĄčé ą╗ąĖ ą║ąŠą│ąŠ
ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čéčāą┤ą░.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░čüčāą┐ąĖą╗čüčÅ:
ŌĆō ąØąĄ čĆą░ąĮąŠ ą╗ąĖ, ą│ąŠą▓ąŠčĆčÄ, č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčü
ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗?.. ąØą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ‑č鹊 ąĄčēąĄ ą┐čāč鹥ą╝ ąČąĖčéčī ąĮąĄ ąĮą░čāčćąĖą╗ąĖčüčī. ąØą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ąĄą╝čā ąĄčēąĄ
ą┐čāčüč鹊 ąĖ čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠ, ą║ą░ą║ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčüąĄŌĆ” ąĪąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▓ąŠąĮ ąŠą┤ąŠą╗ąĄą▓ą░čÄčéŌĆ” ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čģąŠč鹥ą╗
ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąŠąĘčĆą░ąĘąĖčéčī, ąĮąŠ ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ čüč鹊ą╗ą║ąĮčāą╗čüčÅ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ čü ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čŗą╝. ąÆ
ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░ čéą░ąĖą╗ą░čüčī čĆčéčāčéąĮą░čÅ čéčÅąČąĄčüčéčī, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĄą│ąŠ ą║ą╗ąŠąĮąĖą╗ąŠ ą▓
čüąŠąĮ: ą┐ąŠą┤čĆą░ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ą▓ąĄą║ąĖ, č湥čĆąĮąŠ ą┐ąŠą▒ą╗ąĄčüą║ąĖą▓ą░ą╗ąĖ ąĘčĆą░čćą║ąĖ, ŌĆō ąĖ ąĮąĄ čüą┐ą░čéčī ą┤ą╗čÅ
ąĮąĄą│ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą╝čāčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ. ┬½ąöą░ ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓ ą╗ąĖ ąŠąĮ?┬╗ ŌĆō čü ąĖčüą┐čāą│ąŠą╝ ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
ąĖ ąĘą░čłąĄą▓ąĄą╗ąĖą╗čüčÅ. ąÉ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, čĆąĄąĘą║ąŠ ąŠčéč鹊ą╗ą║ąĮčāą▓čłąĖčüčī ąŠčé ą║čĆąĄčüą╗ą░, ą▓čüą║ąŠčćąĖą╗
ąĖ, ą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ą▓čŗą▒čĆą░čüčŗą▓ą░čÅ ą┐čĆąŠč鹥ąĘ, ą║ąĖąĮčāą╗čüčÅ ą║ ą║ąŠą▓čĆčā čü ąŠą╗ąĄąĮčÅą╝ąĖ. ąōčĆąŠą╝čŗčģąĮčāą╗ą░
ąŠą▒ąĖčéą░čÅ ąČąĄčüčéčīčÄ ą┤ą▓ąĄčĆčī, ąĘą░ą▒čĆąĄąĮčćą░ą╗ąĖ ą║ą╗čÄčćąĖŌĆ”
ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ąĄčüčéčī ąĘą░
čŹč鹊ą╣ ą┤ą▓ąĄčĆčīčÄ. ąóąŠą│ą┤ą░, ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī ą╗ąĄčé č鹊ą╝čā ąĮą░ąĘą░ą┤, ąŠąĮ ą▒čŗą╗ ą▓čģąŠąČ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ
ą▓ ą┤ąŠą╝ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░, ąĮąŠ ąĖ ą▓ čŹčéčā ą║ąŠą╝ąĮą░čéą║čā, ą▓ ą▒ąŠą║ąŠą▓čāčłą║čā, ą┐ą╗ąŠčéąĮąŠ
ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčāčÄ ą║ąĮąĖąČąĮčŗą╝ąĖ čłą║ą░čäą░ą╝ąĖ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ŌĆō ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ŌĆō
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ąĮąĄ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠ‑č鹊 ą┤ąŠą▓ąĄčĆčÅą╗ ąĄą╝čā, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ čāąČ ą▓ą┐čāčüą║ą░ą╗ ą▓ čüą▓ąŠąĄ
čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ, č鹊 ąĮąĄą┐čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čüč鹊čÅą╗ ąĘą░ čüą┐ąĖąĮąŠą╣. ąźąŠčĆąŠčłąŠ, čćč鹊 ą║ą╗čÄčćąĖ ąŠčé
čłą║ą░č乊ą▓ (ąŠą┐čÅčéčī ąČąĄ ąĮą░čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąŠ ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆą░) ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ čāč鹥čĆčÅąĮčŗ ąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ
ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčéą║čĆčŗčéčī ą╗čÄą▒čāčÄ ą┤ą▓ąĄčĆčåčā, ą▓ąĘčÅčéčī ą▓ čĆčāą║ąĖ ą║ąĮąĖą│čā, ą┐ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄčéčī,
ą┐ąŠą╗ąĖčüčéą░čéčī. ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗: ą║ąĮąĖą│ąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ čüą░ą╝ąĖ ąĘą░ čüąĄą▒čÅŌĆ”
ąÆ ą▒ąŠą║ąŠą▓čāčłą║ąĄ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąŠčüčī čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ą║ąĮąĖą│:
ąŠą║ąŠą╗ąŠ čüąĄą╝ąĖčüąŠčé čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗčģ ąĖ čüčéą░čĆąŠą┐ąĄčćą░čéąĮčŗčģ č乊ą╗ąĖą░ąĮč鹊ą▓. ąÆą┐čĆąŠč湥ą╝, čŹčéą░
čåąĖčäčĆą░ ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣, čāčüčéą░čĆąĄą▓čłąĄą╣. ą×ąĮą░ čüčéą░ą╗ą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠą╣ ąĄčēąĄ ą▓
ą┐čÅčéąĖą┤ąĄčüčÅč鹊ą╝ ą│ąŠą┤čā, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĖąĘ ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮč鹊ą║ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī
čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĖčéčī ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĮąĄą┐čĆąĖčüčéčāą┐ąĮąŠą│ąŠ ąØąĖą║ąĖčéčā ąĪčéčĆą░čüčéąĮąŠą│ąŠ ąĖ ą┤ą▓ąĄ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ ŌĆō ą┐ąŠ
ą┤ą▓ą░ čćą░čüą░ ą▓ ą┤ąĄąĮčī ŌĆō čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī čü čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄą╝ ą║ąĮąĖą│. ą¦ąĄčĆąĄąĘ, ą┤ą▓ąĄ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĖ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĘą░čüčéą░ą╗ ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮčéą║čā ąĘą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝ ą║ą░čéą░ą╗ąŠą│ą░ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĄą╣
ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░, čćč鹊 čüčéčĆąŠą│ąŠ‑ąĮą░čüčéčĆąŠą│ąŠ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ą╗ąŠčüčī ą┤ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ,
ąĖ ą▓čŗą│ąĮą░ą╗ ąĄąĄ, ąŠč鹊ą▒čĆą░ą▓ ą▓čüąĄ ąĘą░ą┐ąĖčüąĖ. ąĪ č鹥čģ ą┐ąŠčĆ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮą░ ąĮąŠą│ą░ ąĮą░čāčćąĮąŠą│ąŠ
čĆą░ą▒ąŠčéąĮąĖą║ą░ ąĮąĄ čüčéčāą┐ą░ą╗ą░ ąĘą░ ą┐ąŠčĆąŠą│ ąĘą░ą▓ąĄčéąĮąŠą╣ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, čģąŠčéčÅ, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ, ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć čü ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝ čĆą░čüą┐ą░čģąĖą▓ą░ąĄčé ąĄąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ąŠčüčéčÅą╝ąĖ,
ą┤ą░ą╗ąĄą║ąĖą╝ąĖ ąŠčé ąĮą░čāą║ąĖ ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčĆčāčüčüą║ąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆčŗ. ąóąŠ, čüą╗čŗčłąĮąŠ, ą┐čāčüčéąĖą╗
ą║ąŠą│ąŠ‑č鹊 ąĖąĘ ą╝ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ą░, č鹊 čłą║ąŠą╗čīąĮąŠą│ąŠ čāčćąĖč鹥ą╗čÅ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ą░ č鹊 ąĖ
ą▓ąŠą▓čüąĄ‑ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮčåą░. ąÉ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ čü č鹊ą╣ ą┐ąŠčĆčŗ
ą▓čŗčĆąŠčüą╗ąŠ, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ąŠąĮ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą│ąŠą┤ ąĮą░ą┤ąŠą╗ą│ąŠ čāąĄąĘąČą░ą╗ ą▓ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤č湥čüą║ąĖąĄ
čüą║ąĖčéčŗ ąĖ, ąŠą┐čÅčéčī ąČąĄ ą┐ąŠ čüą╗čāčģą░ą╝, ą┐čĆąĖą▓ąŠąĘąĖą╗ ąŠčéčéčāą┤ą░ ą▓ąĄčēąĖ čĆąĄą┤čćą░ą╣čłąĖąĄ ąĖ
čāą┤ąĖą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ąĘą░ą┐ąĄčĆ ą┤ą▓ąĄčĆčī ąĖ, ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĄąĮąĮčŗą╣,
čüąĄčÅ ąĘą░ čüč鹊ą╗.
ŌĆō ąØčā, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠąĮ, ŌĆō ąĮąĄ čéčŗ ą╗ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓
ą║ąŠčüą╝ąŠčü čüąŠą▒čĆą░ą╗čüčÅ?
ŌĆō ąÆ čüą║ąĖčéčŗ čÅ čüąŠą▒čĆą░ą╗čüčÅ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, ŌĆō
čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ą¤ąŠč鹊ą╝čā ąĖ ą║ č鹥ą▒ąĄ ą┐čĆąĖčłąĄą╗.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖčēčāčĆąĖą╗čüčÅ. ą¤ąŠą┤ąĮčÅčéčŗąĄ ą▒čĆąŠą▓ąĖ
ąĘą░čüčéčŗą╗ąĖ ą▓ ąĖąĘą╗ąŠą╝ąĄ, ą┐ąŠą┤ą┐ąĖčĆą░čÅ ą║čĆčāą┐ąĮčŗąĄ čüą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ ąĮą░ ą╗ą▒čā.
ŌĆō ą£čŗ čü čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥č鹊ą╝ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆčéčŗą▓ą░ąĄą╝
ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čāŌĆ” ŌĆō ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ ą▒čŗą╗ąŠ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, ąĮąŠ ą▓ą┤čĆčāą│ ą┐ąŠą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ:
ŌĆō ąŁč鹊, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ čüą║ą░ąĘą░ąĮąŠŌĆ” ąØąŠ čāąČąĄ
ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąŠčéą┐čāčüčéąĖą╗ąĖ, ą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╝ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ čŹą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ. ąĢą┤ąĄą╝ ą┐ąŠą║ą░ ą▓ą┤ą▓ąŠąĄą╝: čÅ ąĖ
ą┤ąĄą▓čāčłą║ą░ čü ą║ą░č乥ą┤čĆčŗŌĆ”
ŌĆō ąæą╗ą░ą│ąŠčüą╗ąŠą▓ą╗čÅčÄ, ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗ ąĄą│ąŠ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čüčāčģąŠ ąĖ ą▒ąĄąĘ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüą░.
ŌĆō ąĪą┐ą░čüąĖą▒ąŠŌĆ” ąØąŠ čÅ ąĮąĄ ąĘą░ čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ŌĆō
ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓.
ŌĆō ąÉ ąĘą░ č湥ą╝ ąČąĄ ąĄčēąĄ?! ŌĆō ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ
ą▓ąĘąŠčĆą▓ą░ą╗čüčÅ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĪčéčĆą░čüčéąĮčŗą╣. ŌĆō ąØą░ čćč鹊 čÅ ąĄčēąĄ ą▓ą░ą╝ ąĮčāąČąĄąĮ?.. ąØčā ąĖ ąĄąĘąČą░ą╣č鹥
čüąĄą▒ąĄ ąĮą░ ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čīąĄ, ą║ąŠą╗ąĖ čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčī! ąśčēąĖč鹥, čüą┐ą░čüą░ą╣č鹥. ąÆčŗ ąČąĄ ąĄąĘą┤ąĖą╗ąĖ ą▓
ą¤ąŠą╝ąŠčĆčīąĄ, ą╝ąĄčłą║ą░ą╝ąĖ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą┐čĆąĖą▓ąŠąĘąĖą╗ąĖ. ą×čéą┐čĆą░ą▓ą╗čÅą╣č鹥čüčī č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓ čüą║ąĖčéčŗ.
ą×ą▒čģąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī ą▒ąĄąĘ ą╝ąĄąĮčÅ, ąĖ čüąĄą╣čćą░čü ąŠą▒ąŠą╣ą┤ąĄč鹥čüčīŌĆ” ąÜą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüąŠą▓ąĄčüčéąĖ čģą▓ą░čéąĖą╗ąŠ
ą┐čĆąĖą╣čéąĖ! ąŚą░ą▒čŗą╗, ą║ą░ą║ čéčŗ ą╝ąĮąĄ ąĮą░ ąöą░ą╗čīąĮąĄą╝ ąÆąŠčüč鹊ą║ąĄ ą▓čüąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĖčüą┐ąŠčĆčéąĖą╗?
ąöčāą╝ą░ąĄčłčī, ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠ, čéą░ą║ čÅ ą┐čĆąŠčüčéąĖą╗?.. ąØąĄčé, ąĮąĄ ą┐čĆąŠčüčéąĖą╗ŌĆ” ąØą░ą┤ąŠ ąČąĄ!
ąÆčüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗, ą┐čĆąĖčłąĄą╗!
ąōąĮąĄą▓ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░ ą┐čĆąŠčłąĄą╗ čéą░ą║ ąČąĄ
ą▒čŗčüčéčĆąŠ, ą║ą░ą║ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗čüčÅ. ą¦ąĄčĆąĄąĘ čüąĄą║čāąĮą┤čā ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čāąČąĄ ą▒ąĄąĘčĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠ
čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┤ čüąŠą▒ąŠą╣, ą╗ąĖčłčī čéčÅąČąĄą╗čŗąĄ ą▓ąĄą║ąĖ ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą┤čĆą░ą│ąĖą▓ą░ą╗ąĖ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąŠąĮ
ą▒ąŠčĆąŠą╗čüčÅ čüąŠ čüąĮąŠą╝. ą¤ąĄčĆąĄą┤ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čŗą╝ čüąĖą┤ąĄą╗ čāčüčéą░ą╗čŗą╣, ą┤čĆąĄą╝ą╗čÄčēąĖą╣ čüčéą░čĆąĖą║,
ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮąĮčŗą╣ č鹊čĆčćą░čéčī čéčāčé ąĖ ą▓ąĄčüčéąĖ ąĮąĄąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčāčÄ ą▒ąĄčüąĄą┤čā. ąś ą▓ąŠčé čéą░ą║ąŠąĄ ąĄą│ąŠ
čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĄ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗ąŠ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ. ąĢčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čüąĄą╣čćą░čü
ąŠčĆą░ą╗, čüčéčāčćą░ą╗ ą┐čĆąŠč鹥ąĘąŠą╝ ąĖ ą╝ąĄčéą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠ ą║ąŠą╝ąĮą░č鹥 ŌĆō ą▓čüąĄ čŹč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ
ąĮąŠčĆą╝ą░ą╗čīąĮčŗą╝. ąĢą│ąŠ čüč鹊ąĖą╗ąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░ą▓ąĄčüčéąĖ, ą░ čāąĮčÅčéčī ąĮąĄ čāą╣ą╝ąĄčłčī, ą┐ąŠą║ą░ čüą░ą╝
ąĮąĄ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖčéčüčÅ. ąØąĄ ąĘčĆčÅ ąČąĄ ąĄą│ąŠ ąĘą▓ą░ą╗ąĖ ąØąĖą║ąĖč鹊ą╣ ąĪčéčĆą░čüčéąĮčŗą╝. ąĪąŠą▒ąĖčĆą░čÅčüčī ą║
ąĮąĄą╝čā, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą│ąŠč鹊ą▓ąĖą╗čüčÅ ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ ą║ čéą░ą║ąŠą╝čā ą┐čĆąĖąĄą╝čā. ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą▒čŗą╗ čüą╗čāčģ,
čćč鹊 ą║ čüčéą░čĆąŠčüčéąĖ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čüą┤ąĄą╗ą░ą╗čüčÅ ąĄčēąĄ ą▓ąŠčĆčćą╗ąĖą▓ąĄąĄ ąĖ ąĮąĄčāąČąĖą▓čćąĖą▓ąĄąĄ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ąĘąĮą░ą╗ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ąĖą╣ čüąĄą║čĆąĄčé, ą║ą░ą║ ąŠą▒čāąĘą┤ą░čéčī ą║čĆčāč鹊ą╣ ąĮčĆą░ą▓
ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĪčéčĆą░čüčéąĮąŠą│ąŠ, ŌĆō ą┐ąŠą║ą░čÅčéčīčüčÅ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ, ą┐čĆą░ą▓ą┤ą░, ąĮąĄ čüčĆą░ąĘčā, ąĮąŠ
ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ č鹊čé ąŠčéčéą░ąĖą▓ą░ą╗ ąĖ čüąĮąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗.
ŌĆō ąÆčüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, ŌĆō
ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąÆčüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖ, čćč鹊 čéčŗ ąĮąĄąĘą╗ąŠą┐ą░ą╝čÅčéąĮčŗą╣.
ŌĆō ąöą░ ąĮąĄčé, ąĘą╗ąŠą┐ą░ą╝čÅčéąĮčŗą╣ čÅ, ŌĆō čéąĖčģąŠ
ą┐čĆąŠą╝ąŠą╗ą▓ąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąÆčüąĄ ąĘą╗ąŠ, čćč鹊 ą╝ąĮąĄ čüąŠčéą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ, ą┐ąŠą╝ąĮčÄ. ąØąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ
ąĘą░ą▒čŗą╗. ąś č鹥ą▒čÅŌĆ” č鹊ąČąĄ ąĮąĄ ąĘą░ą▒čŗą╗. ąźą▓ą░čéąĖčé ą║čĆčāčéąĖčéčī, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖ, čćč鹊 ąĮą░ą┤ąŠ.
ŌĆō ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┐ąŠ čüą║ąĖčéą░ą╝, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
ąĖ, ą┐ąŠčćčāčÅą▓ ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ ąŠą┤čŗčłą║ąĖ, čüčéą░ą╗ ą┤čŗčłą░čéčī ąĮąŠčüąŠą╝, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐čĆąĖ čŹč鹊ą╝
ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ąŠčüčī, ą▒čāą┤č鹊 ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé ąŠąĮ čüą║ą▓ąŠąĘčī ąĘčāą▒čŗ:
ŌĆō ą£čŗ ąĮąĄ ąĘąĮą░ąĄą╝, ą║čāą┤ą░ ąĄčģą░čéčī, čü č湥ą│ąŠ
ąĮą░čćą░čéčī. ąĢčüą╗ąĖ ą┐ąĄčĆą▓ą░čÅ čŹą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ ą▒čāą┤ąĄčé ą▓čģąŠą╗ąŠčüčéčāčÄ, ąĮą░ ą▒čāą┤čāčēąĖą╣ ą│ąŠą┤ ąĮąĄ
ą┤ą░ą┤čāčé ą┤ąĄąĮąĄą│. ą×ą┐čÅčéčī čģąŠą┤ąĖ ąĖ ą┤ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╣ŌĆ” ąØą░ą╝ ą▒čŗ čģąŠčéčī ąĘą░čéčĆą░čéčŗ ąĮą░
菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ ąŠą║čāą┐ąĖčéčī.
ŌĆō ąóčŗ čćč鹊 ąČąĄ, ą║čāą┐čåąŠą╝ č鹥ą┐ąĄčĆčī čüą╗čāąČąĖčłčī? ŌĆō
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░. ŌĆō ąśą╗ąĖ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘčćąĖą║ąŠą╝ čā ą║čāą┐čåą░? ąæą░čĆčŗčł čü č鹥ą▒čÅ
čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░čÄčé?
ŌĆō ąÉ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ąĖ ą║čāą┐čåąŠą╝, ŌĆō ą┐čĆąŠčłąĄą┐čéą░ą╗
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, čüą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčÅčüčī čü ąŠą┤čŗčłą║ąŠą╣. ŌĆō ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▒ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĮąĄ
ąĘą░ą│čāą▒ąĖčéčī. ąĪą║ąĖčéčŗ ŌĆō ąĮąĄ ą¤ąŠą╝ąŠčĆčīąĄ. ąöąĄą▓čāčłą║ą░‑č鹊 čŹčéą░ŌĆ” ą║ ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╝
čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåą░ą╝ ą┐ąŠčłą╗ą░ ŌĆō ąĮą░ ą┐ąŠčĆąŠą│ ąĮąĄ ą┐čāčüčéąĖą╗ąĖŌĆ” ąóčŗ ąČąĄ ą▓ čüą║ąĖčéą░čģ čüą▓ąŠą╣
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ąĘąĮą░ąĄčłčī, čü ą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą║ą░ ą║ ąĮąĖą╝ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖčéčī. ąóčŗ čāąČ ą▓čŗčĆčāčćąĖ, ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć, ą┐ąŠą╝ąŠą│ąĖ. ąØą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮčÅčģ ą┐čĆąŠčłčā.
ŌĆō ąóą░ą║ čüčéą░ąĮąŠą▓ąĖčüčī ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ, č湥ą│ąŠ
čüąĖą┤ąĖčłčī?.. ą¤ą░ą┤ą░ą╣ ąĖ ą┐ąŠą╗ąĘąĖ ą║ ąĮąŠą│ą░ą╝, ą░ą║ąĖ ą▒ą╗čāą┤ąĮčŗą╣ čüčŗąĮ, ŌĆō ą┐čĆąŠą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą▒čāą┤č鹊 čüą║ą▓ąŠąĘčī čüąŠąĮ. ŌĆō ąźąŠčćčā ą┐ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄčéčī: ą┤ąŠčĆąŠą│ą░ ą╗ąĖ č鹥ą▒ąĄ
菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ.
ŌĆō ąØąĄ ąĖąĘą┤ąĄą▓ą░ą╣čüčÅ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčćŌĆ” ąóčŗ ąČąĄ
ąĘąĮą░ąĄčłčī, čÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ č鹊ą▒ąŠą╣ ą╝ąŠą│čā ąĖ ąĮą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮąĖ ą▓čüčéą░čéčīŌĆ” ą£čŗ ą┐ąŠ‑ą┤čĆčāą│ąŠą╝čā čģąŠčéąĖą╝
čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī, ą┐ąŠ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║ąĄ. ą¤ąŠ čéą▓ąŠąĄą╣, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, ą║ą░ą║ čéčŗ čāčćąĖą╗.
ŌĆō ą¤ąŠ ą╝ąŠąĄą╣ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║ąĄ?.. ąöą░ ą▓čŗ čģąŠčéčī
ąĘąĮą░ąĄč鹥 ą╝ąŠčÄ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║čā‑č鹊? ąÆčŗ čģąŠčéčī ąĄąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄč鹥?.. ąÉ ą┐ąŠč湥ą╝čā čĆą░ąĮčīčłąĄ ąĮąĄ
ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ? ą» ąČąĄ ąĘą▓ą░ą╗ ą▓ą░čü, ąĘą▓ą░ą╗, ą┐čĆąŠčüąĖą╗, ą░ ą▓čŗ? ąÉ čéčŗ, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, č湥ą╝ ą╝ąĮąĄ
ąŠčéą┐ą╗ą░čéąĖą╗?.. ąŚą░ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ ąŠąĮąĖ čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčīŌĆ”
ŌĆō ąÆčĆąĄą╝čÅ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ, ą▓ąŠčé ąĖ čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčī, ŌĆō ąĮąĄ
čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąĪą░ą╝ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčłčī, ą▒čŗą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮą░, čĆą░ąĘčĆčāčģą░, ą│ąŠą╗ąŠą┤.
ąĪąĄą╣čćą░čü ą▓ąŠąĮ ąĖ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčü ą▓čŗčĆą▓ą░ą╗ąĖčüčī.
ŌĆō ąĪčéą░čĆą░čÅ ą┐ąĄčüąĮčÅ, ŌĆō ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ ąĮą░ą║ą╗ąŠąĮąĖą╗čüčÅ ą║ ą│ąŠčüčéčÄ. ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčé, ą┐ąŠčĆčÅą┤ąŠą║ čéą░ą║ąŠą╣: ąĮą░čĆąŠą┤
čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ąĮą░ą║ąŠčĆą╝ąĖčéčī, ąŠą▒čāčéčī‑ąŠą┤ąĄčéčī, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ čāąČ ąĖ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠąĄ čüą┐ą░čüą░čéčī?
ą×čüčéą░ą╗ąŠčüčī ą╗ąĖ ąŠąĮąŠ, ą┐čĆąŠčłą╗ąŠąĄ‑č鹊?.. ąÉ ąĄčüą╗ąĖ ąĖ ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī?.. ąÆčĆąĄą╝čÅ, ąĘąĮą░čćąĖčé,
ą┐čĆąĖčłą╗ąŠŌĆ” ą»‑č鹊 ą▓čüčÄ ąČąĖąĘąĮčī, ą┤čāčĆą░ą║, ąĮąĄ čéą░ą║ ą┤čāą╝ą░ą╗. ąöčāą╝ą░ą╗, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖąĘą▒ą░
ą│ąŠčĆąĖčé, ąĮą░ą┤ąŠ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ąŠą▒čĆą░ąĘą░ ą┤ą░ ą┤ąĄčéąĖčłąĄą║ čüą┐ą░čüą░čéčī, ą┐ąŠč鹊ą╝ čāąČ ąĘą░
ą▒ą░čĆą░čģą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ąśčüą┐ąŠą║ąŠąĮ ą▓ąĄą║ąŠą▓ čéą░ą║ ąĮą░ ąĀčāčüąĖ ą▒čŗą╗ąŠŌĆ” ąÉ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé, ąĮą░ą┤ąŠ
ą▓čüąĄ ą┐ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┤ąĄą╗ą░čéčī. ąæą╗ą░ą│ąŠą┤ą░čĆčüčéą▓čāą╣č鹥, čéą░ą║ ą▒čŗ čāą╝ąĄčĆ ŌĆō ąĮąĄ čāąĘąĮą░ą╗, čéą░ą║
ą▒čŗ ąĖ ą▓ąĄčĆąĖą╗ŌĆ”
ą×ąĮ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ą┐ąŠą╗čāčłąĄą┐ąŠč鹊ą╝, ą┤čŗčłą░ą╗ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā, ąĖ č鹊čé ąŠčēčāčēą░ą╗ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ąŠč鹊ą┤ą▓ąĖąĮčāčéčīčüčÅ ąĖą╗ąĖ čģąŠčéčÅ ą▒čŗ ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāčéčīčüčÅ.
ąÆ čāą│ąŠą╗ą║ą░čģ ą┐ąĄčĆąĄčüąŠčģčłąĖčģ ą│čāą▒ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĪčéčĆą░čüčéąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ąĮą░ą║ą░ą┐ą╗ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī
ą║ą╗ąĄą╣ą║ą░čÅ ą┐ąĄąĮą░. ąØą░ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąĖą│ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓
čüąĄą╣čćą░čü ą▓čŗčüą║ą░ąČąĄčéčüčÅ, ą▓čŗą╝ąĄč湥čé ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮąĖą╝ ą▓čüčÄ ąŠą▒ąĖą┤čā ąĖ, ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮąĮčŗą╣,
ąŠčéą║čĆąŠąĄčé ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā‑čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ, ą▓čŗą╗ąŠąČąĖčé ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ, ą▒ąĄčĆąĖč鹥, ą╝ąŠą╗,
ą┐ąŠą╗čīąĘčāą╣č鹥čüčī ą╝ąŠąĖą╝ąĖ čéčĆčāą┤ą░ą╝ąĖ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ ą┤čāčģ ąĖ
ąĘą░čłąĄą┐čéą░ą╗ čüą▒ąĖą▓čćąĖą▓ąŠ, ąĮąĄą┤ąŠą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░čÅ čüą╗ąŠą▓ą░ ąĖ čäčĆą░ąĘčŗ:
ŌĆō ąśąĘą┤ąĄą▓ą░čéčīčüčÅ?.. ąæčāą┤čāŌĆ” ąĢčēąĄ ą║ą░ą║ ą▒čāą┤čā.
ąĪą╝ąĄčÅčéčīčüčÅ ą▒čāą┤čā. ą» ąČą┤ą░ą╗, ąŠčģ ą║ą░ą║ ąČą┤ą░ą╗ŌĆ” ą¤čĆąĖą┤ąĄč鹥 ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ, ą┐čĆąĖą┐ąŠą╗ąĘąĄč鹥ŌĆ”
ąöą░ą╣ ŌĆō čüą║ą░ąČąĄč鹥ŌĆ” ą£ąŠčÅ ą▓ąĘčÅą╗ą░ŌĆ” ąśąĮą░č湥 ą▒čŗ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčłąĄą╗! ąöą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī ą╗ąĄčé ąĮąĄ
ą┐ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅŌĆ” ą¤čĆąĖčłąĄą╗. ąØą░ ą║ąŠą╗ąĄąĮčÅčģ ą┐čĆąŠčüąĖčłčīŌĆ” ąÆčŗ čćč鹊, ąĘą░ ą┤čāčĆą░ą║ą░ ą╝ąĄąĮčÅŌĆ”
ąØąĄčāąČąĄą╗ąĖ ą▓ą┐čĆčÅą╝čī ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ ŌĆō čÅ č鹥ą▒ąĄ ą▒čāą╝ą░ą│ąĖ ą┤ą░ą╝?
ŌĆō ąØą░ą┤ąĄčÅą╗čüčÅ ąĮą░ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĖąĄ, ŌĆō ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąĖ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄ čüąŠą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗čüčÅ: ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ą┐ąŠą▒ą╗ąĄčüą║ąĖą▓ą░ą╗ č湥čĆąĮąŠ
ąĖ ąĮąĄąĘą┤ąŠčĆąŠą▓ąŠ, ą╝čĆą░ą╝ąŠčĆąĮąŠ ą▒ąĄą╗ąĄą╗ąĖ čĆą░ąĘą┤čāčéčŗąĄ ą║čĆčŗą╗čīčÅ ąĮąŠčüą░.
ŌĆō ąæą╗ą░ą│ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĖąĄ, ŌĆō ą▓čŗą┤ąŠčģąĮčāą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć. ŌĆō ąÉ ą║ąŠą│ą┤ą░ čÅ ą▓ą░čü ą┐čĆąĖąĘčŗą▓ą░ą╗ ą║ ąĮąĄą╝čā. ąÜąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠ ąĀčāčüąĖ ą║ąŠčüčéčĆčŗ
ą│ąŠčĆąĄą╗ąĖ. ąÜąŠą│ą┤ą░ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą▓ ąŠą│ąŠąĮčī, ą▓ ą│čĆčÅąĘčī. ąæą╗ą░ą│ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĖąĄŌĆ” ąÜąŠą│ą┤ą░ čéčŗ
ą║ąĄčƹȹ░ą║ąŠą▓ ą│čĆą░ą▒ąĖą╗, ąŠą▒ą╝ą░ąĮąŠą╝ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą▒čĆą░ą╗ ŌĆō č鹊ąČąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĖąĄ? ąÜčāą┤ą░ čéčŗ ą┤ąĄą╗
ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĖąĘ čüą║ąĖč鹊ą▓? ą¤ąŠč湥ą╝čā ąĖčģ ą▓ čéą▓ąŠąĄą╝ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ąĮąĄčé? ąōą┤ąĄ ąŠąĮąĖ? ąÆ ą┐ąŠą┤ą▓ą░ą╗ąĄ! ąÆ
čüčŗčĆąŠčüčéąĖ! ąÜčĆčŗčüą░ą╝ ąĮą░ čüčŖąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ąŠčéą┤ą░ą╗! ą» ą▓čüąĄ ąĘąĮą░čÄ, čćč鹊 čā č鹥ą▒čÅ čéą▓ąŠčĆąĖčéčüčÅ,
ą▓čüąĄ! ąØąĄ čüą╝ąŠčéčĆąĖ, čćč鹊 ą┤ąŠą╝ą░ čüąĖąČčā!.. ą¦č鹊, č鹊ąČąĄ ą▒ą╗ą░ą│ąŠčĆą░ąĘčāą╝ąĖąĄ?!
ŌĆō ąØąŠ ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĄčēąĄ ąĮąĄ čĆą░ąĘąŠą▒čĆą░ąĮčŗ, ąĮąĄ
ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ, ŌĆō ą┐ąŠą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ąŠą┐čĆą░ą▓ą┤ą░čéčīčüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąóą░ą╝ čüčāčģąŠ č鹥ą┐ąĄčĆčī, ą║čĆčŗčü
ą┐ąŠčéčĆą░ą▓ąĖą╗ąĖŌĆ”
ŌĆō ąŚąĮą░čÄ, čćč鹊 čéčŗ čģąŠč湥čłčī! ŌĆō ąŠą▒čĆąĄąĘą░ą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąŚąĮą░čÄ! ąÆ ą┐ąŠą┤ą▓ą░ą╗ąĄ čüą│ąĮąŠąĖčéčī, ą▓ čüąĄą╣čä ąĘą░ą┐ąĄčĆąĄčéčī! ąØą░ ą║ąŠą╣ ąČąĄ
ą╗čÅą┤ čüąŠą▒ąĖčĆą░čéčī č鹊ą│ą┤ą░? ąŚą░č湥ą╝? ąöą╗čÅ ą║ąŠą│ąŠ? ąØąĄčé, ą┐čāčüčéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ čā ą║ąĄčƹȹ░ą║ąŠą▓
ą▒čāą┤čāčé! ąóą░ą╝ ąŠąĮąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤čāčé! ąóą░ą╝ ąĖčģ čćąĖčéą░čÄčé!
ŌĆō ąóčŗ čāčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčÅ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć! ŌĆō
ąŠčéą┐čĆčÅąĮčāą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ą¦č鹊 čü č鹊ą▒ąŠą╣? ąŻčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčÅ.
ŌĆō ąÆčüąĄ ą╝ąĄąĮčÅ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖčéčī čģąŠčéąĖč鹥ŌĆ” ŌĆō
ąĘą░ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąÆčĆąĄą╝čÅ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠŌĆ” ą×ą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠąĄ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĄ ąĮąĄ
čüąŠąĘčĆąĄą╗ąŠŌĆ” ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čüčāą╝ą░čüčłąĄą┤čłąĖą╣, ą┐čĆąŠąČąĄą║čéčŗ čüąŠčćąĖąĮčÅąĄčéŌĆ” ąĀčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮąŠąĄ
ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĖąĄŌĆ” ą¤ą╗ą░ąĮ čüą┐ą░čüąĄąĮąĖčÅ!.. ą» ąĘąĮą░čÄ. ąŚąĮą░čÄ, čćč鹊 ą▓čŗ ą┐čĆąŠ ą╝ąĄąĮčÅŌĆ” ąĪą║čāą┐ąŠą╣
čĆčŗčåą░čĆčī. ąØą░ą┤ ąĘą╗ą░č鹊ą╝ čćą░čģąĮąĄčéŌĆ” ąŚąĮą░čÄ! ąĪą▓ąŠąĄ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ąŠčé ąĮą░čĆąŠą┤ą░ ą┐čĆčÅč湥čé. ą×čé
ąĮą░čĆąŠą┤ą░ ąĮąĄ ą┐čĆčÅčćčā! ą×čé ą▓ą░čü ŌĆō ą┐čĆčÅčćčā! ą×čé č鹥ą▒čÅ ą┐čĆčÅčćčāŌĆ” ąæčĆąŠą┤čÅčćąĖąĄ čüąŠą▒ą░ą║ąĖ
ąŠą┤ąŠą╗ąĄą▓ą░čÄčéŌĆ”
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓čüčéą░ą╗ ąĖ ą┐ąŠą┤ ąĄą│ąŠ ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ąĮčīąĄ
ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ą▓ ą┐čĆąĖčģąŠąČčāčÄ, čüčéčāą┐ą░čÅ ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗čÅčÅ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ
ąŠą│ą╗čÅąĮčāčéčīčüčÅ. ąØąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ąŠąĮ ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗, čćč鹊 ą▓ą┐ąĄčĆą▓čŗąĄ ą▓ ąČąĖąĘąĮąĖ čéą░ą║ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠ
ą▓ąĖą┤ąĄą╗ ąĖ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ čü čüčāą╝ą░čüčłąĄą┤čłąĖą╝, ą░ č鹊, čćč鹊 ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĪčéčĆą░čüčéąĮčŗą╣
ą▒ąŠą╗ąĄąĮ, č鹥ą┐ąĄčĆčī ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄčüąŠą╝ąĮąĄąĮąĮčŗą╝. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą▒čŗ ą┐ąŠąĮčÅčéčī čŹč鹊 čĆą░ąĮčīčłąĄ ąĖ
čüčĆą░ąĘčā čāą╣čéąĖ, ą╗ąĖą▒ąŠ čāąČ ąĮąĄ ąĮą░čćąĖąĮą░čéčī čŹč鹊ą│ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆą░ŌĆ”
ąóąŠčĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ąĮą░ą║ąĖąĮčāą▓ ą┐ą░ą╗čīč鹊, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓čŗčłąĄą╗
ąĮą░ čāą╗ąĖčåčā ąĖ ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗čüčÅ ą▓ ą┐ąŠąĖčüą║ą░čģ č鹥ą╗ąĄč乊ąĮąĮąŠą╣ ą▒čāą┤ą║ąĖ: ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ą▓ čéą░ą║ąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ, ąĮčāąČąĮąŠ ą▓čŗąĘą▓ą░čéčī ┬½čüą║ąŠčĆčāčÄ┬╗,
ą┐čāčüčéčī ą┤ą░ą┤čāčé čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ, čüą┤ąĄą╗ą░čÄčé čāą║ąŠą╗ŌĆ” ąÜą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝čāąČčćąĖąĮą░, ąŠą┐čāčüčéąĖą▓
ą│ąŠą╗ąŠą▓čā, ą▓ąŠą╗ąŠą║ ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĄčāą╗ą║čā ą╝ąĄčĆčéą▓čāčÄ čüąŠą▒ą░ą║čā. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čłą░ą│ąĮčāą╗ ą║ ąĮąĄą╝čā,
ąĮą░ą╝ąĄčĆąĄą▓ą░čÅčüčī čüą┐čĆąŠčüąĖčéčī, ą│ą┤ąĄ ą▒ą╗ąĖąČą░ą╣čłąĖą╣ ą░ą▓č鹊ą╝ą░čé, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čāčüą╗čŗčłą░ą╗
čüą▒ąĖą▓čćąĖą▓čŗą╣ čłąĄą┐ąŠčé.
ŌĆō ąŁčģ, ą╗čÄą┤ąĖ, ą╗čÄą┤ąĖŌĆ” ŌĆō ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗
č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ŌĆō čŹčģ, ą╗čÄą┤ąĖŌĆ”
ąÆ čŹč鹊čé ą┤ąĄąĮčī ąŠčéą┤ąĄą╗ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ą║ąĮąĖą│ ąĖ
čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĄą╣ ą▒čŗą╗ ąĘą░ą║čĆčŗčé ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčüąĄčēąĄąĮąĖą╣. ąØą░ čüč鹊ą╗ą░čģ ą║čĆąŠčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ čćąĖčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ
ąĘą░ą╗ą░ ą▓ą▓ąĄčĆčģ ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ čüč鹊čÅą╗ąĖ čüčéčāą╗čīčÅ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░, ą┐ąŠąČąĖą╗ą░čÅ,
ą▒ą╗ąĄą┤ąĮą░čÅ ąČąĄąĮčēąĖąĮą░, čĆą░ą▒ąŠčéą░ą▓čłą░čÅ ąĘą┤ąĄčüčī ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░čĆąĄą╝ ąĖ č鹥čģąĮąĖčćą║ąŠą╣
ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ, ą┐čŗą╗ąĄčüąŠčüąĖą╗ą░ čüčéą░čĆčŗą╣ ą║ąŠą▓ąĄčĆ. ąŚą░ą┐ąĄčĆčéčāčÄ ąĖąĘąĮčāčéčĆąĖ ą┤ą▓ąĄčĆčī
ąĖąĘčĆąĄą┤ą║ą░ ą║č鹊‑č鹊 ą┤ąĄčĆą│ą░ą╗ čüąĮą░čĆčāąČąĖ, ąŠčéč湥ą│ąŠ ąÉąĮąĮą░ ąĖ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĮąĖą║ąŠą▓
ą┐ąĄčĆąĄą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąĖ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą║ ą▒ą░čĆčīąĄčĆčā, ąŠčéą┤ąĄą╗čÅą▓čłąĄą╝čā čćąĖčéą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąĘą░ą╗ ąŠčé
čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēą░. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ą▒čĆąŠčüą░ą╗ą░ čģąŠą▒ąŠčé ą▓ąŠčÄčēąĄą│ąŠ ą┐čŗą╗ąĄčüąŠčüą░ ąĖ
č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ čüąĄą╝ąĄąĮąĖą╗ą░ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ.
ŌĆō ą¦ąĄčĆąĮčŗą╝ ąČąĄ ą┐ąŠ ą▒ąĄą╗ąŠą╝čāŌĆ” ŌĆō ą▒čāą▒ąĮąĖą╗ą░ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ
ą┤ą▓ąĄčĆąĄą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░čĆčłą░. ŌĆō ąŚą░ą║čĆčŗč鹊. ąĪą░ąĮąĖčéą░čĆąĮčŗą╣ ą┤ąĄąĮčīŌĆ” ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░ ąĮąĄčéčā,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒čāą┤ąĄčé‑ąĮąĄ ąĘąĮą░čÄ.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░ ąČą┤ą░ą╗ąĖ čāąČąĄ čćą░čüą░ čéčĆąĖ. ąöąĖčĆąĄą║č鹊čĆ
ą║čĆą░ąĄą▓ąĄą┤č湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝čāąĘąĄčÅ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠ‑čģąŠąĘčÅą╣čüą║ąĖ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░ą╗ čłą║ą░čäčŗ, ą▒čĆą░ą╗
ąĖ ą╗ąĖčüčéą░ą╗ ą║ąĮąĖą│ąĖ ŌĆō ą╗ąĖčüčéą░ą╗ ą┐čĆąŠčüč鹊 čéą░ą║, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▒čŗ ąĘą░ąĮčÅčéčī čüąĄą▒čÅ ŌĆō ąĖ ą▓čĆąĄą╝čÅ
ąŠčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┐čŗčéą░ą╗čüčÅ ąĮą░ą╗ą░ą┤ąĖčéčī čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ čü ąÉąĮąĮąŠą╣
ŌĆō ąÉ čüą║ą░ąČąĖč鹥, čüčāą┤ą░čĆčŗąĮčÅ, ŌĆō č鹊 ą╗ąĖ
ą┐ą░čÅčüąĮąĖčćą░ą╗, č鹊 ą╗ąĖ čāąČ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ ą┤ąĄą╗ąĄ ą╗čÄą▒ąĖą╗ ą▓čŗčĆą░ąČą░čéčīčüčÅ čüčéą░čĆąŠą╝ąŠą┤ąĮąŠ
ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ, ŌĆō čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ, ą║ ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆčā, čüč鹊ąĖčé čüąĄą╣ č乊ą╗ąĖą░ąĮčé? ąĢčüą╗ąĖ ąĮąŠą▓čŗą╝ąĖ
ą┤ąĄąĮčīą│ą░ą╝ąĖ, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ?
ąÉąĮąĮą░ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ą░ ąĖ ąŠčéą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī.
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĄąĄ čĆą░ąĘą┤čĆą░ąČą░ą╗. ąśčłčī, čģąŠąĘčÅąĖąĮ ąĮą░čłąĄą╗čüčÅ, ą║ą░ą║ čā čüąĄą▒čÅ ą┤ąŠą╝ą░:
čģąŠčéčī ą▒čŗ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ čéčĆąŠą│ą░čéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ. ąś ą│ąŠą╗ąŠčü ąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą┤čĆą░ąČą░ą╗ ŌĆō ┬½ą░
čüą║ą░ąČąĖ‑ąĖč鹥, čüčāą┤ą░‑ą░čĆčŗąĮčÅŌĆ”┬╗ ąÉ ąĄčēąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ąĮą░ ąĮąĄčĆą▓čŗ ą┐čŗą╗ąĄčüąŠčüŌĆ”
ŌĆō ąÜąŠą│ą┤ą░ čÅ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆąŠą╝
ą╝čāąĘčāčćąĖą╗ąĖčēą░, ŌĆō ą▓ ąŠč湥čĆąĄą┤ąĮąŠą╣ čĆą░ąĘ ąĮą░čćą░ą╗ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓, ŌĆō ą▒čŗą╗ą░ čā ą╝ąĄąĮčÅ
čüą║čĆąĖą┐ąŠčćą║ą░ŌĆ” ąØčā ąĮąĄ ąĪčéčĆą░ą┤ąĖą▓ą░čĆąĖ, čĆą░ąĘčāą╝ąĄąĄčéčüčÅ, ą░ ą╝ą░čüč鹥čĆą░ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ, ąĮąŠ čåąĄąĮčŗ,
ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ą░. ą» ąĄąĄ ą▓ čüąĄą╣č乥 ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ŌĆ”
ŌĆō ąÉ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ą▒ą░ąĮąĖ ą▓čŗ ąĮąĄ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ? ŌĆō
čĆą░ąĘą┤čĆą░ąČąĄąĮąĮąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ą░ ąÉąĮąĮą░.
ąöąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ ą▓čüą║ąĖąĮčāą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā, čüąĄą║čāąĮą┤čā
ą│ą╗čÅą┤čÅ ąŠą▒ąĄčüą║čāčĆą░ąČąĄąĮąŠ, ąĘą░č鹥ą╝ ą║ą░ą║‑č鹊 čüąĮąĖą║, čüčŖąĄąČąĖą╗čüčÅ, ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊 ą┐čĆąĖčģą╗ąŠą┐ąĮčāą╗
ą┤ą▓ąĄčĆčåčā čłą║ą░čäą░. ┬½ąŚą░č湥ą╝ ąČąĄ čÅ ąĄą│ąŠ čéą░ą║, ŌĆō ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄą╗ą░ ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ą×ąĮ ąČąĄ ąĮąĖ ą┐čĆąĖ
č湥ą╝ŌĆ” ąĪąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄčĆą▓čŗ čĆą░čüčłą░čéą░ą╗ąĖčüčī, ąĮą░ ą╗čÄą┤ąĄą╣ ą▒čĆąŠčüą░čÄčüčī┬╗.
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĄ ąŠą▒ąĖą┤ąĄą╗čüčÅ, ą╗ąĖčłčī
ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗ čéčÅąČą║ąŠ, čü ą┤ąĄčéčüą║ąĖą╝ ą▓čüčģą╗ąĖą┐ąŠą╝, ąĖ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗:
ŌĆō ą¤čĆąĄą┤čüčéą░ą▓čīč鹥 čüąĄą▒ąĄ ŌĆō čāą║čĆą░ą╗ąĖŌĆ” ąśąĘ čüąĄą╣čäą░
čāą║čĆą░ą╗ąĖ. ąś ą┐čĆąŠą┤ą░ą╗ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╝čā čüą║čĆąĖą┐ą░čćčā ąĖąĘ čäąĖą╗ą░čĆą╝ąŠąĮąĖąĖ. ąöąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ ąĮą░ ąĮąĄą╣
ąĖą│čĆą░ąĄčé. ąØąĄ ąĮą░ ą║ąŠąĮčåąĄčĆčéą░čģ, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ, ą░ ą┤ąŠą╝ą░; ąĘą░ą┐čĆąĄčéčüčÅ ąĮąŠčćčīčÄ ŌĆō ąĖ ąĖą│čĆą░ąĄčé.
┬½ąŻ č鹥ą▒čÅ čéą░ą║ ąĖ ą╝čāąĘąĄą╣ čĆą░čüčéą░čēčāčé┬╗, ŌĆō
ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ą░ ąÉąĮąĮą░ čāąČąĄ ą▒ąĄąĘ ąĘą╗ąŠčüčéąĖ ąĖ ą▓čüą╗čāčģ ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗ą░:
ŌĆō ąśąĘą▓ąĖąĮąĖč鹥 ą╝ąĄąĮčÅŌĆ”
ŌĆō ąØąĖč湥ą│ąŠ‑ąĮąĖč湥ą│ąŠ, čÅ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄ, ŌĆō ąĘą░čüą┐ąĄčłąĖą╗
ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąÜą░ą║ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé: ąČą┤ą░čéčī ąĖ ą┤ąŠą│ąŠąĮčÅčéčī čģčāąČąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ.
ąÆąŠąŠą▒čēąĄ‑č鹊 ąÉąĮąĮąĄ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ čāą▓ą░ąČą░čéčī
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░, ą┐ąŠą┤ą┤ą░ą║ąĖą▓ą░čéčī ąĄą╝čā ąĖ ąĘą░ą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░čéčī ą▓ čĆąŠčé. ą¤ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣
ą╝ąĄčĆąĄ, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ą░ą╗ ąĄąĄ, čćč鹊ą▒čŗ ąŠąĮą░ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą║ąŠčüą╗ąŠą▓ąĖą╗ą░ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆčā
ą╝čāąĘąĄčÅ. ąÆčüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąŠąĮ čüą░ą╝, ą┐ąŠ ą┤ąŠą▒čĆąŠą╣ ą▓ąŠą╗ąĄ, ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčā čĆą░čüčģąŠą┤ąŠą▓ ąĮą░
菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ ą▒čĆą░ą╗ ąĮą░ čüąĄą▒čÅ, ą▓ąĄčĆąĮąĄąĄ, čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠą║čĆčŗčéčī ąĖčģ ąĖąĘ č乊ąĮą┤ąŠą▓,
ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮčŗčģ ąĮą░ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĄ 菹║čüą┐ąŠąĮą░č鹊ą▓ ą┤ą╗čÅ ą╝čāąĘąĄčÅ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĄą┤ą▓ą░ ąÉąĮąĮą░
čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ą░ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ŌĆō č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą╗ąĄčé ąĘą░ čüąŠčĆąŠą║, čŹčéą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą┤čĆčÅčćą║ą░, čü
ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄčüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░čéčī ąĖ ą┐ąŠčģąŠčģą░čéčŗą▓ą░čéčī ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąĖčćąĖąĮčŗ, ŌĆō ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠčēčāčéąĖą╗ą░
ąĮąĄą┤ąŠą▓ąĄčĆąĖąĄ ąĖ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą┤ąĄčƹʹĖčéčī. ąŚąĮą░ą║ąŠą╝ąĖą╗ ąĖčģ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓ ąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣
ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą▒čüčāąČą┤ą░ą╗ąĖ ą┐ą╗ą░ąĮ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ. ąöąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗
ą╝ąĮąŠą│ąŠ, čüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ ąĖ čüčŗą┐ą░ą╗ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░ą╝ąĖ:
ŌĆō ą¦č鹊‑čćč鹊? ąÜą░ą║ ą▓čŗ čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ?
ŌĆō ą¤čĆąŠąĄčģą░ą╗ąĖ, ŌĆō ąĮąĄ čüą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ąÉąĮąĮą░ ąĖ
ą╗ąŠą▓ąĖą╗ą░ ąĮą░ čüąĄą▒ąĄ čāą║ąŠčĆčÅčÄčēąĖą╣ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ.
ŌĆō ąÜą░ą║‑ą║ą░ą║? ąÜč鹊 ą┐čĆąŠąĄčģą░ą╗? ŌĆō ą▒ąĄčüč鹊ą╗ą║ąŠą▓ąŠ
ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ŌĆō ąóą░čéą░čĆčŗ čĆąĄą┐čā ą┐ąŠą▓ąĄąĘą╗ąĖ, ŌĆō čÅąĘą▓ąĖą╗ą░ ąÉąĮąĮą░ŌĆ”
ą×ąĮ ąĖ č鹊ą│ą┤ą░ ąĮąĄ ąŠą▒ąĖąČą░ą╗čüčÅ, ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą┐čĆąĖą▓čŗą║,
čćč鹊 ąĮą░ą┤ ąĮąĖą╝ ą┐ąŠčüą╝ąĄąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ, čüą╝ąĖčĆąĖą╗čüčÅ, ą░ ą╝ąŠąČąĄčé, ąĖ čüą░ą╝ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗, čćč鹊
ą┐ąŠčĆąŠą╣ ą▓čŗą│ą╗čÅą┤ąĖčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ č湥ą╝ ąĮą░ąĖą▓ąĮąŠ.
ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ą▓čŗą║ą╗čÄčćąĖą╗ą░
ą┐čŗą╗ąĄčüąŠčü, ąĖ ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå čüčéą░ą╗ąŠ čéąĖčģąŠ. ą¤ą╗ąŠčéąĮąŠ ąĘą░čłč鹊čĆąĄąĮąĮčŗąĄ ąŠą║ąĮą░
ąĖąĘą╗čāčćą░ą╗ąĖ čĆą░čüčüąĄčÅąĮąĮčŗą╣ ą║čĆą░čüąĮąŠą▓ą░čéčŗą╣ čüą▓ąĄčé, ąŠčéč湥ą│ąŠ ą┤čĆąĄą▓ąĮčÅčÅ ą║ąŠąČą░ ą║ąĮąĖąČąĮčŗčģ
ą┐ąĄčĆąĄą┐ą╗ąĄč鹊ą▓ čüą╗ąĄą│ą║ą░ čĆą┤ąĄą╗ą░, ą▒čāą┤č鹊 čāą│ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ą┐ąĄą┐ą╗ąŠą╝. ąöąĄąĮčī ą▒čŗą╗ ą▓ čĆą░ąĘą│ą░čĆąĄ,
ąĮąŠ ąĘą┤ąĄčüčī, ą▓ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ, čćč鹊 čāčéčĆąŠ, čćč鹊 ą▓ąĄč湥čĆ ŌĆō ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠ:
čĆąŠą▓ąĮčŗą╣ čüą▓ąĄčé, ą┐ąŠčüč鹊čÅąĮąĮą░čÅ č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆą░, ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĮą░čÅ ą▓ą╗ą░ąČąĮąŠčüčéčī.
ŌĆō ąÜčüčéą░čéąĖ, čÅ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄ čüą▓ąŠąĖčģ
ą┐ąŠčüąĄčéąĖč鹥ą╗ąĄą╣! ŌĆō ą▓ą┤čĆčāą│ ą▓ąŠčüą║ą╗ąĖą║ąĮčāą╗ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ą×ąĮąĖ ą▓čüčæ ąĮąŠčĆąŠą▓čÅčé
čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčéčĆąŠą│ą░čéčī. ąØąĄą╗čīąĘčÅ, ą░ čéčĆąŠą│ą░čÄčé. ą» ą▓ąŠčé č鹊ąČąĄ, čģąŠąČčā čéčāčé čā ą▓ą░čü ŌĆō ąĖ,
ą▓ąĄčĆąĖč鹥, čéčÅąĮąĄčé! ŌĆō ąŠąĮ ą┐čĆąŠčüč鹊ą┤čāčłąĮąŠ čĆą░ąĘą▓ąĄą╗ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ. ŌĆō ąØą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ, ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝
ą┤ąĄą╗ąĄ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ čüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ!
┬½ąÆčŗ ąĄčēąĄ ąĮą░ ąĘčāą▒ ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒čāą╣č鹥┬╗, ŌĆō ąŠą┐čÅčéčī
čģąŠč鹥ą╗ą░ čüčŖčÅąĘą▓ąĖčéčī ąÉąĮąĮą░, ąĮąŠ ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗ą░. ąŚą░ą┐ąŠčĆ ąĮą░ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ ą▒čĆčÅą║ąĮčāą╗
čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖ ąĮąĄč鹥čĆą┐ąĄą╗ąĖą▓ąŠ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ą░čüčī ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čéčī.
ąóčÅąČąĄą╗ąŠ ą┤čŗčłą░, ą▓ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ ą▓ą╗ąĄč鹥ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, ąĘą░ą▒čŗą╗ čüąĮčÅčéčī ą┐ą╗ą░čē ąĖ
ą▒ąŠčéąĖąĮą║ąĖ, ŌĆō čćč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ą╗ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąĖ ą┐čĆąĖ ą╗čÄą▒čŗčģ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░čģ, čéčĆąĄą▒ąŠą▓ą░ą╗
čŹč鹊ą│ąŠ ąĖ ąŠčé ą┤čĆčāą│ąĖčģ, ŌĆō ąŠąĮ ą┐čĆąŠą▒ąĄąČą░ą╗ ąĘą░ ą▒ą░čĆčīąĄčĆ ąĖ čĆčāčģąĮčāą╗ ą▓ ą║čĆąĄčüą╗ąŠ.
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĘą░ą┐ąĄčĆą╗ą░ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, ą▓čŗąĮčāą╗ą░ ąĖąĘ čłą║ą░čäą░ čéą░ą┐ąŠčćą║ąĖ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░ ąĖ
ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╝ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ą░ ąĘą░ ąĮąĖą╝.
ŌĆō ą¤ąĄčĆąĄąŠą▒čāą╣č鹥čüčī ąĖ ą┤ą░ą╣č鹥 ą┐ą╗ą░čē. ą×ąĮ ąĮąĄ
čüą╗čŗčłą░ą╗, ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗čÅčÅ ąŠą┤čŗčłą║čā. ąōąŠą╗ąŠą▓ą░ ą┤ąĄčĆą│ą░ą╗ą░čüčī, ą┐čĆčŗą│ą░ą╗ąĖ čĆčāą║ąĖ ąĮą░
ą┐ąŠą┤ą╗ąŠą║ąŠčéąĮąĖą║ą░čģ.
ŌĆō ą» ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ ąĄą╝čāŌĆ” ┬½čüą║ąŠčĆčāčÄ┬╗, ŌĆō ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå
ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠąĮ.
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗čüčÅ ąĖ
ąĮąĄą┤ąŠčāą╝ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠą║čĆčāčéąĖą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣. ┬½ąÉ ą▓ąŠčé ąĖ ą║ąŠąĮąĄčå ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ, ŌĆō
ą┐ąŠą┤čāą╝ą░ą╗ą░ ąÉąĮąĮą░ ąĖ čāčüą╝ąĄčģąĮčāą╗ą░čüčī. ŌĆō ąØąĖą║ą░ą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ąŠąĮ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĮąĄčü┬╗.
ąĪą║ąŠą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆąŠą▓ ą▒čŗą╗ąŠ! ąÆčüčÄ ąĘąĖą╝čā
ą╝ąĄčćčéą░ą╗ąĖ ŌĆō ą╝ąĄčćčéą░č鹥ą╗ąĖ. ąĪą┐ąŠčĆąĖą╗ąĖ, ą┐čĆąĖą┤čāą╝čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║čā ą┐ąŠąĖčüą║ąŠą▓ ąĖ čüą▒ąŠčĆą░.
ąĪą╝ąĄčģ! ąöąĄąĮčīą│ąĖ ą▓čŗą║ąŠą╗ą░čćąĖą▓ą░ą╗ąĖ, ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ŌĆō ą╝ąĄčåąĄąĮą░čéą░ ąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą░ąĮčīąŠąĮą░ ŌĆō
ąĖąĘ ą╝čāąĘąĄčÅ ą▓čŗąĮčāą╗ąĖ! ąÉčģ, ą║ą░ą║ ą┐ąŠąĄą┤ąĄą╝ ą┐ąŠ čüą║ąĖčéą░ą╝, ą┤ą░ ą║ą░ą║ ąĮą░ą▒ąĄčĆąĄą╝ ą║ąĮąĖą│! ąś
ą▓čüąĄą╝ ąĮą░čćą░ą╗čīąĮąĖą║ą░ą╝ ąĮą░ čüč鹊ą╗ ŌĆō čĆą░čüą║ąŠčłąĄą╗ąĖą▓ą░ą╣č鹥čüčī, ą┤ą░ą▓ą░ą╣č鹥 ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąĮą░
čüą╗ąĄą┤čāčÄčēčāčÄ čŹą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ, ą┤ą░ ąĮąĄ čģąĖčéčĆčŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝, ą░ ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĖąĄą╝.
ą¤ąŠč鹊ą╝ čüčéą░čéčīąĖ ą▓ ą│ą░ąĘąĄčéčŗ, ą▓ ąČčāčĆąĮą░ą╗čŗ ŌĆō čŹč鹊 ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅ,
ą┐ąŠč鹊ą╝‑čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĮčŗą╣ čłčéą░čé ąĮą░čāčćąĮčŗčģ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ ą┤ą╗čÅ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ;
ą┐ąŠč鹊ą╝ ŌĆō čĆąĄčüčéą░ą▓čĆą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ą░čÅŌĆ”
ąÉ ą▓ąŠčé ąĮąĄ ą┤ą░ą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ą┐ąŠ
čüą║ąĖčéą░ą╝, ąĖ ąŠčé ąĖčģ ą┐ą╗ą░ąĮąŠą▓ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī. ą¤ąŠą┐čĆąŠą▒čāą╣ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ąŠą║ą░ąČąĖ,
čćč鹊 čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤č湥čüą║ąĖąĄ čüą║ąĖčéčŗ ŌĆō čŹč鹊 ąĮąĄ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆ, ą│ą┤ąĄ ąĘą░ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ
ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÅą╝ čü ą░ą▓ąŠčüčīą║ąŠą╣ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ, čü č湥čĆą┤ą░ą║ąŠą▓ ą┤ą░ ąĖąĘ ą┐ąŠą┤ą▓ą░ą╗ąŠą▓ ą┤ąŠčüčéą░ą▓ą░ą╗ąĖ.
ąÜąĄčƹȹ░ą║ąĖ ąĮąĄ č鹊 čćč鹊 ą║ąĮąĖą│ąĖ‑ą┐ąŠą┐ąĖčéčī ąĮąĄ ą┤ą░ą┤čāčé. ąś ą║čāą┤ą░ ąĄčģą░čéčī, ą│ą┤ąĄ ąŠąĮąĖ, čŹčéąĖ
čüą║ąĖčéčŗ, ą║č鹊 čéą░ą╝ ąČąĖą▓ąĄčé, čü ą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒ąŠą║čā ą┐ąŠą┤čüčéčāą┐ąĖčéčīčüčÅ? ąóąĄą┐ąĄčĆčī ąĮąĄ ąŠ ą║ąĮąĖą│ą░čģ
ą╝ąĄčćčéą░čéčī, ą░ ąĄčģą░čéčī ą┐ąŠ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝ ąĖ ą▓ąĄčüčÅą╝ ąĮą░ą┤ąŠ, ą▒ąĖčéčī č湥ą╗ąŠą╝ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╝
ąĮą░čćą░ą╗čīčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ ą┐čŗčéą░čéčī ąĄą│ąŠ ąŠ ą║ąĄčƹȹ░ą║ą░čģ. ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą│ąŠą┤‑ą┤čĆčāą│ąŠą╣, ą╝ąŠąČąĄčé, čćč鹊 ąĖ
ą▓čŗą╣ą┤ąĄčé.
ŌĆō ą¦č鹊 ąŠąĮ čģąŠčéčī ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé? ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ą░
ąÉąĮąĮą░.
ŌĆō ą¦č鹊? ŌĆō ą▓čüčéčĆąĄą┐ąĄąĮčāą╗čüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąØąĄčüąĄčé
ąŠą║ąŠą╗ąĄčüąĖčåčā, ą▓ąĘą┤ąŠčĆ, čüčéą░čĆčŗąĄ ąŠą▒ąĖą┤čŗ ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé. ąÉ ą│ą╗ą░ąĘą░! ąÆčŗ ą▒čŗ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖ ąĄą│ąŠ
ą│ą╗ą░ąĘą░!.. ą×ąĮ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║. ąØąĖą║ą░ą║ąĖčģ ą▒čāą╝ą░ą│, ą║čĆąĖčćąĖčé, ąĮąĄ ą┤ą░ą╝!
ą×ąĮ ą▓čüą║ąŠčćąĖą╗, čéčÅąČąĄą╗ąŠ ą┐čĆąŠčłąĄą╗čüčÅ
ą▓ąĘą░ą┤‑ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤.
ŌĆō ą¦č鹊‑č鹊 ąĮą░ą┤ąŠ ą┤ąĄą╗ą░čéčī, ą┐čĆąĄą┤ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčī!
ŌĆō ą¤ąĄčĆąĄąŠą▒čāą╣č鹥čüčī ąĖ čüąĮąĖą╝ąĖč鹥 ą┐ą╗ą░čē, ŌĆō
ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĖą╗ą░ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĖ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ą░ ą┐ąŠą┤ ąĮąŠą│ąĖ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ čéą░ą┐ąŠčćą║ąĖ. ŌĆō
ąŻ ą▓ą░čü ą▒ąŠčéąĖąĮą║ąĖ ą▓ ą│čĆčÅąĘąĖ.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠą╝ąŠčĆčēąĖą╗čüčÅ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čüčéą░čēąĖą╗
ą▒ąŠčéąĖąĮą║ąĖ ąĖ, ąŠčüčéą░ą▓čłąĖčüčī ą▓ ąĮąŠčüą║ą░čģ, čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░ą╝ąĄčéą░ą╗čüčÅ ą┐ąŠ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēčā.
ŌĆō ą×ąĮ ąŠą┐ą░čüąĄąĮ. ąÆčŗ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄč鹥: ąŠąĮ ŌĆō
ąŠą┐ą░čüąĄąĮ! ą×ąĮ ą╝ąŠąČąĄčé ąĮą░čéą▓ąŠčĆąĖčéčī ą▓čüąĄ čćč鹊 čāą│ąŠą┤ąĮąŠ.
ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčé, 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ ąŠčéą╝ąĄąĮčÅąĄčéčüčÅ, ŌĆō
ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗ą░ ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ąóčĆąĄčüčé ą╗ąŠą┐ąĮčāą╗.
ŌĆō ąÜą░ą║ą░čÅ č鹥ą┐ąĄčĆčī 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ? ŌĆō
ąŠčéą╝ą░čģąĮčāą╗čüčÅ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąĀąĄčćčī ąŠ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ŌĆ”
ŌĆō ąóąŠ ąĄčüčéčī, ą║ą░ą║ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čéčī? ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąÆ ą║ą░ą║ąŠą╝ čüą╝čŗčüą╗ąĄ?
ŌĆō ąÆ ą┐čĆčÅą╝ąŠą╝, ŌĆō ąŠčéčĆąĄąĘą░ą╗ą░ ąÉąĮąĮą░. ŌĆō
ąĪąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĮąĄ čüąŠčüč鹊čÅą╗ąŠčüčī. ą¤čĆąĖą╝ąĖč鹥 čüąŠą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ.
ŌĆō ąŻ ąĮąĄą│ąŠ ą▓ čĆčāą║ą░čģ čüąĄą╣čćą░čü ą▒ąĄčüčåąĄąĮąĮąŠąĄ
čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ, ŌĆō ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ą¦č鹊‑č鹊 ąĮčāąČąĮąŠ ą┤ąĄą╗ą░čéčī, ąĖ ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ.
ąÆ čéą░ą║ąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ ąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčéčī ąĄą│ąŠ
ąŠą┐ą░čüąĮąŠŌĆ” ąÉčģ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčćŌĆ”
ŌĆō ą¤čĆąŠčüčéąĖč鹥, ąĮąŠ ąĮą░ čćč鹊 ą▓čŗ ąĮą░ą┤ąĄčÅą╗ąĖčüčī
čĆą░ąĮčīčłąĄ? ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓:
ŌĆō ąĀą░ąĘą▓ąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮą░ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░?
ŌĆō ąÉ ą▓čŗ? ŌĆō ą┐ąŠą┤čģą▓ą░čéąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓.
ŌĆō ą» ŌĆō ąĮą░ ą▓ą░čü, ŌĆō ąĘą░ą╝čÅą╗čüčÅ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ
ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąÆčŗ ŌĆō čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ ą▓ čŹč鹊ą╣ ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĖ. ą» čüą░ą╝ ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ą┤ą░ą╗ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖŌĆ”
ŌĆō ąÜč鹊 ąĘąĮą░ą╗, čćč鹊 ąŠąĮ ą▒ąŠą╗ąĄąĮ? ŌĆō ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
ą┐ąŠą║ą░čćą░ą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąŠą╣. ŌĆō ą» čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĘąĮą░čÄ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░: ą▒čāą┤čī ąŠąĮ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ čāą╝ąĄ ŌĆō
ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą▒čŗ ą┤ą░ą╗.
ŌĆō ą¤ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄŌĆ” ŌĆō ąĘą░ą┤čāą╝ą░ą╗čüčÅ
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąĪ ą▓ą░čłąĄą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą║ą░ą║‑č鹊 ą▓čüąĄ ąĮąĄčüąĄčĆčīąĄąĘąĮąŠŌĆ”
ŌĆō ąŚą░č鹊 čü ą▓ą░čłąĄą╣ ą▓čüąĄ čüąĄčĆčīąĄąĘąĮąŠ! ŌĆō
čĆą░ąĘąŠąĘą╗ąĖą╗čüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąÆčŗ ą┤čāą╝ą░ąĄč鹥, ąĄčüą╗ąĖ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ą┤ą░ą╗ąĖ ŌĆō ąĘąĮą░čćąĖčé, ą┤ąĄą╗ąŠ
čüą┤ąĄą╗ą░ąĮąŠ? ąŁč鹊 ą▓ą░ą╝ ąĮąĄ ą┐čĆčÅą╗ą║ąĖ ą┐ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÅą╝ ą┐ąŠą║čāą┐ą░čéčī.
ąöąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ, ąĮąĄąĘą░čüą╗čāąČąĄąĮąĮąŠ
ąŠčüą║ąŠčĆą▒ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣, čüąĮąĖą║, ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊 ąĘą░ą╝ąŠčĆą│ą░ą╗, ąĖ ąÉąĮąĮąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 ąŠąĮ
ą▓ąŠčé‑ą▓ąŠčé čĆą░čüą┐ą╗ą░č湥čéčüčÅ. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ čüąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĖą▓, čćč鹊 ą┐ąŠą│ąŠčĆčÅčćąĖą╗čüčÅ,
ą┐čĆąĖą╝ąŠą╗ą║. ąØąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ą▒čŗą╗ą░ čéąĖčłąĖąĮą░, čüą╗čŗčłą░ą╗ąŠčüčī ą╗ąĖčłčī, ą║ą░ą║
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĮąĄą│čĆąŠą╝ą║ąŠ ą┤ą▓ąĖą│ą░ą╗ą░ čüčéčāą╗čīčÅ ą▓ čćąĖčéą░ą╗čīąĮąŠą╝ ąĘą░ą╗ąĄ.
ŌĆō ąØą░ą┤ąŠ čüą┐ą░čüą░čéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ ąŠčé ąØąĖą║ąĖčéčŗ
ąĢą▓čüąĄąĖčćą░, ŌĆō čéąĖčģąŠ ąĖ čāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąĪąĄčĆą┤čåąĄą╝ čćčāčÄ ŌĆō ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤čāčé.
ąóąĄą┐ąĄčĆčī čŹč鹊 ąĮą░čłą░ ąŠą▒čÅąĘą░ąĮąĮąŠčüčéčī ąĖ ą▒ąĄą┤ą░ ąĮą░čłą░. ą×ą┤ąĮą░ ąĮą░ ą▓čüąĄčģ.
ą×ąĮ ą┐ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ąĮą░ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ąĖ ąÉąĮąĮčā,
ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ ą┤čāčģ.
ŌĆō ą» ą┤ąŠą╗ąČąĮą░ ąĄčģą░čéčī, ą▓ ą╗čÄą▒ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ŌĆō
čüą║ą░ąĘą░ą╗ą░ ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ą» čāąČąĄ čüąŠą▒čĆą░ą╗ą░čüčī.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čüą╝ąĄčĆąĖą╗ ąĄąĄ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝, čüąĄčĆą┤ąĖč鹊
ąŠčéą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ.
ŌĆō ąÜčāą┤ą░ ąĄčģą░čéčī? ąØą░ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĮčÄ ą║ ą┤ąĄą┤čāčłą║ąĄ?..
ąæčĆąŠčüčīč鹥 ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąĄčĆčāąĮą┤čā. ąØąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, ą▒čāą┤ąĄčé čćč鹊 čéą░ą╝ ąĖą╗ąĖ ąĮąĄčé, ą░ ą▓ąŠčé
ąĘą┤ąĄčüčī, čā ąĮą░čü ą┐ąŠą┤ ą▒ąŠą║ąŠą╝, ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░ąĄčé!.. ąÆąŠą┐čĆąŠčüąŠą▓ ąĮąĄčé, ąĮą░ą┤ąŠ ą▓čŗčĆčāčćą░čéčī
čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ. ąöą░ą▓ą░ą╣č鹥 ą┤čāą╝ą░čéčī‑ą║ą░ą║. ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą╝ąĖą╗ąĖčåąĖčÄ, č湥čĆąĄąĘ čüčāą┤, č湥čĆąĄąĘ
ąŠą▒čēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ŌĆō ą║ą░ą║ čāą│ąŠą┤ąĮąŠ, č鹊ą╗čīą║ąŠ čüą┐ą░čüą░čéčī.
ąÉąĮąĮą░ ąĘąĮą░ą╗ą░ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░: ąĄčüą╗ąĖ
čāą┐čĆąĄčéčüčÅ ŌĆō čāąČąĄ ąĮąĄ čüą▓ąŠčĆąŠčéąĖčłčī. ą×čéą┤ąĄą╗ ą▓ ą┐čāą▒ą╗ąĖčćąĮąŠą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ ą▒čŗą╗
ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠą╝ ą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄ, ą░ ąĄą│ąŠ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ŌĆō ą╗ąĖčåąŠą╝
ąĮąĄą┐čĆąĖą║ąŠčüąĮąŠą▓ąĄąĮąĮčŗą╝.
ŌĆō ąóą░ą║ ą▓čŗ čüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ ŌĆō ąŠąĮ ą▒ąŠą╗ąĄąĮ? ŌĆō ą┐ąŠą┤ą░ą╗
ą│ąŠą╗ąŠčü ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąóąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąŠčēąĄ: ą┐čĆąĖąĘąĮą░čéčī ąĄą│ąŠ ąĮąĄą┤ąĄąĄčüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮčŗą╝ŌĆ”
ą║ą░ą║ čŹč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ąĄčéčüčÅ, ąĮąĄ ąĘąĮą░čÄ. ąÉ ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĖąĘčŖčÅčéčī. ąÆčüąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮąĮąŠ. ąÜąŠą│ą┤ą░ čÅ
čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ąöąŠą╝ą░ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗŌĆ”
ŌĆō ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░‑čćą░čüčéąĮą░čÅ
čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠčüčéčī, ŌĆō ąŠčéčĆčāą▒ąĖą╗ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąóčāčé čéą░ą║ą░čÅ ą║ą░ąĮąĖč鹥ą╗čīŌĆ” ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ
čā ąĮąĄą│ąŠ ąĄčüčéčī ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĮąĖą║.
ŌĆō ąóąŠą│ą┤ą░ čÅ ąĮąĄ ąĘąĮą░čÄ, ŌĆō ą┐čĆąŠčĆąŠąĮąĖą╗
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąÜ čÄčĆąĖčüčéą░ą╝ ąĮą░ą┤ąŠŌĆ”
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą▓ą┐ą╗ąŠčéąĮčāčÄ ą║ ąÉąĮąĮąĄ,
ąĘą░ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ą▓ ą╗ąĖčåąŠ:
ŌĆō ąØčā ą░ ą▓čŗ čćč鹊 ą╝ąŠą╗čćąĖč鹥? ąĪąĄą╣čćą░čü ą▓čüąĄ
ąĘą░ą▓ąĖčüąĖčé ąŠčé ąĮą░čü čü ą▓ą░ą╝ąĖ. ąÆčŗ ą│čĆąŠąĘąĖą╗ąĖčüčī ą│ąŠčĆčŗ čüą▓ąĄčĆąĮčāčéčī ąĮą░ ą▒ą╗ą░ą│ąŠ čĆčāčüčüą║ąŠą╣
čüą╗ąŠą▓ąĄčüąĮąŠčüčéąĖ. ąĪą╗čāčćą░ą╣ ą▓čŗą┐ą░ą╗. ąōą┤ąĄ ą▓ą░čłą░ čģą▓ą░ą╗ąĄąĮą░čÅ ąČąĄąĮčüą║ą░čÅ ą╝čāą┤čĆąŠčüčéčī?
ŌĆō ą» ą┐ąŠąĄą┤čā ą▓ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ą░
ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ąōąŠčĆčŗ čüą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░čéčī.
ŌĆō ą©ąĄčÄ čüą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░čéčī! ŌĆō čĆą░čüčüąĄčĆą┤ąĖą╗čüčÅ
čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąÆčüčÅ ąĮą░ą┤ąĄąČą┤ą░ ą▒čŗą╗ą░ ąĮą░ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ąōą┤ąĄ ąŠąĮąĖ?
ŌĆō ąÆą░ą╝ ą╗čāčćčłąĄ ąĘąĮą░čéčīŌĆ” ąÆčŗ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą║
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā.
ŌĆō ąÉ ą╝ąŠąČąĄčé, ąĖ ą▓čŗ čüčģąŠą┤ąĖč鹥? ą¤ąŠąČą░ą╗čāą╣čüčéą░!
ąŚą░ąŠą┤ąĮąŠ ą┐ąŠą╗čÄą▒čāąĄč鹥čüčī, ą▓ čćčīąĖčģ čĆčāą║ą░čģ č鹥ą┐ąĄčĆčī čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ. ą×ąĮ čü čĆčāąČčīąĄą╝ ą▓ąŠąĘą╗ąĄ
ąĮąĄą│ąŠ čüąĖą┤ąĖčé.
ŌĆō ąÆ čéą░ą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ č湥ą│ąŠ ąČąĄ
ą▓ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░čéčīčüčÅ? ŌĆō čāčüą╝ąĄčģąĮčāą╗ą░čüčī ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ąØąĖą║ą░ą║ąĖąĄ ą▓ąŠčĆčŗ ąĮąĄ čüčéčĆą░čłąĮčŗŌĆ”
ŌĆō ą×ąĮ! ą×ąĮ čüą░ą╝ čüčéčĆą░čłąĄąĮ! ŌĆō ą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╗čüčÅ
čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąöąŠčłą╗ąŠ ą┤ąŠ ą▓ą░čü, ąĮąĄčé?
ŌĆō ąöąŠčłą╗ąŠ, ŌĆō čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗ą░čüčī ąÉąĮąĮą░. ŌĆō ą¤ąŠąĄą┤čā
ąĖčüą║ą░čéčī čüą║ąĖčéčŗ.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čāčüčéą░ą╗ąŠ ąŠą┐čāčüčéąĖą╗čüčÅ ą▓ ą║čĆąĄčüą╗ąŠ,
čģąŠč鹥ą╗ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ą╗čÄąĮčāčéčī, ąĮąŠ ąŠą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗čüčÅ ąĖ čüą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░
ą▓ą║ą╗čÄčćąĖą╗ą░ ą┐čŗą╗ąĄčüąŠčü ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ą░ čāčéčĹȹĖčéčī čüą╗ąĄą┤čŗ ąĮą░ ą║ąŠą▓čĆąĄ, ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ
čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╝. ą×ą▒ą╝ą░ąĮčćąĖą▓čŗą╣ čĆą░čüčüąĄčÅąĮąĮčŗą╣ čüą▓ąĄčé ą┐ą░ą┤ą░ą╗ ąĮą░ ą╗ąĖčåą░ ąĖ ą║ąŠąČą░ąĮčŗąĄ
ą┐ąĄčĆąĄą┐ą╗ąĄčéčŗ ą║ąĮąĖą│. ą×ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĖčéčī, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čćą░čü, ą▒čŗą╗ąŠ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ. ąÆą╝ąĄčüč鹥 čü
č鹥ą╝ą┐ąĄčĆą░čéčāčĆąŠą╣ ąĖ ą▓ą╗ą░ąČąĮąŠčüčéčīčÄ ąĘą┤ąĄčüčī ąĘą░ą╝ąĖčĆą░ą╗ąŠ ąĖ ą▓čĆąĄą╝čÅ.
ą×čéą┤ąĄą╗ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ą║ąĮąĖą│ ąĖ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĄą╣
ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗čüčÅ ą▓ čüą▓ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čü ą┐ąŠąČąĄčĆčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖą╝ąĄąĮąĖč鹊ą│ąŠ ą║čāą┐čåą░ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ą░.
ąŻąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé ąĄčēąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüčéčĆąŠąĖą╗čüčÅ, ą░ čüąŠ ą▓čüąĄčģ ą║ąŠąĮčåąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ čāąČąĄ čłą╗ąĖ
ą┐ąŠčüčŗą╗ą║ąĖ čü ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ ąĖ čāč湥ą▒ąĮčŗą╝ąĖ ą┐ąŠčüąŠą▒ąĖčÅą╝ąĖ ąŠčé ą┐čĆąŠą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓, ą║čāą┐čåąŠą▓ ąĖ
ą░čĆąĖčüč鹊ą║čĆą░čéąĖąĖ. ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ąĮą░ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą┤ąĄčüčÅčéčī čéčŗčüčÅčć čĆčāą▒ą╗ąĄą╣ ąŠčéą▓ą░ą╗ąĖą╗ ŌĆō
čüčāą╝ą╝čā ą┐ąŠ č鹥ą╝ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ą╝ ąĮąĄą╝ą░ą╗čāčÄ. ą¢ąĖą╗ ą▒čŗ čüąĄą▒ąĄ čüąŠ čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠą╣ ą┤čāčłąŠą╣ ą┤ą░
č鹊čĆą│ąŠą▓ą░ą╗ ą┐čāčłąĮąĖąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ą░ąĮčāčäą░ą║čéčāčĆąŠą╣, ąĮąŠ ąĮąĄčé ąČąĄ, ąĘą░ąĄą╗ąŠ, čćč鹊 ąŠą▒ąŠčłąĄą╗ ąĄą│ąŠ
ąĪčéčĆąŠą│ą░ąĮąŠą▓. ąÜčĆąŠą╝ąĄ ą┤ąĄąĮąĄą│, ą┐čĆąĖčüą╗ą░ą╗ č鹊čé ą║ąĮąĖą│ č湥čĆč鹊ą▓čā ą┐čĆąŠčĆą▓čā, ąĖ ą▓čüąĄ, ą┐ąŠ
čüą╗čāčģą░ą╝, ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖąĄ, čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗąĄ. ąōą┤ąĄ čāąČ čéą░ą╝ čéčÅą│ą░čéčīčüčÅ ą║čāą┐čåčā čü čģąŠąĘčÅąĖąĮąŠą╝
ąŻčĆą░ą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ą║ą░ą╝ąĮčÅ, ąĮąŠ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ą╝ąĄčüčéą░ čüąĄą▒ąĄ ąĮąĄ ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗. ąĪčĆąĄą┤ąĖ čüąĖą▒ąĖčĆčüą║ąĖčģ
ą║čāą┐čåąŠą▓ ąŠąĮ čüčćąĖčéą░ą╗čüčÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĮčŗą╝, ą┐ąĄčĆąĄą┤ąŠą▓čŗą╝, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā
ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ą║ąĮąĖąČąĮčŗą╣ ą╝ą░ą│ą░ąĘąĖąĮ ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╗ą░ą▓ąŠą║ ą┐ąŠ ą╝ą░ą╗čŗą╝ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ą╝. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░,
ą╗ą░ą▓ą║ąĖ čŹčéąĖ ąĘą░čćą░čüčéčāčÄ č鹊čĆą│ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą║ą░ąĮčåąĄą╗čÅčĆčüą║ąĖą╝ąĖ č鹊ą▓ą░čĆą░ą╝ąĖ, ą╝čŗą╗ąŠą╝ ąĖ
čłą┐ą░ą╗ąĄčĆąŠą╣, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą▓ąŠąĘąĖčéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ ą▓ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī ą▒čŗą╗ąŠ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ąĮąŠ, ąĮąŠ čŹč鹊 ąĮąĄ
ą╝ąĄąĮčÅą╗ąŠ čüčāčéąĖ. ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąŠą┤ąĮą░ąČą┤čŗ ąĮą░ ąĘą░čüąĄą┤ą░ąĮąĖąĖ čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖąĖ
ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ą░ čłąĖą▒ą║ąŠ čĆą░ąĘą┤čĆą░ąĘąĮąĖą╗ąĖ ąĖ čĆą░ąĘąŠąĘą╗ąĖą╗ąĖ: ą▓ąŠčé, ą╝ąŠą╗, ąĪčéčĆąŠą│ą░ąĮąŠą▓ čü ąŻčĆą░ą╗ą░
ą║ąĮąĖą│ąĖ čłą╗ąĄčé, ą░ ą╝ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčéąĖč鹥ą╗čī, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, ą┐ą░čéčĆąĖąŠčé ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ,
ą┤ąĄąĮąĄą│ ą┤ą░ą╗ ąĖ ąĮą░ čŹč鹊ą╝ ąĘą░ą│ą╗ąŠčģ. ąś ą┐čĆąŠ ą╝čŗą╗ąŠ, ą┐čĆąŠ čłą┐ą░ą╗ąĄčĆčā ą▓ ą║ąĮąĖąČąĮčŗčģ ą╗ą░ą▓ą║ą░čģ
ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖ. ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ą▒čŗą╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąĮąŠą╣, ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╣ (ą┐ąŠ čŹč鹊ą╣ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąĄ
ą┐ąĄčĆąĄą┤ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĄą╣ čĆą░ąĘąŠčĆąĖą╗čüčÅ ą▓ ą┐čāčģ ąĖ ą┐čĆą░čģ), čłą░ą┐ą║čā ŌĆō ąŠą▒ ą┐ąŠą╗, čĆčāą▒ą░čģčā ąĮą░
ą│čĆčāą┤ąĖ ŌĆō ą┤ąŠ ą┐čāą┐ą░ ąĖ ą┐čĆąĖ ą▓čüąĄą╝ č湥čüčéąĮąŠą╝ ąĮą░čĆąŠą┤ąĄ ą▒čāčģąĮčāą╗: ą║čĆąĄčüčé ąĮą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣
ąĘą░ą╗ąŠąČčā, ą░ ą║ąĮąĖą│ąĖ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéčā ą┐ąŠąČąĄčĆčéą▓čāčÄ, ą┤ą░ ąĮąĄ ą║ą░ą║ąĖąĄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ŌĆō čüą░ą╝čŗąĄ
ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖąĄ, čüą░ą╝čŗąĄ čĆąĄą┤ą║ąĖąĄ.
ąØąŠ ą║ą╗čÅčéą▓ą░‑č鹊 ą║ą╗čÅčéą▓ąŠą╣, ą░ ą║ąĮąĖą│ ą▓ąĘčÅčéčī
ąĮąĄą│ą┤ąĄ. ą¤ąŠąĄčģą░ą╗ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓čā, čüčéą░ą╗ čģąŠą┤ąĖčéčī ą┐ąŠ ąĘąĮą░čÄčēąĖą╝ ą╗čÄą┤čÅą╝,
ą┐čŗčéą░čéčī, ą│ą┤ąĄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą║čāą┐ąĖčéčī ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║čā. ą£ąĄčüčÅčå ą┐ąŠčĆąŠą│ąĖ čā ąĖą╝ąĄąĮąĖčéčŗčģ ą┤ą▓ąŠčĆčÅąĮ
ąŠą▒ąĖą▓ą░ą╗ ąĖ ąĮą░čłąĄą╗‑čéą░ą║ąĖ. ą¤ąŠą┤ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĄą╝čā ą│čĆą░čä ąĖąĘ ą▒ąŠą│ą░č鹥ą╣čłąĄą╣ ą║ąŠą│ą┤ą░‑č鹊
čäą░ą╝ąĖą╗ąĖąĖ. ąōčĆą░čä čüą╗čāąČąĖą╗ ąĮą░ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╣ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ, čüąĮąĖą╝ą░ą╗ čłąĄčüčéčī ą║ąŠą╝ąĮą░čé ą▓
ą┤ąŠčģąŠą┤ąĮąŠą╝ ą┤ąŠą╝ąĄ, ąĖ ą┤ą▓ąĄ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąĖ čüą┐ą╗ąŠčłčī ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ. ąōčĆą░čäąĖąĮčÅ
ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ą╗ą░ ąĮą░ ąČąĄąĮčüą║ąĖčģ ą║čāčĆčüą░čģ, ąČąĖą╗ąĖ ąĮą░ ąŠą┤ąĮąŠ ąČą░ą╗ąŠą▓ą░ąĮčīąĄ. ąĢčüą╗ąĖ ą▒ ąĮąĄ
čéąĖčéčāą╗, ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ą▒čŗ ąĖ ąĮąĄ ą║ą╗ą░ąĮčÅą╗čüčÅ, čüčāą╝ąĄą╗ ą▒čŗ ą┤ąĄąĮčīą│ą░ą╝ąĖ čāą╗ąŠą╝ą░čéčī.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą│čĆą░čä ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ čü ą│ąŠąĮąŠčĆąŠą╝: ą┤ąĄčüą║ą░čéčī, čüąĄą╝ąĄą╣ąĮčŗąĄ čĆąĄą╗ąĖą║ą▓ąĖąĖ
ą┐čĆąĄą┤ą║ą░ą╝ąĖ ą▒ąĄčĆąĄčćčī ąĮą░ą║ą░ąĘą░ąĮąŠ, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░ ąĮąĄ ą┐čĆąŠą┤ą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ ąŠąĮ,
čüą▓ąĄčéą╗ąĄą╣čłąĖą╣, ąĮąĄ čéą░ą║ąĖčģ ą║čāą┐čåąŠą▓ čüąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░ ą│ąĮą░ą╗. ąōčĆą░čäąĖąĮčÅ ąČąĄ, ą║ą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ
čāčüą╗čŗčģą░ą╗ą░ čüčāą╝ą╝čā, čćč鹊 ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗, ąĘčāą┤ąĄčéčī ąĮą░čćą░ą╗ą░: čāčüčéčāą┐ąĖ,
ą┐čĆąŠą┤ą░ą╣. ąĪą╗čāąČą░ąĮą║čā ąĮą░ą╣ą╝ąĄą╝, ą┤ą░ ąĖ ą╝čÅčüąŠ ąĮčŗąĮč湥 ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠąĄ. ąś čüą┤ą░ą╗čüčÅ ą│čĆą░čä, ąĮąŠ
čåąĄąĮčā ąĘą░ą╗ąŠą╝ąĖą╗ ŌĆō ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ą┐ąŠč鹥ą╝ąĮąĄą╗ąŠ. ąæąŠą╗čīąĮąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĖąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ‑č鹊, čéą▓ąĄčĆą┤ąĖčé,
čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗąĄ, ą╝ąĮąŠą│ąĖą╝ąĖ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĮčŗąĄ. ąóą░ą║ąĖčģ č鹥ą┐ąĄčĆčī, ą╝ąŠąČąĄčé, ą▓čüąĄą│ąŠ
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čłčéčāą║ ąĄčüčéčī ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╣ ąĀąŠčüčüąĖąĖ. ą×čéčüčćąĖčéą░ą╗ ą║čāą┐ąĄčå ą┤ą▓ą░ą┤čåą░čéčī čéčŗčüčÅčć čü
ą╗ąĖčłą║ąŠą╝, čüčāąĮčāą╗ ą▓ ą│čĆą░čäčüą║ąĖąĄ čĆčāą║ąĖ ąĖ ą┐ąŠą│čĆčāąĘąĖą╗ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║čā ąĮą░ čüąĄą╝čī ą┐ąŠą┤ą▓ąŠą┤.
ą¤čĆąĖąĄčģą░ą╗ ąĖąĘ ą£ąŠčüą║ą▓čŗ ąĖ ą┤ą░ąČąĄ ą┤ąŠą╝ąŠą╣ ąĮąĄ ąĘą░ąĄčģą░ą╗ ŌĆō čüčĆą░ąĘčā ą▓ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé. ąÉ
č湥čĆąĄąĘ ą╝ąĄčüčÅčå čāąČąĄ ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ ąĘąĄą▓ą░ą╗, čüąĖą┤čÅ ąĮą░ ą┐ąŠč湥čéąĮąŠą╝ ą╝ąĄčüč鹥 ą┐čĆąĖ ąĘą░čüąĄą┤ą░ąĮąĖąĖ
čüčéčĆąŠąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖąĖŌĆ”
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮą░ą┐čĆą░čüąĮąŠ čüą┐ąĄčłąĖą╗ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ ąĖ
ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ą┐ąŠč湥ą╝ ąĘčĆčÅ čĆą░ąĘą▒čĆą░čüčŗą▓ą░ą╗. ąÆ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥č鹥 ąŠčéą║čĆčŗą╗čüčÅ ąĄą┤ąĖąĮčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╣
ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮčüą║ąĖą╣ čäą░ą║čāą╗čīč鹥čé, ąĖ čēąĄą┤čĆčŗą╣ ą║čāą┐ąĄč湥čüą║ąĖą╣ ą┤ą░čĆ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗čüčÅ ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą▒čŗ ąĮąĄ
čā ą┤ąĄą╗. ąöąŠą╗ą│ąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą║ąĮąĖą│ąĖ čéą░ą║ ąĖ ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ ąĘą░ą┐ą░ą║ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ čÅčēąĖą║ąĖ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝
ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╝ čāą│ą╗čā čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēą░. ą¤ąĄčĆąĄą┤ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąĄą╣ ąĖčģ ą▓čŗčéą░čēąĖą╗ąĖ, ąŠčüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ąĖ,
ąŠčéčüąŠčĆčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ ąĖ ą┐čāčüčéąĖą╗ąĖ ą▓ ąŠą▒ąŠčĆąŠčé ąĮą░čĆą░ą▓ąĮąĄ čü ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ
ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ. ąōčĆą░čäčüą║ąŠąĄ čäą░ą╝ąĖą╗čīąĮąŠąĄ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ čĆą░čüčéą▓ąŠčĆąĖą╗ąŠčüčī ąĖ ąĖčüč湥ąĘą╗ąŠ ą▓
ą╝ą░čüčüąĄ, ą░ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ą░ čāąČąĄ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ ąČąĖą▓čŗčģ. ąś č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ čéčĆąĖą┤čåą░čéčŗčģ ą│ąŠą┤ą░čģ,
ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ čüčéą░ą╗ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ ąŠčéą┤ąĄą╗ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ą║ąĮąĖą│, ą▓ąĮąŠą▓čī
ą▓čüą┐ą╗čŗą╗ąŠ ą║čāą┐ąĄč湥čüą║ąŠąĄ ą┐ąŠąČąĄčĆčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ, ą┤ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ č鹊ą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąĮą░ą┐čĆąŠčćčī
ąĘą░ą▒čŗą╗ąĖ ąŠ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄą╝ ą┤ą░čĆąĖč鹥ą╗ąĄ ŌĆō ą║čāą┐čåąĄ ą×ą║ąŠąĄą╝ąŠą▓ąĄ. ąØą░ ą▓čüąĄčģ ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘąĄąĮąĮčŗčģ ąĖą╝
ą║ąĮąĖą│ą░čģ čüč鹊čÅą╗ ą│čĆą░čäčüą║ąĖą╣ ą│ąĄčĆą▒, ą┐ąŠą╝ąĄčéą║ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą│čĆą░čäčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖą╣,
ąĘą░ą┐ąĖčüą║ąĖ ąĮą░ ą┐ąŠą╗čÅčģ.
ąøąĖčłčī ą▓ čüąŠčĆąŠą║ąŠą▓ąŠą╝ ą│ąŠą┤čā ą£ąĖčģą░ąĖą╗
ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, čüčéą░ą▓čłąĖą╣ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╝ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░, ąŠčéčŗčüą║ą░ą╗ ą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮčāčÄ
ą│čĆą░ą╝ąŠčéčā ą║čāą┐čåą░ ąĖ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ ąĖčüčéąĖąĮčā. ąŁč鹊 čüčéą░ą╗ąŠ ąŠčéą║čĆčŗčéąĖąĄą╝, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā
čüčćąĖčéą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čüč鹊ą╗čī čēąĄą┤čĆčŗą╣ ┬½ą┤ą░čĆ┬╗ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéčā ąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ ąŠčé
ąŠą▒ąĄą┤ąĮąĄą▓čłąĄą│ąŠ ą│čĆą░čäą░. ą×ąĮ‑č鹊, ą│čĆą░čä, ąĖ ą▒čŗą╗ ą▓ąŠąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮ ą▓ čĆą░ąĮą│ ąĘąĮą░ą╝ąĄąĮąĖč鹊ą│ąŠ
ą╝ąĄčåąĄąĮą░čéą░ ąĖ ą┐ąŠą▒ąŠčĆąĮąĖą║ą░ ą▓čŗčüčłąĄą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ ąŠčéčüčéą░ą╗ąŠą╣ ąĪąĖą▒ąĖčĆąĖ. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
ąČąĄ čĆą░ąĘąŠą╝ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ ą▓čüąĄ č鹊ą╗ą║ąĖ ąĖ ąĮą░ą┤ čłą║ą░čäą░ą╝ąĖ, ą│ą┤ąĄ čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčüčī ąŠą║ąŠąĄą╝ąŠą▓čüą║ąĖąĄ
ą║ąĮąĖą│ąĖ, ą▓čŗą▓ąĄčüąĖą╗ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓čāčÄčēčāčÄ čéą░ą▒ą╗ąĖčćą║čā. ąĀčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗąĄ čüą┐ąĖčüą║ąĖ
ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░, ą┤ą░ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐ąŠąĘą┤ąĮąĖąĄ, čüčéą░čĆąŠą┐ąĄčćą░čéąĮčŗąĄ, ą▒čŗą╗ąĖ ą▓
ą┐ą╗ą░č湥ą▓ąĮąŠą╝ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖąĖ: ąĮą░čüč鹊čÅą╗ąĖčüčī ą▓ ą│ą╗čāčģąĖčģ ą│čĆą░čäčüą║ąĖčģ čłą║ą░čäą░čģ,
ąĮą░č鹥čĆą┐ąĄą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ ą┤ąŠčĆąŠą│ąĄ ąĖąĘ ą£ąŠčüą║ą▓čŗ ąĖ ąĮą░ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖčüčī ą▓ čÅčēąĖą║ą░čģ ą┐ąŠ čüčŗčĆčŗą╝
ą┐ąŠą┤ą▓ą░ą╗ą░ą╝. ąæčāą╝ą░ą│čā ąĖ ą┐ąĄčĆą│ą░ą╝ąĄąĮčé čüą▓ąĄčĆą╗ąĖą╗ ą║ąĮąĖąČąĮčŗą╣ ąČčāč湊ą║, ą║čĆąŠčłąĖą╗ą░ ą┐ą╗ąĄčüąĄąĮčī
ąĖ ą┐čĆąĄą╗čī. ą¦ąĄčéčŗčĆąĄ ą│ąŠą┤ą░ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą╗ąĄčćąĖą╗ ą║ąĮąĖą│ąĖ, ą┤ąĄąĘąĖąĮčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą╗ąĖčüčé,
ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ ą┐ąĄčĆąĄą┐ą╗ąĄčéčŗ, ą▓čŗčéčĆą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ ą┐ą╗ąĄčüąĄąĮčī ąĖ ą│čĆčÅąĘčī, ąŠčéą╗ą░ą│ą░ą▓čłčāčÄčüčÅ
ą▓ąĄą║ą░ą╝ąĖ. ąÜąĮąĖą│ą░ ą║ą░ą║ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║: ąŠąĮą░ ą│ąĖą▒ąĮąĄčé ą▒čŗčüčéčĆąĄąĄ ąŠčé ą┐ąŠą╗ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą║ąŠčÅ ąĖ
ą┤ąŠą╗čīčłąĄ ąČąĖą▓ąĄčé ą▓ ą▒ąĄčüą┐ąŠą║ąŠą╣čüčéą▓ąĄ.
ąØąŠ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┤ą░čĆąĄąĮčŗąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ
ą▓čüčéą░ą╗ąĖ ą▓ čüčéčĆąŠą╣ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī, ą░ ą┐ąŠą┤ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ. ąÆ ąĖąĮąŠą╣ ą│ąŠą┤
ąŠčéą┤ąĄą╗ ą┐ąŠą╗čāčćą░ą╗ ąŠą┤ąĮčā‑ą┤ą▓ąĄ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ, ą║čāą┐ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čā ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąŠąĮąĄčĆąŠą▓ ą╗ąĖą▒ąŠ čā
čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗčģ ą╗čÄą┤ąĄą╣, ą┐čĆąĖčłąĄą┤čłąĖčģ ą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║čā čüą┤ą░čéčī čĆąĄą┤ą║čāčÄ ą║ąĮąĖąČąĖčåčā.
ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī čüą║ąŠą╗ąŠčéąĖčéčī ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąŠą╣ ąŠą▒ą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ č乊ąĮą┤,
ąĘą░ą▓čÅąĘą░ą╗ą░čüčī ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüą║ą░ čü ą┤čĆčāą│ąĖą╝ąĖ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ą╝čāąĘąĄčÅą╝ąĖ. ą×ąĮ čāčüą┐ąĄčłąĮąŠ
ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ čéčāčĆąŠą▓ ą┤ą▓ąŠą╣ąĮąŠą│ąŠ ąĖ čéčĆąŠą╣ąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░, ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čÅ, čćč鹊 čŹč鹊
ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĖą╗ąĖ ą╝ąĄąĮąĄąĄ ąĮą░ą┤ąĄąČąĮčŗą╣ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ą┐ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖčÅ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░, ąĖ ą┤ą▓ą░ąČą┤čŗ čüčŖąĄąĘą┤ąĖą╗
ą▓ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ ąĮą░ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆ. ąØąŠ čéą░ą╝ čāąČąĄ ą┐ąŠą▒čŗą▓ą░ą╗ąĖ ą┤ąŠ ąĮąĄą│ąŠ, ą▓čŗą▒čĆą░ą╗ąĖ,
ąŠčéčüąĄčÅą╗ąĖ ą▓čüąĄ čüą░ą╝ąŠąĄ čåąĄąĮąĮąŠąĄ, ąĖ č鹊, čćč鹊 ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘ čü ąĪąĄą▓ąĄčĆą░, ą▒ąŠą╗čīčłąĄ
ą│ąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ą╝ąĄąĮą░ čü ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ‑ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąŠąĮąĄčĆą░ą╝ąĖ.
ŌĆō ąØąĖč湥ą│ąŠ, čŹč鹊 ą▓ą░ą╝ ąĮąĄ ąĖąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ
┬½ąöąĄčéą│ąĖąĘ┬╗, ŌĆō ą╗čÄą▒ąĖą╗ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčéčī čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąŁč鹊 ą▓ąĄčćąĮčŗąĄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ. ą×ąĮąĖ
ą┤ąŠą▒čŗą▓ą░čÄčéčüčÅ, ą║ą░ą║ čĆą░ą┤ąĖą╣.
ąś čéčāčé ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠ ą▓ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī ą┐ąĄčĆąĄą▒čĆą░ą╗čüčÅ
ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą╗ąĄąĮąĖąĮą│čĆą░ą┤čüą║ąĖą╣ čüąŠą▒ąĖčĆą░č鹥ą╗čī čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ
ą║ąĮąĖą│ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╣ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā ą┐ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┐ąĖčüą║ąĄ ąĖ čüčéą░čéčīčÅą╝,
ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąŠčé ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī ą▓ ą│ą░ąĘąĄčéą░čģ ąĖ ąČčāčĆąĮą░ą╗ą░čģ. ą¤ąĄčĆąĄąĄčģą░ą╗
ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čüąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąŠą╣, ą┤ą░ąČąĄ, ą┐ąŠ čüą╗čāčģą░ą╝, čĆą░ąĘą░ ą▓ ą┤ą▓ą░ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą╣,
č湥ą╝ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░, ąĮąĄ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅ čāąČ ąŠ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ čĆąĄą┤ą║ąŠčüčéąĖ ą║ąĮąĖą│. ąöą╗čÅ
ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ą░čüčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī ąŠčéą║čĆčŗčéčī ąĮąŠą▓čŗą╣ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣ ŌĆō ąĖąĘ
čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤č湥čüą║ąĖčģ ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĄąĮčī ąĖ čüą║ąĖč鹊ą▓, ąĮąĖą║ąĄą╝ ąĄčēąĄ ąĮąĄ čéčĆąŠąĮčāčéčŗčģ, ąĮąĄ
ą┐čĆąŠą╣ą┤ąĄąĮąĮčŗčģ, ąĮąĄ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ. ą¤ąŠą║ą░ č鹊ą╗čīą║ąŠ čüčĆąĄą┤ąĖ ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░č乊ą▓ ąĖ
ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čüčéą░čĆąĖąĮčŗ ąŠą▒ čŹčéąĖčģ ą╝ąĄčüčéą░čģ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ ąĖ ą╗ąĄą│ąĄąĮą┤čŗ, ą║ą░ą║ ąŠ
ą║ąĮąĖąČąĮąŠą╝ ąÜą╗ąŠąĮą┤ą░ą╣ą║ąĄ. ą¦ąĄą│ąŠ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ! ąōą┤ąĄ‑č鹊 ą▓ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮąĄ
ą╗ąĄčüąŠą▓ ąĖ ą▒ąŠą╗ąŠčé ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ąŠčģąŠčéąĮąĖą║ ąĮą░čłčæą╗ čåąĄą╗čŗą╣ ą╗ą░čĆčī, ąĮą░ą▒ąĖčéčŗą╣ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗą╝ąĖ
ąĖ čüčéą░čĆąŠą┐ąĄčćą░čéąĮčŗą╝ąĖ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ. ąĪč鹊ąĖčé čüąĄą▒ąĄ ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮą░čÅ ąĘą░ąĖą╝ą║ą░, ą░ ą▓ ąĮąĄą╣ ŌĆō
ą▒ąĄčüčåąĄąĮąĮąŠąĄ čüąŠą║čĆąŠą▓ąĖčēąĄ. ą¤čĆąĖčģąŠą┤ąĖ ą▒ąĄčĆąĖ, ąĮąŠ ą│ą┤ąĄ ąŠąĮą░, ąĘą░ąĖą╝ą║ą░?.. ąóą░ą╝,
čüą╗čŗčłąĮąŠ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą┤ąĄčĆąĄą▓ąĄąĮčīą║ąĄ ąŠą▒čŖčÅą▓ąĖą╗čüčÅ čāą╝ąĄą╗ąĄčå‑čüą░ą┐ąŠąČąĮąĖą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣
ąĮą░čéą░čüą║ą░ą╗ ąŠčéą║čāą┤ą░‑č鹊 ┬½ą║ąŠąČą░ąĮčŗčģ┬╗ ą║ąĮąĖą│ ą┐čĆąŠčĆą▓čā ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī, ąĘą░ ąĮąĄąĖą╝ąĄąĮąĖąĄą╝
ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄą╣ ą║ąŠąČąĖ, čüčéą░ą▓ąĖčé ąĮą░ čüą░ą┐ąŠą│ąĖ ą┐ąŠą┤ą╝ąĄčéą║ąĖ ąĖąĘ ąĮąĖčģ. ą¤čĆąĖč湥ą╝,
čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄčé, ąŠčģąŠčéąĮąŠ ą┐ąŠčāčćą░ąĄčé čüą▓ąŠąĖčģ ąŠą┤ąĮąŠčüąĄą╗čīčćą░ąĮ:
ŌĆō ąóčŗ, ą┐ą░čĆčÅ, ą║ąŠąČčā‑č鹊 ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ čü ą║ąŠčĆąŠą║
ą┤ąĄčĆąĖ. ąóčŗ ąĖ ą╗ąĖčüčéąĖą║ąĖ ą┐čĆąŠą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╣. ąØą░ ą┐ąŠą┤ą╝ąĄčéą║čā‑č鹊 ąĖ ą╗ąĖčüčéąĖą║ąĖ ąĘą░ ą╝ąĖą╗čāčÄ
ą┤čāčłčā ąĖą┤čāčé. ąóąŠą║ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ąĮą░ą┤ąŠ ąĖ čłą┐ąĖą╗čīą║ąĖ ą┐ąŠčćą░čēąĄ ą▒ąĄą╣. ąÆąŠčé ąĮą░ ą║ą░ą▒ą╗čāą║ ą║ąŠąČčā
čü ą║ąŠčĆąŠą║ čüčéą░ą▓čī, ąŠąĮą░ čüčéą░čĆą░čÅ, ą░ ą║čĆąĄą┐ą║ą░čÅ, čüąŠą▒ą░ą║ą░. ąĀčŗą▒čīąĖą╝ ą║ą╗ąĄąĄą╝ ąĄčēąĄ
čüą╝ą░ąČąĄčłčī ŌĆō ąĖąĘąĮąŠčüčā ąĮąĄ ą▒čāą┤ąĄčé!
ąóčĆčāą┤ąĮąŠ čüąĄą▒ąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖčéčī, čćč鹊 ą│ą┤ąĄ‑č鹊
čģąŠą┤čÅčé ą╗čÄą┤ąĖ ą▓ čüčŗčĆąŠą╝čÅčéąĮčŗčģ čüą░ą┐ąŠą│ą░čģ ąĮą░ ą┐ąŠą┤ą▒ąŠčĆąĄ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą│ą░ą╝ąĄąĮčéą░.
ąØąĄą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠąĄ ą║ąŠčēčāąĮčüčéą▓ąŠ, ą▓ą░čĆą▓ą░čĆčüčéą▓ąŠ ąĮąĄąŠą┐ąĖčüčāąĄą╝ąŠąĄ, ąĮąŠ čćč鹊 ą┤ąĄą╗ą░čéčī, ąĄčüą╗ąĖ
č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 ąŠčéą│čĆąĄą╝ąĄą╗ą░ ą▓ąŠą╣ąĮą░, ą░ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī ą║ ą╗ą░ą┐čéčÅą╝ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčāč湥ąĮą░. ąóčāčé ąČąĄ
ą┐ąŠą┤ čĆčāą║ąŠą╣ ąĮą░čüč鹊čÅčēą░čÅ ą║ąŠąČą░ ŌĆō čüčŗčĆąŠą╝čÅčéąĖąĮą░‑č鹊 ąĮą░ ą┐ąŠą┤ą╝ąĄčéą║ąĖ ąĮąĄ ą│ąŠą┤ąĖčéčüčÅ!
ą£ą░ąČčī ą┐ąĄčĆą│ą░ą╝ąĄąĮčé čĆčŗą▒čīąĖą╝ ą║ą╗ąĄąĄą╝, ą▒ąĄą╣ čłą┐ąĖą╗čīą║ąĖ ą▒ąĄčĆąĄąĘąŠą▓čŗąĄ ą┐ąŠčćą░čēąĄ ąĖ ąĮąŠčüąĖ ąĮą░
ąĘą┤ąŠčĆąŠą▓čīąĄŌĆ”
ąØąŠ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠąĄ ą▒ąŠą│ą░čéčüčéą▓ąŠ
čģčĆą░ąĮąĖą╗ąŠčüčī ą▓ čĆčāą║ą░čģ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåąĄą▓, ąĮčŗąĮąĄ ąČąĖą▓čāčēąĖčģ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖąĘ čĆąŠą┤ą░ ą▓
čĆąŠą┤, ąŠčé ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┐ąŠą║ąŠą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ čüą▓čÅčéčŗąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĖ ą▒ąĄčĆąĄą│ą╗ąĖ ąĖčģ
ą┐čāčēąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░. ąæčĆąŠčüąĖčéčī ąĖą╗ąĖ ąĘą░ą║ąŠą┐ą░čéčī ą║ąĮąĖą│čā ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╝ ą│čĆąĄčģąŠą╝,
ąĖ č鹊, čćč鹊 ąŠą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮčŗą╝ ąĖą╗ąĖ ąĘą░ą║ąŠą┐ą░ąĮąĮčŗą╝, ąŠą▒čŗčćąĮąŠ čüą▓čÅąĘčŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī čü
ą▓ąĮąĄąĘą░ą┐ąĮąŠą╣ čüą╝ąĄčĆčéčīčÄ ą╗ąĖą▒ąŠ ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą║ą░ą║ąŠą╣ čéčĆą░ą│ąĄą┤ąĖąĄą╣. ąóą░ą║ čćč鹊 ą▓ąĘčÅčéčī ą║ąĮąĖą│čā čā
ą║ąĄčƹȹ░ą║ą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠŌĆ”
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąČąĄ ą┐ąĄčĆąĄą▒čĆą░ą╗čüčÅ ą▓ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī,
čćč鹊ą▒čŗ ąĮą░čćą░čéčī čĆą░ą▒ąŠčéčā čüčĆąĄą┤ąĖ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåąĄą▓, ą░ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╝ ą┐ąŠą┤ą┤ąĄčƹȹ░ą╗
ąĄą│ąŠ. ąÆąĮą░čćą░ą╗ąĄ ąŠąĮ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą┤ą░ą╗ ąŠčüąŠą▒ąŠą│ąŠ ąĘąĮą░č湥ąĮąĖčÅ čéą░ą║čéąĖą║ąĄ ąĖ čĆą░čüčüčāąČą┤ąĄąĮąĖčÅą╝
ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĪčéčĆą░čüčéąĮąŠą│ąŠ. ąśą┤ąĄąĖ ą╗ąĄąĮąĖąĮą│čĆą░ą┤čåą░ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╝ąĖ, ą┐ąŠą╝čŗčüą╗čŗ ŌĆō
čćąĖčüčéčŗą╝ąĖ, ąŠąĮ čāą╝ąĄą╗ čéą░ą║ ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī, čéą░ą║ čüą░ą│ąĖčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ŌĆō čćčāą╝ąĮčŗą╝ ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ
čāą╣ą┤ąĄčłčī. ąØąĄ ąĘčĆčÅ ąĄčēąĄ ą▓ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║čāčÄ ą▒čŗą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą║ąŠą╝ąĖčüčüą░čĆąŠą╝ ą┐ąŠą╗ą║ą░, ąŠ
č湥ą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ čüčéą░čĆčŗą╣, ą┐ąŠč鹥čĆčéčŗą╣ ą╝ą░čāąĘąĄčĆ čü ą│čĆą░ą▓ąĖčĆąŠą▓ą║ąŠą╣ ąĮą░
ą╝ą░ą│ą░ąĘąĖąĮąĄ, čü ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ąĮąĄ čĆą░čüčüčéą░ą▓ą░ą╗čüčÅ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ
ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ ą┤ą▓čāčģ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖą╣ ą▓ ąŚą░ą▒ą░ą╣ą║ą░ą╗čīąĄ ą┐čĆąŠčÅą▓ąĖą╗ąŠčüčī čĆąĄąĘą║ąŠąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖąĄ ą▓ąŠ
ą╝ąĮąĄąĮąĖčÅčģ. ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓, ą║ąŠąĮąĄčćąĮąŠ ąČąĄ, ą▒čŗą╗ ą░ą▓č鹊čĆąĖč鹥č鹊ą╝ čüčĆąĄą┤ąĖ ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░č乊ą▓,
ąĄą╝čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąŠą▓ąĄčĆčÅčéčī, ąĮąŠ ąĮąĄ čéą░ą║ čāąČ čüą╗ąĄą┐ąŠ. ąśąĘ ąŚą░ą▒ą░ą╣ą║ą░ą╗čīčÅ ąŠąĮąĖ ąĮąĄ
ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘą╗ąĖ ąĮąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą║ąĮąĖą│ąĖ, čģąŠčéčÅ ąĖą╝ čāąČąĄ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ąĮą░ą┐ąĖčéčīčüčÅ ą▓ąŠą┤čŗ,
ą░ ąĖ ą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ą║čĆčŗčłčā, ą┐čāčüą║ą░ą╗ąĖ ą▓ čüą▓čÅčéą░čÅ čüą▓čÅčéčŗčģ ŌĆō ą║ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝. ąæčŗą╗ąĖ
ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čāą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąŠčéą┤ą░čéčī čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüčī ą╗ąĖą▒ąŠ ą┐čĆąŠą┤ą░čéčī, ąĮąŠ ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĪčéčĆą░čüčéąĮčŗą╣ čüą░ą╝ ąĮąĄ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ čŹč鹊ą│ąŠ ąĖ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ą╗. ąÉ ą║ąĮąĖą│ąĖ čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ
čüą┐ą░čüą░čéčī! ą¤ąŠ ąŠą┤ąĮąŠą╣, ą┐ąŠ ą┤ą▓ąĄ, ąĮąŠ čüą┐ą░čüą░čéčī, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą╗ąĄą│ąĄąĮą┤čŗ ąŠ
ą┐ąŠą┤ą╝ąĄčéą║ą░čģ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą│ą░ą╝ąĄąĮčéą░ ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą╝ąĄčĆąĄ ą▒čŗą╗ąĖ čĆąĄą░ą╗čīąĮąŠčüčéčīčÄ.
ŌĆō ąĀą░ąĮąŠ ąĄčēąĄ ą▒čĆą░čéčī, čĆą░ąĮąŠ, ŌĆō čāą▓ąĄčēąĄą▓ą░ą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ą¤čāčüą║ą░ą╣ ą╗čÄą┤ąĖ ą║ ąĮą░ą╝ ą┐čĆąĖą▓čŗą║ąĮčāčé, ą┐ąŠą▓ąĄčĆčÅčé ąĮą░ą╝ŌĆ” ąÉ ą║ąĮąĖą│ąĖ čŹčéąĖ
ąĮąĖą║čāą┤ą░ ąŠčé ąĮą░čü ąĮąĄ čāą╣ą┤čāčé.
ą×ąĮ ą▓ąĄą╗ čüąŠ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåą░ą╝ąĖ ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊
ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ, čģąŠą┤ąĖą╗ čü ąĮąĖą╝ąĖ ąĮą░ ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ, ąĄąĘą┤ąĖą╗ ąĮą░ čĆčŗą▒ą░ą╗ą║čā,
č鹊ą╗ą║ąŠą▓ą░ą╗ ąŠ ąČąĖčéčīąĄ ąĘą░ ą║čĆčāąČą║ąŠą╣ ą╝ąĄą┤ąŠą▓čāčģąĖ ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąŠ ą┐čĆąĖąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖąĖ ą║ąĮąĖą│ ŌĆō
ąĮąĖ čüą╗ąŠą▓ą░. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗: čā ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ą┤ą░ą╗čīąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖčåąĄą╗, ąŠąĮ čģąŠč湥čé
čüąĮą░čćą░ą╗ą░ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ą▒ą░ąĘčā, čćč鹊ą▒čŗ čüčĆąĄą┤ąĖ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåąĄą▓ čāą║ąŠčĆąĄąĮąĖą╗ąŠčüčī
ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 ąŠą┤ąĮąŠąĮąŠą│ąĖą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čģąŠą┤ąĖčé ą┐ąŠ čüą║ąĖčéą░ą╝ ąĖ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüčāąĄčéčüčÅ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą╣
ąČąĖąĘąĮčīčÄ, ą▒čŗč鹊ą╝, ą░ ąĮąĄ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ. ąÜčüčéą░čéąĖ, ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝ą░čÅ čüą▓čÅąĘčī ąĖ ąŠą▒ą╝ąĄąĮ
ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖąĄą╣ čā ą║ąĄčƹȹ░ą║ąŠą▓ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ čāą┤ąĖą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒čŗčüčéčĆąŠ ąĖ ą▒ąĄąĘčāą║ąŠčĆąĖąĘąĮąĄąĮąĮąŠ.
ą¤ąŠč鹊ą╝ ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ, ą▓ąĮčāčłą░ą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╣čéąĖ ąĖ ąĮą░ ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĖ
ąĮą░čćą░čéčī ąĖčģ čüą▒ąŠčĆ. ąØąŠ čŹč鹊 čģąŠčĆąŠčłąŠ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čéčŗ ąĮą░ ą┐ąĄąĮčüąĖąĖ ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéą░ąĄčłčī ą▓ čüą▓ąŠąĄ
čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄ, ąÉ ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĘą░ č鹊ą▒ąŠą╣ čüč鹊ąĖčé ąŠčéą┤ąĄą╗ ąĖ ąĮąĖ ą║ąŠą┐ąĄą╣ą║ąĖ ą┤ąĄąĮąĄą│ ąĮą░
菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ, ą║ąŠą│ą┤ą░, čü ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╝ čéčĆčāą┤ąŠą╝ ą▓čŗą▒ąĖą▓ ąŠčéą┐čāčüą║ ąĘą░ čüą▓ąŠą╣ čüč湥čé ą▓
ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĖąĄ ą║ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą╝čā, čāąĄąĘąČą░ąĄčłčī ąĘą░ čüąŠą║čĆąŠą▓ąĖčēą░ą╝ąĖ, ąĮąŠ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēą░ąĄčłčīčüčÅ
ą┐čāčüčéčŗą╝, ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ čü č鹥ą▒čÅ čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░čÄčé ąĘą░
ąóąŠ, čćč鹊 ąĮąĄ čāčüą┐ąĄą╗ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ąĖčéčī ąŠčéą┤ąĄą╗ ą║
čāč湥ą▒ąĮąŠą╝čā ą┐čĆąŠčåąĄčüčüčā, ŌĆō ą║ą░ą║ ąČąĄ čéčāčé?
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čĆąĄčłąĖą╗ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī
čüą░ą╝ąŠčüč鹊čÅč鹥ą╗čīąĮąŠ. ąÆ ąŠą┤ąĮąŠą╝ ąĖąĘ čüą║ąĖč鹊ą▓ ąŠąĮ ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ ąĮą░ ąĮąĄą┤ąĄą╗čÄ, čüąŠčüą╗ą░ą▓čłąĖčüčī
ąĮą░ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮčī, ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ čüąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ. ą¦ą░čüčéčī ąĄą╝čā čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ąĘčÅčéčī,
ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāčÅ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čüčéą▓ąŠ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ čüąŠ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåą░ą╝ąĖ, čéą░ą║ čüą║ą░ąĘą░čéčī,
ą╝ąĖčĆąĮčŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝. ąĢą│ąŠ ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ ą║ą░ą║ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ ąŠą┤ąĮąŠąĮąŠą│ąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░,
ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüčćąĖčéą░ą╗čüčÅ čüą▓ąŠąĖą╝ ą▓ čüą║ąĖčéą░čģ. ą×čéą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą║ąĮąĖą│ąĖ čü ąĮąĄąŠčģąŠč鹊ą╣, č湥čĆąĄąĘ
čüąĖą╗čā, ąĮąŠ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąŠčéą┤ą░ą▓ą░ą╗ąĖ. ąØąŠ ą▒ąŠą╗čīčłčāčÄ čćą░čüčéčī ą║ąĮąĖą│ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ą▒čĆą░čéčī čü
ą▒ąŠąĄą╝. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąĮą░čłąĄą╗ čüčĆąĄą┤ąĖ ą║ąĄčƹȹ░ą║ąŠą▓ čüą│ąŠą▓ąŠčĆčćąĖą▓ąŠą│ąŠ ą╝čāąČąĖą║ą░, č湥čĆąĄąĘ ąĮąĄą│ąŠ
ą┐čāčüčéąĖą╗ čüą╗čāčģ, čćč鹊 ąĄčüą╗ąĖ čüą║ąĖčéąĮąĖą║ąĖ ąĮąĄ čüą┤ą░ą┤čāčé čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ čüą░ą╝ąĖ, č鹊 ąĖčģ ą▒čāą┤čāčé
ąĖąĘčŗą╝ą░čéčī čü ą╝ąĖą╗ąĖčåąĖąĄą╣, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā ą║ąĮąĖą│ąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤čÅčé ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā.
ąØąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåčŗ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ą┐čĆčÅčéą░čéčī čüą▓ąŠąĖ čüąŠą║čĆąŠą▓ąĖčēą░, ą║ą░ą║ ą▒čŗą╗ąŠ
čŹč鹊 ą▓ąŠ ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░, ąĮąŠ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖ čéą░ą║ąĖąĄ, čćč鹊 ą┐čĆąĖąĮąĄčüą╗ąĖ ąĖ čüą┤ą░ą╗ąĖ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā
ą▓čüąĄ ą┤ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ ą┐čüą░ą╗čéčŗčĆąĖ.
ąÆąĄčĆąĮčāą▓čłąĖčüčī ąĖąĘ ą┤ą░ą╗čīąĮąĖčģ ą║ąĄčƹȹ░čåą║ąĖčģ čüąĄą╗,
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ą┐ąŠąĮčÅčéčī ąĮąĄ ą╝ąŠą│. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čāąĄčģą░ą╗, ą┤ą░ąČąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄą┤ąĖą▓
ąĄą│ąŠ, ą░ ą║ąĄčƹȹ░ą║ąĖ ą▓ą┤čĆčāą│ ąĘą░ą╝ą║ąĮčāą╗ąĖčüčī, ąĮąĄ ąČąĄą╗ą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░čéčī, čüą╗čāčłą░čéčī ąĮąĄ
čģąŠč鹥ą╗ąĖ.
ŌĆō ą×ą▒ą╝ą░ąĮčāą╗ čéčŗ ąĮą░čü, ą┐ą░čĆčÅ, ŌĆō čéčÅąĮčāą╗ąĖ. ŌĆō
ą×ą▒ą╝ą░ąĮčāą╗, čéą░ą║ ąŠą▒ą╝ą░ąĮčāą╗ŌĆ”
ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą╣ čéčĆąĄčéčīąĄą╣ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ ąĮą░
ąöą░ą╗čīąĮąĖą╣ ąÆąŠčüč鹊ą║ čüąŠčÄąĘ čĆą░čüą┐ą░ą╗čüčÅ.
ąś č鹥ą┐ąĄčĆčī, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠčéą┤ąĄą╗, čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čé ąĖ
ąŠą▒ą╗ą░čüčéąĮąŠą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ąĮą░čćą░ą╗ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄčĆčéčŗą▓ą░čéčī ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čā ą┐ąŠąĖčüą║ą░ ąĖ čüą▒ąŠčĆą░
čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮąŠą│ąŠ ąĮą░čüą╗ąĄą┤ąĖčÅ, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░. ąÆąĄčĆąĮąĄąĄ, ąŠ ąĮąĄą╝ ąŠąĮ
ąĮąĖą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖ ąĮąĄ ąĘą░ą▒čŗą▓ą░ą╗, ą░ ąĮą░ ą┐ą░ą╝čÅčéčī ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąĖąĄ ąĖ čćąĖčüčéčŗąĄ ąĖą┤ąĄąĖ,
ąĘą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąĖ čüą░ą╝ ą┤čĆą░ą╗čüčÅ čéčĆąĖ ą│ąŠą┤ą░. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗
čüąŠąĘą┤ą░čéčī ąÆčüąĄčüąŠčĹʹĮčŗą╣ čåąĄąĮčéčĆ ąĖą╗ąĖ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠ čüą┐ą░čüąĄąĮąĖčÄ ą╝ą░ą╗čŗčģ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖčģ
ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ŌĆō ąĮąĖ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĖ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ. ą¤ąŠčüą╗ąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ąŠąĮ čģąŠč鹥ą╗, čćč鹊ą▒čŗ
ą┐čĆą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗ąŠčüčī ą║ ąĮą░čĆąŠą┤čā čü ą┐čĆąĖąĘčŗą▓ąŠą╝ ąŠ čüą┤ą░č湥 ą▓čüąĄčģ čĆąĄą┤ą║ąĖčģ ąĖ
čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗčģ ą║ąĮąĖą│, čģčāą┤ąŠąČąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą┐ąŠą╗ąŠč鹥ąĮ ąĖ ąĖą║ąŠąĮ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā. ą×ąĮ
ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗čÅčéčī čāč湥ąĮčŗčģ ąĖ ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗ąĄą╣ čüčéą░čĆąĖąĮčŗ ą▓ čüą░ą╝čŗąĄ ą│ą╗čāčģąĖąĄ
čāą│ąŠą╗ą║ąĖ čüčéčĆą░ąĮčŗ, ą▓ ą┤ąĄą╣čüčéą▓čāčÄčēąĖąĄ ą╝ąŠąĮą░čüčéčŗčĆąĖ, čåąĄčĆą║ą▓ąĖ ąĖ čĆąĄą╗ąĖą│ąĖąŠąĘąĮčŗąĄ ąŠą▒čēąĖąĮčŗ
ą┤ą╗čÅ ąŠą▒čüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą║ąĮąĖąČąĮčŗčģ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖą╣ ąĖ ą┐čĆąŠą┐ą░ą│ą░ąĮą┤ąĖčüčéčüą║ąŠą╣ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ.
ą¤čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ ąĮą░ čāčĆąŠą▓ąĮąĄ ą┐ąŠčüąŠą╗čīčüčéą▓ ąĮą░čćą░čéčī ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠą▓ąŠčĆčŗ čüąŠ čüčéčĆą░ąĮą░ą╝ąĖ, ą║čāą┤ą░ ą▓
čĆą░ąĘąĮčŗąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮą░ ą▒čŗą╗ąĖ ą▓čŗą▓ąĄąĘąĄąĮčŗ čĆčāčüčüą║ąĖąĄ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ, ąŠ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čēąĄąĮąĖąĖ ąĖčģ ąĮą░
čĆąŠą┤ąĖąĮčā, ą▓ ąĀąŠčüčüąĖčÄ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ą▓ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅčģ ą▒čŗą╗ąŠ
č鹊, čćč鹊 čüą╝čāčēą░ą╗ąŠ ą▓čüąĄčģ: ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╝, čüčćąĖčéą░ą╗ ąŠąĮ, ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ čüčéą░čéčī ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄ
ą▓ čłą║ąŠą╗ą░čģ ąĖ ą▓čāąĘą░čģ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░ ąĖ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ (ą▓ čüąŠčĹʹĮčŗčģ ąČąĄ
čĆąĄčüą┐čāą▒ą╗ąĖą║ą░čģ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠ ąĖąĘčāčćą░čéčī ąĖčüč鹊čĆąĖčÄ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čÅąĘčŗą║ą░),
čüčéčĆąŠąĖčéčī ąĮą░čĆąŠą┤ąĮčŗąĄ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ čü čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗą╝ č乊ąĮą┤ąŠą╝. ┬½ąŁč鹊 ąĮą░čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣
ą┐ąŠąĘąŠčĆ, ŌĆō čü ąŠą▒čŗčćąĮąŠą╣ ą┐čĆčÅą╝ąŠč鹊ą╣ ą┐ąĖčüą░ą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĪčéčĆą░čüčéąĮčŗą╣. ŌĆō ąØą░čłąĖ čāč湥ąĮčŗąĄ
ąĘąĮą░čÄčé ą╗ą░čéčŗąĮčī ąĖ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą│čĆąĄč湥čüą║ąĖą╣, čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮčŗąĄ čÅąĘčŗą║ąĖ ąĖ
čŹčüą┐ąĄčĆą░ąĮč鹊, ąĮą░čłąĖ čłą║ąŠą╗čīąĮąĖą║ąĖ ąĘčāą▒čĆčÅčé čćčāąČčāčÄ čĆąĄčćčī, ąĮąŠ ąĮąĖą║č鹊, ą║čĆąŠą╝ąĄ čāąĘą║ąĖčģ
čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓, ąĖ čüčéčĆąŠčćą║ąĖ ąĮąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąŠčćąĖčéą░čéčī ąĮą░ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄčĆčāčüčüą║ąŠą╝.
ąÜąĖčĆąĖą╗ą╗ąĖčåą░ ą┤ą╗čÅ čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ čüčéą░ą╗ą░ č湥ą╝‑č鹊 ą▓čĆąŠą┤ąĄ ą║ąĖčéą░ą╣čüą║ąĖčģ
ąĖąĄčĆąŠą│ą╗ąĖč乊ą▓: čģąŠčéčī ą║ą▓ąĄčĆčģčā ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ ą▒čāą║ą▓čā ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄčĆąĮąĖ ŌĆō ą▓čüąĄ ąŠą┤ąĮąŠ ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ.
ą¦č鹊 ąĘą░ ąĮąĄą▓ąĄąČąĄčüčéą▓ąŠ ą┤ą╗čÅ ąĮą░čłąĄą│ąŠ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ! ążąĖąĘąĖą║čā čü ą╝ą░č鹥ą╝ą░čéąĖą║ąŠą╣ ąĖąĘčāčćą░ąĄą╝,
ąŠčé ąĢą▓ą║ą╗ąĖą┤ą░ ąĖ ąöąĄą╝ąŠą║čĆąĖčéą░, ą░ čÅąĘčŗą║ čüą▓ąŠą╣, ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╝, ą┤čāą╝ą░ąĄą╝, ŌĆō
ą╗ąĖčłčī čüą░ą╝čŗą╣ ąĄą│ąŠ ą║ąŠąĮčćąĖą║. ąÜą░ą║ąŠąĄ čüą╗ąŠą▓ąŠ ą┐ąŠąĘąĮą░ą╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ąŠčé čĆąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ŌĆō čü
č鹥ą╝ ąĖ čāą╝ąĄčĆ. ą¦č鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąŠ ąĮąĄą│ąŠ ŌĆō čéą░ą║ ą▓ąŠ ą╝čĆą░ą║ąĄ ąĖ ąŠčüčéą░ąĄčéčüčÅ. ąś čéą░ąĄčé, ąĖ
čüčŗą┐ą╗ąĄčéčüčÅ čüą╗ąŠą▓ą░čĆąĮąŠąĄ ąĘąŠą╗ąŠč鹊 ąĖąĘ čģčāą┤ąŠą│ąŠ ą╝ąĄčłą║ą░ŌĆ”
ąĢčüą╗ąĖ ą▓čŗ ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠčēčāčéąĖą╗ąĖ ą▓ čüą▓ąŠąĄą╝ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖąĖ
ąĮąĄčÅčüąĮčāčÄ, ąĮąŠ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čÄčēčāčÄ ą║ą░ą║čāčÄ‑č鹊 ąĖčüčéąĖąĮčā ą╝čŗčüą╗čī, ąĄčüą╗ąĖ čā ą▓ą░čü ┬½ąĮą░ čāą╝ąĄ
ą║čĆčāąČąĖčéčüčÅ┬╗ ą│ąĄąĮąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ ąĖą╗ąĖ čüą░ą╝ą░čÅ ą┐čĆąŠčüčéą░čÅ ąĖčüčéąĖąĮą░, ą░ ąĮą░ čüą▓ąĄčé čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄ
čĆąŠąČą┤ą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ ąĄčüą╗ąĖ, ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå, ą▓čŗ ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĮąĄ ą▓ čüąĖą╗ą░čģ čüą║ą░ąĘą░čéčī čüą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ č鹊,
čćč鹊 ą▓ ą▓ą░čłąĄą╣ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ, ŌĆō ą▓ą░ą╝ ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī ąĮčāąČąĮąŠ ąĖąĘčāčćąĖčéčī čüą▓ąŠą╣ čÅąĘčŗą║,
ą░ ąĮąĄ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹥. ąØąĄ ąĘčĆčÅ ą▓čüąĄ
čāč湥ąĮčŗąĄ‑菹ĮčåąĖą║ą╗ąŠą┐ąĄą┤ąĖčüčéčŗ ą┤ąŠčüą║ąŠąĮą░ą╗čīąĮąŠ ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą╗ąĖ čĆąŠą┤ąĮčŗą╝ čÅąĘčŗą║ąŠą╝. ąØąĄ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠ
ąøąŠą╝ąŠąĮąŠčüąŠą▓ ą┐ąĖčüą░ą╗ čüčéąĖčģąĖ ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ą┐ąŠ čĆčāčüčüą║ąŠą╝čā čÅąĘčŗą║čā. ąÜąŠą│ą┤ą░ čā č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░
ą▒ąĄą┤ąĄąĮ čüą╗ąŠą▓ą░čĆąĮčŗą╣ ąĘą░ą┐ą░čü, ąĄą╝čā ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ąĮąĄč湥ą╝, ą░ ąĖ ą┤čāą╝ą░čéčī
č鹊ąČąĄ. ąĢą╝čā ąĮą░ą┤ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĖčéčī ą╝čŗčüą╗čī ą▓ č乊čĆą╝čā čüą╗ąŠą▓ą░, ą░ č乊čĆą╝čŗ ąĮąĄčé! ąÆ
č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą▓čāąĘą░čģ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ čÅąĘčŗą║ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄ ąĖąĘčāčćą░čÄčé. ąĪčéčŗą┤ ąĖ čüčĆą░ą╝
čüą╗čāčłą░čéčī čāąĮąĖčäąĖčåąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗą╣ čÅąĘčŗą║ ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąŠą▓. ąÉ ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╣č鹥, ą║ą░ą║ ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé
ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čÄčēąĖąĄ čü čéčĆąĖą▒čāąĮčŗ? ąĀčāčüčüą║ąĖą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ čĆą░ąĘčāčćąĖą╗čüčÅ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą┐ąŠ‑čĆčāčüčüą║ąĖ,
ąĘą░čłčéą░ą╝ą┐ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī čĆąĄčćąĖ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ąĮą░ ąĀčāčüąĖ čüčćąĖčéą░ą╗ą░čüčī ąĮąĄčüčāčüą▓ąĄčéąĮąŠą╣ ą│ą╗čāą┐ąŠčüčéčīčÄ
ąŠčĆą░č鹊čĆą░, ą░ ąĮčŗąĮąĄ ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ąĮąŠčüąĖčéčüčÅ ą║ą░ą║ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠčüčéčī. ąōą┤ąĄ ąČąĄ ąŠąĮ ąĮčŗąĮč湥,
ą│ąĖą▒ą║ąĖą╣, ą║čĆą░čüąŠčćąĮčŗą╣, č鹊čćąĮčŗą╣ ŌĆō ą▒ąŠą│ą░č鹥ą╣čłąĖą╣ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ čÅąĘčŗą║?.. ąÉ ą║ąŠą╗ąĖ
ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé čłčéą░ą╝ą┐ą░ą╝ąĖ, č鹊 ąĖ ą┤čāą╝ą░čÄčé č鹊čćąĮąŠ čéą░ą║ ąČąĄ, ąĖ ąĮąĄčé čā č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ą▓ąŠą╗ąĖ ą▓
ą╝čŗčłą╗ąĄąĮąĖąĖŌĆ”┬╗
ąÆčüąĄ čŹč鹊 ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ ąĮą░čćą░čéčī
ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠ ą▓čüąĄą╣ čüčéčĆą░ąĮąĄ. ąś ąĘąĮą░čÅ, ą║ą░ą║ąĖąĄ čüąŠą║čĆąŠą▓ąĖčēą░ ą╗ąĄąČą░čé čā ąĮąĄą│ąŠ ą▓
č鹥ą╝ąĮąŠą╣ ą║ąŠą╝ąĮą░č鹥 ąĘą░ čüąĄą╝čīčÄ ąĘą░ą╝ą║ą░ą╝ąĖ, ąŠąĮ čüčéą░ą▓ąĖą╗ čāčüą╗ąŠą▓ąĖąĄ: ą║ą░ą║ č鹊ą╗čīą║ąŠ
ą┐čĆąŠąĘą▓čāčćąĖčé ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ą║ ąĮą░čĆąŠą┤čā ąŠ čüą┤ą░č湥 ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓
ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆčŗ ąĖ ą┐ąŠčÅą▓ąĖčéčüčÅ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ąŠ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖąĖ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ čü
čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĮčŗą╝ č乊ąĮą┤ąŠą╝ ą┤ą╗čÅ čłąĖčĆąŠą║ąŠą│ąŠ ą║čĆčāą│ą░ čćąĖčéą░č鹥ą╗ąĄą╣, ąŠąĮ ą┐ąĄčĆą▓čŗą╣ čüą┤ą░čüčé čüą▓ąŠąĄ
čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ. ąÆčüąĄ, ą┤ąŠ ąĄą┤ąĖąĮąŠą│ąŠ čüą┐ąĖčüą║ą░, ą┤ąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄą╣ ą│čĆą░ą╝ąŠčéčŗ. ąĪą░ą╝ ąČąĄ
ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčé čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ąĮą░ ą▓čŗą┤ą░čćčā ą║ąĮąĖą│ŌĆ”
ąØąŠ čüčéčĆą░ąĮą░ ą▓ č鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▒ąŠčĆąŠą╗ą░čüčī čü
čĆą░ąĘčĆčāčģąŠą╣. ąĢčēąĄ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčā ą╗ąĄąČą░ą╗ąĖ ą▓ čĆčāąĖąĮą░čģ, ą░ ąĘą░ą▓ąŠą┤čüą║ąĖąĄ
čüčéą░ąĮą║ąĖ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ ą┐ąŠą┤ ąŠčéą║čĆčŗčéčŗą╝ ąĮąĄą▒ąŠą╝. ąĢčēąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ą░ ą║ą░čĆč鹊čćąĮą░čÅ
čüąĖčüč鹥ą╝ą░ ąĮą░ čģą╗ąĄą▒, ą╗čÄą┤ąĖ čģąŠą┤ąĖą╗ąĖ čĆą░ąĘčāčéčŗą╝ąĖ, ą▓ ą╗ą░ą┐čéčÅčģ, ą▓ čćčāą▓čÅą║ą░čģ ąĖąĘ
čüčŗčĆąŠą╝čÅčéąĖąĮčŗ. ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąŠ ąĄčēąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ‑č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ą░ą╗ąŠ ą║
ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ čģąŠąĘčÅą╣čüčéą▓ą░, ą░ ą▓ ą╝ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĖčéąĖą║ąĄ čāąČąĄ
ą▓ąĄčÅą╗ąŠ ┬½čģąŠą╗ąŠą┤ąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąŠą╣┬╗ ąĖ ąŠą┐čāčüą║ą░ą╗čüčÅ ┬½ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗą╣ ąĘą░ąĮą░ą▓ąĄčü┬╗.
ą×čüčéą░ą▓čłąĖčüčī ąŠą┤ąĖąĮ, ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čŗą▒čĆąŠčüąĖą╗
ąĘą░ą▒čŗčéčāčÄ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čŗą╝ ą┐ą░ą╗ą║čā ąĖ ąĘą░ą┐ąĄčĆ ą┤ą▓ąĄčĆčī. ąźą▓ą░čéąĖčé ąĮą░ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą│ąŠčüč鹥ą╣. ą×čé
ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ ąÜčĆčāą│ąŠą╝ ąĖ čĆčāą║ąĖ ą┤ąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ ą┐ąŠą┤čĆą░ą│ąĖą▓ą░čÄčé, ąĮąĄčĆą▓čŗ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĖ
ą║ č湥čĆčéčā čüčéą░ą╗ąĖ. ąś č湥ą│ąŠ, čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ, ą▓čüą║ąĖą┐ąĄą╗? ąÜčāą┤ą░ ą┐ąŠąĮąĄčüą╗ąŠ?.. ąØąĄčé,
čćč鹊ą▒čŗ čü ą┤ąŠčüč鹊ąĖąĮčüčéą▓ąŠą╝ ąĖ č湥čüčéčīčÄ ą▓čŗą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖčéčī ąĘą░ ą┐ąŠčĆąŠą│, čüą║ą░ąĘą░čéčī ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░
ą▓čüąĄ ąĮą░ą║ąŠą┐ąĖą▓čłąĄąĄčüčÅ ą▓ ą┤čāčłąĄ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ čŹč鹊ą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĖ ą▓čŗčüčéą░ą▓ąĖčéčī. ąóąĄą┐ąĄčĆčī
ą▓ąŠčé čüąĖą┤ąĖ, ą┤čāą╝ą░ą╣, ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░ą╣ ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ č鹊, čćč鹊 ąĮą░ą┐ąŠčĆąŠą╗ ą▓ ą│ąŠčĆčÅčćą║ąĄ.
ąØą░čéčāčĆą░ ąĄčēąĄ ą┤čāčĆą░čåą║ą░čÅ: ą╗čÄą▒čāčÄ ąĮąĄčāą┤ą░čćčā, ąĮąĄą╗ąŠą▓ą║ąŠčüčéčī čüą▓ąŠčÄ čüąŠčĆąŠą║ čĆą░ąĘ ą▓ čāą╝ąĄ
ą┐čĆąŠą║čĆčāčéąĖčłčī, čüąŠčĆąŠą║ čĆą░ąĘ ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄąĄčłčī ąĖ ą┐ąŠą║ą░ąĄčłčīčüčÅŌĆ”
ąØąŠ čüąŠą▒čĆą░čéčīčüčÅ čü ą╝čŗčüą╗čÅą╝ąĖ ąĖ ąŠą▒ą┤čāą╝ą░čéčī ą▓čüąĄ
čāčüą╗čŗčłą░ąĮąĮąŠąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé ąĮą░ąĘą░ą┤ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā ąĮąĄ ą┤ą░ą╗ąĖ. ąÆ čŹč鹊čé ą┤ąĄąĮčī
ą╗čÄą┤ąĖ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ čüą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖčüčī čüčéčāčćą░čéčī ą▓ ąĄą│ąŠ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ.
ąĪą┐čāčüčéčÅ č湥čéą▓ąĄčĆčéčī čćą░čüą░ čÅą▓ąĖą╗čüčÅ čüąŠčüąĄą┤
ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠąĄ, č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą╝čÅą│ą║ąĖą╣, čéąĖčģąŠą│ąŠą╗ąŠčüčŗą╣, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą▓ąĄčćąĮąŠ ą║ąĄą╝‑č鹊
ąŠą▒ąĖąČąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖą╗ąĖ ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░čéčŗą╣. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┐ąŠą┤ąŠąĘčĆąĄą▓ą░ą╗, čćč鹊 ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠą▓
ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮčÅą║ą░ ą▒ą░ą┐čéąĖčüčé, ŌĆō ą░ čéą░ą║ąĖąĄ ą▓ ąĮąĖąČąĮąĄą╣, ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░
ą▓ąŠą┤ąĖą╗ąĖčüčī: ą▒ąŠą╗čīąĮąŠ čāąČ ą▓čüąĄą┐čĆąŠčēąĄąĮč湥čüą║ąĖą╝ ą┤čāčģąŠą╝ ąĮąĄčüą╗ąŠ ąŠčé ąĄą│ąŠ ą┐ąŠą║ąŠčĆąĮąŠčüčéąĖ.
ą¦č鹊 ąĮąĖ čüą║ą░ąČąĄčłčī ŌĆō ą▓čüąĄ ą║ąĖą▓ą░ąĄčé, čüąŠą│ą╗ą░čłą░ąĄčéčüčÅ, ą░ čüą░ą╝ ŌĆō ą┐ąŠ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ŌĆō
čüąĄą▒ąĄ ąĮą░ čāą╝ąĄ.
ŌĆō ą¦č鹊 ąČąĄ ą▓čŗ, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, čüąŠą▒ą░čćą║čā‑č鹊
ą╝ąŠčÄ, ą¤čāčłą║ą░ ą╝ąŠąĄą│ąŠ čüčéčĆąĄą╗ąĖą╗ąĖ? ŌĆō čéąĖčģąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąŠąĮ. ŌĆō ąæąĄąĘą▓čĆąĄą┤ąĮčŗą╣ ą║ąŠą▒ąĄą╗ąĄą║
ą▒čŗą╗, ąĮą░ čåąĄą┐ąĖ čüąĖą┤ąĄą╗.
ŌĆō ą» ą▓ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ čüčéčĆąĄą╗čÅą╗, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ą¢ąĖčéčīčÅ ąŠčé ąĮąĖčģ ąĮąĄ čüčéą░ą╗ąŠ.
ŌĆō ąóą░ą║ ą▓ąĄą┤čī ą▓ąĄčüąĮą░, ą│ąŠąĮ čā ąĮąĖčģ, ŌĆō čüą╗ą░ą▒ąŠ
čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠą▓. ŌĆō ą¤čĆąĖčĆąŠą┤ą░ čéčĆąĄą▒čāąĄčéŌĆ” ąæčĆąŠą┤čÅčćą░čÅ ąĮąĄ ą▒čĆąŠą┤čÅčćą░čÅ ŌĆō ą▓čüąĄ
ąŠą┤ąĮąŠ ąČąĖą▓čŗąĄ ą┤čāčłąĖ, ąČąĖčéčī čģąŠčéčÅčé. ą»‑č鹊 ą║ ą▓ą░ą╝ ąĮąĄ ą▓ ą┐čĆąĄč鹥ąĮąĘąĖąĖ: ąĮčā čĆą░ąĘ
čüąŠčĆą▓ą░ą╗čüčÅ čü čåąĄą┐ąĖŌĆ” ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠą╗čāčćą░ąĄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠ čāąČ čćčāą┤ąĮąŠ, ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ ą╝ąĮąĄ.
ąÆčŗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą│čĆą░ą╝ąŠčéąĮčŗą╣, ąĘą░čüą╗čāąČąĄąĮąĮčŗą╣, čüčéą░čĆčŗąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ čćąĖčéą░ąĄč鹥, ą░ ąČąĖą▓čāčÄ
čéą▓ą░čĆčī ąĮąĄ ą┐ąŠąČą░ą╗ąĄą╗ąĖŌĆ” ąæčĆąŠą┤čÅčćąĖąĄ‑č鹊 ąŠąĮąĖ ąŠčé č湥ą│ąŠ? ąöą░ ąŠčé ąĮą░čü, ą╗čÄą┤ąĄą╣.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čüąŠčēčāčĆąĖą╗čüčÅ, ą┐ąŠą┤ąČą░ą╗ ą│čāą▒čŗ.
ą¦č鹊‑č鹊 čāąČ ąŠč湥ąĮčī ąĘąĮą░ą║ąŠą╝ąŠąĄ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī ąĄą╝čā ą▓ č鹊ąĮąĄ ąĖ ą│ąŠą╗ąŠčüąĄ čüąŠčüąĄą┤ą░.
ąæčāą┤č鹊 čüą╗čŗčłą░ą╗ ąŠąĮ čāąČąĄ ąĖ čéąĖčģčāčÄ čĆąĄčćčī čŹčéčā, ąĖ ą│ą╗ą░ąĘą░ čŹčéąĖ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ŌĆ” ąÉ ą╝ąŠąČąĄčé
ą▒čŗčéčī, ąŠąĮ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ąČąĖą▓ąĄčé ąĖ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠą▓ąĖą┤ą░ą╗ ąĘą░ čüą▓ąŠčÄ ąČąĖąĘąĮčī, ą┐ąŠč鹊ą╝čā ąĖ
ą╗čÄą┤ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮąĖą╝ čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÄčéčüčÅ, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą┐ąŠ ą║čĆčāą│čā čģąŠą┤čÅčé. ąÆąĄą┤čī ą┤ą░ą▓ąĮąŠ
čāąČąĄ čüčéą░ą╗ ąĘą░ą╝ąĄčćą░čéčī ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣, čćč鹊 ą║ą░ąČą┤čŗą╣ ą┤ąĄąĮčī, ą║ą░ąČą┤ąŠąĄ čćąĖčüą╗ąŠ ą╝ąĄčüčÅčåą░
ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĄą╝čā ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą┤ą░č鹊ą╣, ą░ ą▓ąŠčé ą║ą░ą║ąŠą╣ ŌĆō čāą▒ąĄą╣čüčÅ, ąĮąĄ
ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖčłčī.
ŌĆō ą£ąĮąŠą│ąŠ ą╗ąĖ čüąŠą▒ą░ą║ąĄ ąĮą░ą┤ąŠ? ąæčĆąŠčüąĖą╗ ąĄąĄ,
ą┐čĆąŠą│ąĮą░ą╗ čüąŠ ą┤ą▓ąŠčĆą░ ŌĆō ąŠąĮą░ ąĖ ą▒čĆąŠą┤čÅčćą░čÅ, ŌĆō ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ čüąŠčüąĄą┤. ŌĆō ąŁč鹊 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║
ąĄčēąĄ čåąĄą┐ą╗čÅčéčīčüčÅ ą▒čāą┤ąĄčé, ąĄčēąĄ ąĮą░ą┤ąĄčÅčéčīčüčÅŌĆ” ąŚą░ čćč鹊 ąČąĄ ą▒ąĖčéčī‑č鹊 ąĄąĄ? ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ą░
ą▒ąĖčéčī ąĮą░ą┤ąŠ.
ąÆ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░ ą▓čüčéą░ą╗ čāą│čĆčÄą╝čŗą╣,
ą▒ąĄąĘą╗čÄą┤ąĮčŗą╣ ąŠčüčéčĆąŠą▓ ąĮą░ ą¤ąĄč湊čĆąĄ, ą┐čāčüč鹊ą╣ čüą║čĆąĖą┐čāčćąĖą╣ ąĪąĄą▓ąĄčĆčīčÅąĮąŠą▓ ą╝ąŠąĮą░čüčéčŗčĆčī ąĖ
čüčéą░ąĖ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ čüąŠą▒ą░ą║‑ą┐ąŠą▒ąĖčĆčāčłąĄą║. ąś ą│ąŠą╗ąŠčü ą¤ąĄčéčĆą░ ąøą░ą▓čĆąĄąĮčéčīąĄą▓ą░, ą▒čāą┤č鹊 ąĖąĘ
čéčīą╝čŗ: ┬½ąŚą╗ąŠ ŌĆō ąŠąĮąŠ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąŠą╝, ą▓ąŠ ą▓čüąĄčģ ą┤ąĄą╗ą░čģ ąĖ
ą┐ąŠą╝čŗčüą╗ą░čģŌĆ” ąĪąŠą▒ą░čćą║ąĖ, ąŠąĮąĖ čćč鹊, ąŠąĮąĖ ą╝ąĄčĆčéą▓ąŠą│ąŠ ą│čĆčŗąĘą╗ąĖ, ą░ ą╗čÄą┤ąĖ‑č鹊 ąČąĖą▓čīąĄą╝
ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│ą░ŌĆ”┬╗
ŌĆō ą£ąĮąŠą│ąŠ ą▓čŗ ąĘąĮą░ąĄč鹥 ąŠ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ
čüąŠą▒ą░ą║ą░čģ, ŌĆō ą┐čĆąŠą▓ąŠčĆčćą░ą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąØąĄčé ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ą▒ąĄčüčüą╝čŗčüą╗ąĄąĮąĮąĄą╣ čéą▓ą░čĆąĖ,
č湥ą╝ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖą╣ ą┐ąĄčü. ą» ąĮąĄ ą▓čüčéčĆąĄčćą░ą╗ŌĆ” ąś ą┐ąŠč鹊ą╝čüčéą▓ąŠ ą┤ą░čÄčé čéą░ą║ąŠąĄ ąČąĄ. ąĢčüą╗ąĖ
ą▓ą░čłą░ čüąŠą▒ą░ą║ą░ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčĆąĮčāą╗ą░čüčī ą┐ąŠą┤ ą┐čāą╗čÄ ŌĆō čÅ ą▓ą░ą╝ ąĘą░ą┐ą╗ą░čćčā. ąĪą║ąŠą╗čīą║ąŠ ąĮčāąČąĮąŠ?
ŌĆō ą» ąĮąĄ ąĘą░ ą┤ąĄąĮčīą│ą░ą╝ąĖ ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ŌĆō ąŠą┐čÅčéčī
čüą║čāą┐ąŠ čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠą▓. ŌĆō ąĪą┐čĆąŠčüąĖčéčī čģąŠč鹥ą╗ŌĆ” ąśąĮč鹥čĆąĄčü čā ą╝ąĄąĮčÅ čéą░ą║ąŠą╣, ŌĆō
ąŠąĮ ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗čüčÅ, čüą╝čÅą╗ čłą░ą┐ą║čā. ŌĆō ąśąĮč鹥ą╗ą╗ąĖą│ąĄąĮčéąĮčŗą╣ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║, ą┐ąŠąČąĖą╗ąŠą╣, ą░ŌĆ” ąÆąŠčé ąĖ
ą▓ąĄčüčī čüą┐čĆąŠčü.
ąÆ čŹč鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ čā ą▓ąŠčĆąŠčé ą┤ąŠą╝ą░ ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗ą░čüčī
ą╝ą░čłąĖąĮą░ ŌĆō ┬½čüą║ąŠčĆą░čÅ ą┐ąŠą╝ąŠčēčī┬╗. ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą▓čüčéčĆąĄą┐ąĄąĮčāą╗čüčÅ: čćč鹊 čŹč鹊 ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ
čéą░ą║ čĆą░ąĮąŠ čü čĆą░ą▒ąŠčéčŗ? (ąĪčŗąĮą░ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą┤ą▓ąŠąĘąĖą╗ąĖ ąĮą░ ┬½čüą║ąŠčĆąŠą╣┬╗). ą£ąŠąČąĄčé,
čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī čćč鹊? ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ą╝ąĄčüč鹊 ąĪč鹥ą┐ą░ąĮą░, ą▒ąĄąĘ čüčéčāą║ą░, ą┐ąŠ‑čģąŠąĘčÅą╣čüą║ąĖ, ąĮą░
ą┐ąŠčĆąŠą│ąĄ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗ąĖčüčī ą┤ą▓ąŠąĄ ą▓ ą▒ąĄą╗čŗčģ čģą░ą╗ą░čéą░čģ, ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĖčģ ą┤ąĄčƹȹ░ą╗ ą▓ čĆčāą║ą░čģ
ą║ą░ą║čāčÄ‑č鹊 č鹥ą╝ąĮčāčÄ ąŠą┤ąĄąČąĖąĮčā čü ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆčāą║ą░ą▓ą░ą╝ąĖ.
ŌĆō ąōą┤ąĄ čā ą▓ą░čü ą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣? ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą┤ąŠą║č鹊čĆ
ąĖ ąĘą░ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ą▓ ą▒čāą╝ą░ąČą║čā.
ŌĆō ąŚą┤ąĄčüčī ąĮąĄčé ą▒ąŠą╗čīąĮčŗčģ, ŌĆō ą┐ąŠąČą░ą╗ ą┐ą╗ąĄčćą░ą╝ąĖ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ŌĆō ąÜč鹊 ┬½čüą║ąŠčĆčāčÄ┬╗ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗?
ŌĆō ą£čŗ ąĮąĄ ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ, ŌĆō ąŠčéč湥ą│ąŠ‑č鹊 čüčŖąĄąČąĖą╗čüčÅ
ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠą▓. ŌĆō ą£čŗ čüąĖą┤ąĖą╝ ą▓ąŠčé, ą▒ąĄčüąĄą┤čāąĄą╝ŌĆ”
ŌĆō ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąØ. ąĢ. ŌĆō čŹč鹊 ą║č鹊? ŌĆō
ąĮą░ą┐ąĖčĆą░ą╗ ą▓čĆą░čć ┬½čüą║ąŠčĆąŠą╣┬╗. ŌĆō ąōą┤ąĄ ąŠąĮ? ąÜ ąĮąĄą╝čā ą▓čŗąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖ ą▓čĆą░čćą░!
ŌĆō ąŁč鹊 ą▓ąŠčéŌĆ” ąŠąĮąĖ, ŌĆō ąĘą░ą╝čÅą╗čüčÅ ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠąĄ,
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÅ ąĮą░ ąØąĖą║ąĖčéčā ąĢą▓čüąĄąĖčćą░. ŌĆō ąś ą┤ąŠą╝ ąĖčģąĮąĖą╣ŌĆ”
ŌĆō ąØčā, čÅŌĆ” ąÆ č湥ą╝ ą┤ąĄą╗ąŠ? ą£ąĮąĄ ąĮąĄ ąĮčāąČąĄąĮ
ą▓čĆą░čć, ŌĆō ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čłą░ą│ąĮčāą╗ ą║ ą┐čĆąĖčłąĄą┤čłąĖą╝. ŌĆō ąŻ ą╝ąĄąĮčÅ ąĄčüčéčī čüą▓ąŠą╣, ą┤ąŠą╝ą░čłąĮąĖą╣,
čüčŗąĮ ą╝ąŠą╣.
ŌĆō ąØą░čü ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗ąĖ, ŌĆō čćčāčéčī čüą╝čāčéąĖą╗čüčÅ ą▓čĆą░čć
┬½čüą║ąŠčĆąŠą╣┬╗. ŌĆō ąĪąŠąŠą▒čēąĖą╗ąĖ ą┐ąŠ č鹥ą╗ąĄč乊ąĮčāŌĆ” ąĪą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, ą▓čŗ čéčāčé ą▒čāą╣čüčéą▓čāąĄč鹥ŌĆ”
ŌĆō ąØąĄčé‑ąĮąĄčé, ą╝čŗ ą▒ąĄčüąĄą┤čāąĄą╝! ŌĆō ą▓ą┤čĆčāą│
ąĘą░ą▒ąŠčĆą╝ąŠčéą░ą╗ ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠąĄ. ŌĆō ąĪąĖą┤ąĖą╝ ąĖ ą╝ąĖčĆąĮąŠ ą▒ąĄčüąĄą┤čāąĄą╝ŌĆ” ąś ąĮąĖą║ą░ą║ąŠą│ąŠ ą▒čāą╣čüčéą▓ą░
ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ!
ąÆčĆą░čć ąŠą║ąĖąĮčāą╗ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā, ąĘą░ą│ą╗čÅąĮčāą╗
ą▓ ą│ą╗čāą▒čī ą░ąĮčäąĖą╗ą░ą┤čŗ, ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗čüčÅ.
ŌĆō ąÉ čĆčāąČčīąĄ ą┐ąŠč湥ą╝čāŌĆ” čüč鹊ąĖčé? ąŚą░č湥ą╝?
ŌĆō ą» ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ čüąŠą▒ą░ą║ čüčéčĆąĄą╗čÅčÄ, ŌĆō ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ŌĆō ąŁč鹊 čģąŠčĆąŠčłąĄąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ! ŌĆō ąŠąČąĖą▓ąĖą╗čüčÅ ą▓čĆą░čć. ŌĆō
ąÜ ąĮą░ą╝ čüąĄą╣čćą░čü čüč鹊ą╗čīą║ąŠ ą╗čÄą┤ąĄą╣ čü čāą║čāčüą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░ąĄčé. ą¤ąŠ ą▓ą░čłąĄą╝čā čĆą░ą╣ąŠąĮčā
čüąŠą▒ą░čćčīčÅ čĆą░ąĘą▓ąĄą╗ąŠčüčī, ąĖ ą▒ąĄčłąĄąĮčŗąĄ ąĄčüčéčīŌĆ” ą×ą▒čĆą░čēą░ąĄą╝čüčÅ ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąĖąĄ čüą╗čāąČą▒čŗ,
ą┐čĆąŠčüąĖą╝, ą░ č鹊ą╗ą║čā ąĮąĄčé. ąØąĄą║ąŠą╝čā ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ąŠčéčüčéčĆąĄą╗ąĖą▓ą░čéčī. ąÉ ą┐ąŠč湥ą╝čā ą╗čÄą┤ąĖ‑č鹊
ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ čüčéčĆą░ą┤ą░čéčī? ą×čüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ ą┤ąĄčéąĖ? ąŁčéąĖ ą▓ąĄą┤čī čéą▓ą░čĆąĖ ąĖ ą┤ąĄč鹥ą╣ ą║čāčüą░čÄčéŌĆ” ąÉ ąĮą░čü
ą┤ąĄčĆą│ą░čÄčé: čüą░ąĮąĖčéą░čĆąĮą░čÅ čüą╗čāąČą▒ą░ŌĆ” ąÆčŗ ąĖąĘą▓ąĖąĮąĖč鹥 ąĮą░čü. ąÆąĖą┤ąĮąŠ, ą║č鹊‑č鹊 ąĘą╗čāčÄ
čłčāčéą║čā čüčŗą│čĆą░ą╗. ąØą░ą╝ ą┐ąŠčĆą░.
ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠąĄ čāčłąĄą╗ čüą╗ąĄą┤ąŠą╝ ąĘą░
ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ┬½čüą║ąŠčĆąŠą╣┬╗, ąĖ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĘą░ą┐ąĄčĆ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ. ┬½ą¤čāčüčéčī č鹥ą┐ąĄčĆčī
ą║č鹊 čāą│ąŠą┤ąĮąŠ čüčéčāčćąĖčé ŌĆō ąĮąĄ ąŠčéą║čĆąŠčÄ, ą┐ąŠą║ą░ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą┤ąĄčé┬╗, ŌĆō čĆąĄčłąĖą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ąśąĮąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮ čéą░ą║ ąĘą░ą┐ąĖčĆą░ą╗čüčÅ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą▒čŗčéčī ąŠą┤ąĮąŠą╝čā, čćč鹊ą▒čŗ
ą┐ąŠą┤čāą╝ą░čéčī ąĖ ą┐ąŠą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čéčī ą▓čüą╗ą░čüčéčī, ąĖą╗ąĖ ą║ąŠą│ą┤ą░ čüą░ą┤ąĖą╗čüčÅ ąĘą░ čĆą░ą▒ąŠčéčā ąĮą░ą┤
ąĮąŠą▓ąŠą╣, ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖąĘ čüą║ąĖč鹊ą▓ ąĖ ąĄčēąĄ ąĮąĄąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╣ ą║ąĮąĖą│ąŠą╣. ąÜč鹊‑č鹊
ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗, čüčéčāčćą░ą╗, čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗, ąĮąŠ čéą░ą║, ąĮąĄ ą┤ąŠčüčéčāčćą░ą▓čłąĖčüčī, ąĖ čāčģąŠą┤ąĖą╗, ą░
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć, ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠą┤ąŠą╣ą┤čÅ ą║ ąŠą║ąĮčā, čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗ ą┐ąŠčüąĄčéąĖč鹥ą╗čÄ ą▓čüą╗ąĄą┤.
ąĪą╝ąŠčéčĆąĄą╗ ąĖ ą┤čāą╝ą░ą╗ ŌĆō ą░ ą╝ąĄąĮčÅ ą┤ąŠą╝ą░ ąĮąĄčé! ŌĆō ąĖ ąĄą╝čā ą▓ čéą░ą║ąĖąĄ ą╝ąĖąĮčāčéčŗ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī,
čćč鹊 ąĄą│ąŠ ąĖ ą▓ą┐čĆčÅą╝čī ąĮąĄčé ą┤ąŠą╝ą░.
ą×ąĮ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ą▓ čüą▓ąŠą╣ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé, ą║ čüč鹊ą╗čā,
ą┐ąŠą▓ąĄčüąĖą╗ čĆčāąČčīąĄ ąĮą░ čüč鹥ąĮčā, čéą░ą║, čćč鹊ą▒čŗ ąĄą│ąŠ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ čüąĮčÅčéčī ąĮąĄ
ą▓čüčéą░ą▓ą░čÅ, ą▒ą╗ą░ą│ąŠ ą│ą▓ąŠąĘą┤ąĄą╣ ą▓ čüč鹥ąĮąĄ ą╝ąĮąŠą│ąŠ, ŌĆō ąĘą░č鹥ą╝, ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą▓ ąŠ ąĘą░ą▓čéčĆą░ą║ąĄ,
ą┐ąŠąČąĄą▓ą░ą╗ ą║ąŠą╗ą▒ą░čüčŗ, ąĘą░ą┐ąĖą▓ą░čÅ ąĄąĄ ąŠčüčéčŗą▓čłąĖą╝ čćą░ąĄą╝. ąØąĄ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠ ąĖ ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéąĖ
ą╝ąĖąĮčāčé, ą║ą░ą║ ą▓ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ ąŠą┐čÅčéčī ąĘą░čüčéčāčćą░ą╗ąĖ ŌĆō ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ, ą▓ą║čĆą░ą┤čćąĖą▓ąŠ, ą▒čāą┤č鹊
čüąŠą▒ą░ą║ą░ ą╗ą░ą┐ąŠą╣. ąóą░ą║ ą╝ąŠą│ čüčéčāčćą░čéčīčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓, ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąŠąĮąĄčĆ ąĖ
ą╗čÄą▒ąĖč鹥ą╗čī čüčéą░čĆąĖąĮčŗ, ąŠą┤ąĖąĮ ąĖąĘ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąĖčģ, ą║ąŠą│ąŠ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą▓čüąĄą│ą┤ą░
ą▓ą┐čāčüą║ą░ą╗ ą▓ ą┤ąŠą╝ ą┤ą░ąČąĄ čü ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 čĆą░ą┤ąŠčüčéčīčÄ. ąĪ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓čŗą╝ ą▒čŗą╗ąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ, ąŠąĮ
ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą╝ąŠą╗čćą░ą╗ ąĖ ą╝ą░ą╗ąŠ čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗: ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖčé ąĮčāąČąĮčāčÄ ąĄą╝čā ą║ąĮąĖą│čā, čüčÅą┤ąĄčé ą▓
ą║čĆąĄčüą╗ąŠ, ąĖ ą▒čāą┤č鹊 ąĄą│ąŠ ąĮąĄčé ąĘą┤ąĄčüčī. ąÜąĮąĖą│ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓ ąĮąĄ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗, čģąŠčéčÅ čģąŠčĆąŠčłąŠ
ą▒čŗą╗ ąŠčüą▓ąĄą┤ąŠą╝ą╗ąĄąĮ ą▓ ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░čäąĖąĖ, ąĄą│ąŠ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮčīčÄ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖą║ąŠąĮčŗ ąĖ čüčéą░čĆąĖąĮąĮčŗąĄ
ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąĖąĘą┤ą░ą▓ą░čéčī ąĘą▓čāą║ąĖ. ąÜąŠą╗ąŠą║ąŠą╗ą░, ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčćąĖą║ąĖ,
ą▒čāą▒ąĄąĮčćąĖą║ąĖ, čéčĆąĄčēąŠčéą║ąĖ, ą▒ąĖą╗ą░, ą┤čāą┤ą║ąĖ, ąČą░ą╗ąĄą╣ą║ąĖ, čüą▓ąĖčĆąĄą╗ąĖ, ą│čāčüą╗ąĖ. ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ ą┐ąŠą┤ąŠą▒ąĮąŠą│ąŠ čüąŠą▒ąĖčĆą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ą░, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čāą▓ą░ąČą░ą╗
ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖąŠąĮąĄčĆąŠą▓. ąÜą░ą║ ąĮąĖ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖ, čćč鹊‑č鹊 ąĖčēčāčé, ąĄąĘą┤čÅčé, ą┐ąŠą┤ą▒ąĖčĆą░čÄčé ąĖ
čģčĆą░ąĮčÅčé č鹊, čćč鹊 ą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą▒čŗčéčī ą▓čŗą▒čĆąŠčłąĄąĮąŠ ąĖ ą┐ąŠą│čāą▒ą╗ąĄąĮąŠ.
ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąĖ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓čā ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čéčī
ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī. ┬½ą£ąĄąĮčÅ ąĮąĄčé ą┤ąŠą╝ą░┬╗, ŌĆō čĆąĄčłąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ čāčüą╗čŗčłą░ą╗ čłą░ą│ąĖ,
č鹥ą┐ąĄčĆčī čāąČąĄ ą▓ ą┐ą░ą╗ąĖčüą░ą┤ąĮąĖą║ąĄ. ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓ ą┐ąŠą┤ąŠčłąĄą╗ ą║ ąŠą║ąĮčā ąĖ, čüą╗ąŠąČąĖą▓ ą╗ą░ą┤ąŠąĮąĖ
ą╗ąĄą╣ą║ąŠą╣, ąĘą░ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ą▓ ą║ąŠą╝ąĮą░čéčā.
ŌĆō ąóčŗ ąČąĖą▓, ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć? ŌĆō ąŠą║ą╗ąĖą║ąĮčāą╗ ąŠąĮ
ąĖ ą┐ąŠčüą║čĆąĄą▒čüčÅ ą▓ čüč鹥ą║ą╗ąŠ.
ŌĆō ąśą┤ąĖ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, ąŠčéą║čĆąŠčÄ, ŌĆō ą┐čĆąŠą▒čāą▒ąĮąĖą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ŌĆō ą£čŗ ąČąĄ čüąĄą╣čćą░čü ą▓ čéą░ą║ąŠą╝ ą▓ąŠąĘčĆą░čüč鹥,
ąØąĖą║ąĖčéą░, čćč鹊 ą┤čĆčāą│ ąĘą░ ą┤čĆčāą│ąŠą╝ ą┐čĆąĖčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī ąĮą░ą┤ąŠ, ŌĆō ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊 ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗
ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▓ąŠčłąĄą╗ ą▓ ą┐čĆąĖčģąŠąČčāčÄ. ŌĆō ąÜą░ą║ ą▒čŗ č湥ą│ąŠ ąĮąĄ čüą╗čāčćąĖą╗ąŠčüčī.
ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąČąĖą▓čŗ ŌĆō ąĘą░ą▓čéčĆą░ ąĮąĄčéŌĆ”
ŌĆō ą» čāą╝ąĖčĆą░čéčī ąĮąĄ čüąŠą▒ąĖčĆą░čÄčüčī, ŌĆō ą▒čĆąŠčüąĖą╗
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć.
ŌĆō ąÉ ┬½čüą║ąŠčĆą░čÅ┬╗ ąĮąĄ ą║ č鹥ą▒ąĄ ą╗ąĖ ą┐čĆąĖąĄąĘąČą░ą╗ą░?
ŌĆō ą×čłąĖą▒ą╗ąĖčüčī ą░ą┤čĆąĄčüąŠą╝ŌĆ”
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ ą│ąŠčüčéčÅ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé,
čāčüą░ą┤ąĖą╗ ą▓ ą║čĆąĄčüą╗ąŠ.
ŌĆō ąÉ čÅ ą║ č鹥ą▒ąĄ ąĘą░ čüąŠą▓ąĄč鹊ą╝, ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć. ą×č湥ąĮčī ą╝ąĮąĄ ąĮčāąČąĄąĮ čéą▓ąŠą╣ čüąŠą▓ąĄčé, ŌĆō ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓. ŌĆō ąöą░ŌĆ”
ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą╝čŗ ąĄčüčéčī ŌĆō ąĘą░ą▓čéčĆą░ ąĮąĄčéŌĆ” ąÜąŠ ą╝ąĮąĄ čéčāčé ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖąĄąĘąČą░ą╗,
ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ‑č鹊 ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĖą╣, ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåčŗ ą╝ąŠąĖ čüą╝ąŠčéčĆąĄą╗. ąŻ ą╝ąĄąĮčÅ ąČąĄ, čüčćąĖčéą░ą╣, ą▒ąĄąĘ
ą╝ą░ą╗ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąĮčŗą╣ ąĮą░ą▒ąŠčĆ, ąŠčé ą┤ą▓čāčģą┐čāą┤ąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ąŠ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠčé, čü ąĮąŠą│ąŠč鹊ą║ŌĆ”
ą¤čĆąŠą┤ą░čéčī ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ‑č鹊, čåąĄąĮčā ąĮą░ąĘą▓ą░ą╗. ąæąŠčÅąĘąĮąŠ, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé, čģčĆą░ąĮąĖčéčī
ą┤ąŠą╝ą░ čéą░ą║čāčÄ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÄ, čāą║čĆą░čüčéčī ą╝ąŠą│čāčé. ą» ą│ąŠą▓ąŠčĆčÄ, čā ą╝ąĄąĮčÅ ąĖą│ąŠą╗ą║ąĖ ąĮąĄ
čāą║čĆą░ą┤čāčé. ąŻ ą╝ąĄąĮčÅ ąČ čéą░ą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠ čüąĄčĆąĄą▒čĆčÅąĮčŗčģ, ą░ čüąĄčĆąĄą▒čĆąŠ‑č鹊 čü ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą╝ŌĆ” ą» ąČ
ąĖčģ ą▓ čüąĄą╣č乥 ą┤ąĄčĆąČčā. ą×ąĮ, ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ‑č鹊, ąĖ ąĮą░čćą░ą╗: ą╝ąŠą╗, ą▓ąŠąĘčĆą░čüčé, čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ
ąČąĖą▓čŗ ŌĆō ąĘą░ą▓čéčĆą░ ąĮąĄčé. ąÉ ąĮčā ą║ą░ą║ čĆą░čüčéą░čēčāčé?.. ąØčā, ą┐ąŠčüą╗ąĄ čüą╝ąĄčĆčéąĖŌĆ” ąÉ čÅ
ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░čéčī ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗, ą┤čāą╝ą░ą╗, ą┐ąŠčćčāčÄ ą║ąŠąĮąĄčå ŌĆō ą▓ ą┤ą░čĆ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą╝, č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ
ą╝čāąĘąĄčÄ, ą░ ą▓ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░č鹊čĆąĖčÄ. ąś čćč鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ąĄą╗ą░čéčī ŌĆō ąĮąĄ ąĘąĮą░čÄŌĆ” ąóčŗ čüąŠ čüą▓ąŠąĖą╝
čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄą╝ ą║ą░ą║ŌĆ” čŹč鹊ŌĆ” čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅą┤ąĖčéčīčüčÅ čģąŠč湥čłčī? ąØčā, ą┐ąŠč鹊ą╝ŌĆ”
ŌĆō ą»? ą» ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ą╗, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąØą░ą┐ąĖčüą░ą╗ ąĖ čā ąĮąŠčéą░čĆąĖčāčüą░ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ŌĆ” ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĮąĄ ąŠ čüą╝ąĄčĆčéąĖ
čĆą░ąĮąŠ ą┤čāą╝ą░čéčī. ą» čéą░ą║, ąĮą░ ą▓čüčÅą║ąĖą╣ čüą╗čāčćą░ą╣. ąÆąŠąĘą╗ąĄ ą╝ąŠąĄą│ąŠ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖčÅ ą┤ą░ą▓ąĮąŠ
čģąŠą┤čÅčé‑ąĮčÄčģą░čÄčéŌĆ” ąĪąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąŠą┤ąĖąĮ ą┐čĆąĖą▒ąĄąČą░ą╗. ąźąĖčéčĆą░čÅ ą╗ąĖčüą░, ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąĄą╝čā ą┤ą░ą╣ŌĆ”
ą» čéčŗą╗ čüąĄą▒ąĄ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖą╗ ŌĆō ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ą╗.
ŌĆō ą£ąŠąČąĄčé, ąĖ ą╝ąĮąĄ čéą░ą║? ŌĆō ąĮąĄčāą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠ
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓. ŌĆō ąóčŗą╗ ąŠą▒ąĄčüą┐ąĄčćąĖčéčī?.. ą» ą▒ ą▓ ą║ąŠąĮčüąĄčĆą▓ą░č鹊čĆąĖčÄ‑č鹊 čģąŠčéčī
čüąĄą╣čćą░čü, ąĮąŠ, ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ą┐ąŠčüčéą░čĆąĄą╗ čÅ, ą┐ąŠčüčéą░čĆąĄą╗, ŌĆō ąŠąĮ č鹊ąĮąĄąĮčīą║ąŠ čĆą░čüčüą╝ąĄčÅą╗čüčÅ. ŌĆō
ąÆą▒ąĖą╗ čüąĄą▒ąĄ ą▓ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā: ąĄčüą╗ąĖ čüą┤ą░ą╝ ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåčŗ, čéą░ą║ ąĖ čāą╝čĆčā ą▓čüą║ąŠčĆąŠčüčéąĖ. ąÉ
ą╝ąĮąĄ ą┐ąŠąČąĖčéčī ąĄčēąĄ čģąŠč湥čéčüčÅ. ą» ą┤ąŠą╝ą░‑č鹊 ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåčŗ čĆą░ąĘą▓ąĄčłą░čÄ ŌĆō čā ą╝ąĄąĮčÅ
ąČąĄčĆą┤ąŠčćą║ą░ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮą░čÅ, ąĄčüčéčī ŌĆō ąĖ ąĮčā ąĖą│čĆą░čéčī!.. ąóčŗ ą▒čŗ čģąŠčéčī čĆą░ąĘ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ ą║ąŠ
ą╝ąĮąĄ, ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ą╗. ą£čāąĘčŗą║ą░‑č鹊 ą║ą░ą║ą░čÅ!.. ąØčŗąĮč湥 čéą░ą║ąŠą╣ ąĖ ąĮąĄ čāčüą╗čŗčģą░čéčī. ą» ą▒
č鹥ą▒ąĄ ąĖ ąĮą░ ąČą░ą╗ąĄą╣ą║ąĄ čüčŗą│čĆą░ą╗, ąĖ ąĮą░ ą┐ą░čüčéčāčłčīąĄą╣ ą┤čāą┤ą║ąĄŌĆ” ą» ą║ č鹥ą▒ąĄ čģąŠąČčā, ą░
čéčŗ ŌĆō ąĮąĖ ąĮąŠą│ąŠą╣.
ŌĆō ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▒ąŠčÄčüčī čćč鹊‑č鹊 ąĖąĘ ą┤ąŠą╝ą░
ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčéčī, ŌĆō ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąŻą╣ą┤čā ąĮą░ čćą░čüąŠą║ ŌĆō ą┤čāčłą░ ąĮąĄ ąĮą░
ą╝ąĄčüč鹥. ąÆą┤čĆčāą│ ą┐ąŠąČą░čĆ?.. ąóąŠąČąĄ, ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čüčéą░čĆąĄčÄ.
ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčé, ąĮąĄ ą┐čĆąŠą┤ą░ą▓ą░čéčī ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÄ?
ŌĆō ąĪą╝ąŠčéčĆąĖ čüą░ą╝ŌĆ” ąøčāčćčłąĄ ą┐ąŠąĖą│čĆą░ą╣ ąĄčēąĄ ą┤ąŠą╝ą░,
ą╝ąŠąČąĄčé, čÅ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓čŗą▒ąĄčĆčā, ŌĆō ą┐čĆąĖą┤čā, ą▓ą╝ąĄčüč鹥 ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ąĄą╝. ąÉ ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ
ąĮą░ą┐ąĖčłąĖ.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā ą┐ąŠč湥ą╝čā‑č鹊 ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗ąŠčüčī,
ą║ą░ą║ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓ čüąĄą╣čćą░čü ą┐čĆąĖą┤ąĄčé ą┤ąŠą╝ąŠą╣ ąĖ čüčéą░ąĮąĄčé ą┐ąĖčüą░čéčī ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ. ąæčāą┤ąĄčé
čģąŠą┤ąĖčéčī ą┐ąŠ ą║ąŠą╝ąĮą░č鹥, ą┤čāą╝ą░čéčī, čüąŠčćąĖąĮčÅčéčī, ą┐ąŠčĆčéąĖčéčī ą▒čāą╝ą░ą│čā ąĖ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ąĘą░
ą┤ąĄąĮčī ąĮąĄ ąĮą░ą┐ąĖčłąĄčé. ą¤ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąĖčłąĄčłčī ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ, ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ
ą▓čüčÅ ąČąĖąĘąĮčī, ąĮąĄ čģąŠč湥čłčī, ą░ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ čēąĄą╝ąĖčé čüąĄčĆą┤čåąĄ, ąĖ ąĘą▓ąĄąĮąĖčé ą▓
čāčłą░čģ ąŠčé čéąĖčłąĖąĮčŗ, ąĖ čéą░ą║ čģąŠč湥čéčüčÅ ąČąĖčéčī! ąÉ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓čā ąĄčüčéčī čćč鹊 ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖčéčī.
ąśą║ąŠąĮčŗ ąŠąĮ ąĮą░čćą░ą╗ čüąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ą┤ąŠ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗, ą▒čŗą╗ą░ ą▒ąŠą╗čīčłą░čÅ
ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÅ ąĖ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą┤ąŠčüąŠą║ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ čåąĄąĮąĮčŗčģ ŌĆō ą╝ą░čüč鹥čĆčüą║ąŠą╣ ąöąĖąŠąĮąĖčüąĖčÅ, ŌĆō
ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ. ąØąŠ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ ą│ąŠčĆąŠą┤ąŠą║, ą│ą┤ąĄ ąČąĖą╗
ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓, ą▒čŗą╗ čĆą░ąĘąŠčĆąĄąĮ, ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÅ ą╗ąĖą▒ąŠ čüą│ąŠčĆąĄą╗ą░ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┤ąŠą╝ąŠą╝, ą╗ąĖą▒ąŠ
ą▒čŗą╗ą░ ą▓čŗą▓ąĄąĘąĄąĮą░, ąĖ ąŠąĮ, ą▓ąĄčĆąĮčāą▓čłąĖčüčī čü čäčĆąŠąĮčéą░, ąĮą░čćą░ą╗ čüąŠą▒ąĖčĆą░čéčī ąĘą░ąĮąŠą▓ąŠ, čü
ąĮčāą╗čÅ. ąś čüąŠą▒čĆą░ą╗, ą┐ąŠčéčĆą░čéąĖą▓ ąĮą░ čŹč鹊 ą┐čÅčéąĮą░ą┤čåą░čéčī ą╗ąĄčé ąĖ čāą╣ą╝čā ą┤ąĄąĮąĄą│, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ
ą▓čüąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąČą░ą╗ąĄą╗ čéčā, ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ, ą║ą░ą║, ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ, ąČą░ą╗ąĄčÄčé ą╝ą░č鹥čĆąĖ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĄ čĆą░ąĮąŠ
čāą╝ąĄčĆčłąĄąĄ ą┤ąĖčéčÅ.
ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓ ą┐ąŠčüąĖą┤ąĄą╗ ąĄčēąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé
ą╝ąŠą╗čćą░, ą┐ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ąĮą░ ą│ąŠą╗čŗąĄ čüč鹥ąĮčŗ, ą╝ąŠčĆčēą░ ą╗ąŠą▒ ąĖ ą┤ą▓ąĖą│ą░čÅ ą╗ąŠčģą╝ą░čéčŗą╝ąĖ,
čüčéą░čĆč湥čüą║ąĖą╝ąĖ ą▒čĆąŠą▓čÅą╝ąĖ, ŌĆō ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ, čāąČąĄ ąĮą░čćą░ą╗ čüąŠčćąĖąĮčÅčéčī ąĘą░ą▓ąĄčēą░ąĮąĖąĄ ŌĆō ąĖ,
ą┐ąŠą┐čĆąŠčēą░ą▓čłąĖčüčī, čāčłąĄą╗. ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā čüčéą░ą╗ąŠ čćčāčéčī ą╗ąĄą│č湥, ąĖ ą╝čŗčüą╗ąĖ ą┐ąŠč鹥ą║ą╗ąĖ
čĆąŠą▓ąĮąĄąĄ. ą×ąĮ ąŠčéčüč鹥ą│ąĮčāą╗ ą┐čĆąŠč鹥ąĘ, ąČą╝čāčēąĖą╣ ą║čāą╗čīčéčÄ ąĮąŠą│ąĖ, ąĖ ą║čĆąĄą┐ą║ąŠ čāčüąĄą╗čüčÅ ą▓
ą║čĆąĄčüą╗ąŠ ŌĆō ą┤čāą╝ą░čéčī. ąöčāą╝ą░čéčī ąĖ ą┐čĆąŠą║čĆčāčćąĖą▓ą░čéčī ą▓ ą┐ą░ą╝čÅčéąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣, ąĮąĄą╗ąĄą┐čŗą╣ ąĖ
čüčāą╝ą▒čāčĆąĮčŗą╣ čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ čü ą▒čŗą▓čłąĖą╝ čüąŠčĆą░čéąĮąĖą║ąŠą╝ čüą▓ąŠąĖą╝, čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗ąĄą╝ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čŗą╝. ąöą░, čü č湥ą│ąŠ ąČąĄ ąŠąĮ ąĮą░čćą░ą╗, čćč鹊 ąŠąĮ čéą░ą╝ ą┤ą╗čÅ ąĘą░čéčĆą░ą▓ą║ąĖ ą▒čĆčÅą║ąĮčāą╗?
ąÉą│ą░, ą┐čĆąŠ ą║ąŠčüą╝ąŠčü! ą¦ąĄą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčüąĄŌĆ” ąźąŠčĆąŠčłąŠ ąĮą░čćą░ą╗, ąĖąĘą┤ą░ą╗ąĄą║ą░, čéą░ą║
čüą║ą░ąĘą░čéčī, čü čäąĖą╗ąŠčüąŠčäčüą║ąĖą╝ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤ąŠą╝. ąÉ čÅ čćč鹊 ąĄą╝čā ą▓ ąŠčéą▓ąĄčé? ąöą░ ąĮąĖč湥ą│ąŠ,
ą┐ąŠąĮąĄčüą╗ąŠ, ąŠą▒ąĖą┤ą░ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ą░čüčīŌĆ” ąØą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčüą░ą┤ąĖčéčī ąĄą│ąŠ, ą▓čŗčüą╝ąĄčÅčéčī čŹčéčā ąĖčģ
ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čā ą┐ąŠąĖčüą║ą░ ąĖ čüą▒ąŠčĆą░. ą¦č鹊 č鹊ą╗ą║čā čü ąĮąĄąĄ? ąØčā ą┐čĆąĖą▓ąĄąĘčāčé ąŠąĮąĖ ą║ąĮąĖą│ąĖ, ą░
ą┤ą╗čÅ ą║ąŠą│ąŠ? ą¦č鹊ą▒čŗ ąĘą░ą┐ąĄčĆąĄčéčī ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ? ąØąĄčé, ąĮą░ą┤ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą╗čÄą┤ąĖ čüą░ą╝ąĖ
ą┐ąŠąĮąĄčüą╗ąĖ, ąŠčé ą┤čāčłąĖ, ąŠčé čüąĄčĆą┤čåą░. ąØą░ą┤ąŠ ą║ ą╗čÄą┤čÅą╝ čüčéčāčćą░čéčīčüčÅ, ą║ čüąŠąĘąĮą░ąĮąĖčÄ, ąĖ
ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠąĮąĖ ą┐ąŠą╣ą╝čāčé, čćč鹊 ą▒ąĄąĘ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ, ą▒ąĄąĘ ą┐čĆąŠčłą╗ąŠą│ąŠ ąĮą░čåąĖąĖ ąĮąĄą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ
ą┤čāą╝ą░čéčī ąŠ ą▒čāą┤čāčēąĄą╝, ŌĆō ą▓ąŠčé č鹊ą│ą┤ą░ ąĮąĄ ąĮčāąČąĮčŗ ą▒čāą┤čāčé ąĖ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ. ąÉ č鹊 čćč鹊
ąČ, čüąŠą▒čĆą░čéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ, ąĘą░ą┐ąĄčĆąĄčéčī ą▓ čüąĄą╣čä ąĖ ąČą┤ą░čéčī, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą╗čÄą┤ąĖ čüą░ą╝ąĖ ą┐ąŠčéčÅąĮčāčéčüčÅ
ą║ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ? ąØąĄčé, čéą░ą║ ą╝čŗ ąĮąĄ ą┤ąŠąČą┤ąĄą╝čüčÅŌĆ”
ąØą░ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā ą┐ąŠą┐ą░ą╗čüčÅ ą▒ąĄą╗čŗą╣
čģą░ą╗ą░čé, ą▒čĆąŠčłąĄąĮąĮčŗą╣ ąĖą╗ąĖ ąĘą░ą▒čŗčéčŗą╣ čüčŗąĮąŠą╝ ąĮą░ čłą║ą░čäčā, ąĖ ą╝čŗčüą╗ąĖ ąØąĖą║ąĖčéčŗ ąĢą▓čüąĄąĖčćą░
čéčāčé ąČąĄ ą┐ąĄčĆąĄą╝ąĄčéąĮčāą╗ąĖčüčī ą║ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮčā. ąÆąŠčé ą▒čŗ čüąĄą╣čćą░čü čü ą║ąĄą╝ ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī.
ąĪąĄčüčéčī čĆčÅą┤ąŠą╝ ąĖ ą▓čŗą╗ąŠąČąĖčéčī ąĄą╝čā ą▓čüąĄ. ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ŌĆō ą┐ą░čĆąĄąĮčī č鹊ą╗ą║ąŠą▓čŗą╣,
čĆą░čüčüčāą┤ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣, ą▓čüąĄ ąĮą░ ą╗ąĄčéčā čüčģą▓ą░čéčŗą▓ą░ąĄčé. ąÆąŠčé č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ ąĮąĄčé
ąĖąĮč鹥čĆąĄčüą░. ą¦ą░čüč鹊 ą▒ąĄčĆąĄčé, ą╗ąĖčüčéą░ąĄčé, čćč鹊‑č鹊 čćąĖčéą░ąĄčé, ąĮąŠ ą▓čüąĄ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ,
čćč鹊ą▒čŗ ąŠčéą▓ą╗ąĄčćčīčüčÅ, ą┐ąĄčĆąĄą║ą╗čÄčćąĖčéčīčüčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ. ąÉ ą▒ą╗ą░ą│ąŠą│ąŠą▓ąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄčé, ąĖ
č鹊ą╣ čüą░ą╝ąŠą╣ ą╝čāąĘčŗą║ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ąØąĄąĘąĮą░ąĮąŠą▓ ą▓ ą║ąŠą╗ąŠą║ąŠą╗čīčåą░čģ čüą▓ąŠąĖčģ ąĮą░čłąĄą╗, ąĮąĄ
čüą╗čŗčłąĖčé ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, čĆą░ą▒ąŠčéą░ čā ąĮąĄą│ąŠ čéčÅąČą║ą░čÅ: ą║čĆąŠą▓čī, čüčéčĆą░ą┤ą░ąĮąĖčÅ
č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ąĖąĄ, ą░ č鹊 ąĖ čüą╝ąĄčĆčéčī. ąØąŠčćčī‑ą┐ąŠą╗ąĮąŠčćčī, ą┐ąŠą┤ąĮąĖą╝ą░čÄčé čü ą┐ąŠčüč鹥ą╗ąĖ,
čāą▓ąŠąĘčÅčé ą║čāą┤ą░‑č鹊ŌĆ” ąæčŗą▓ą░ąĄčé, ąĖ ą┐ąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčéčī ą║ą░ą║ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąĮąĄą║ąŠą│ą┤ą░. ąØąŠ
čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ‑č鹊 ą║čĆą░ą╣ ą║ą░ą║ ąĮą░ą┤ąŠ, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąŠčé ą┤ąŠąČą┤ą░čéčīčüčÅ ą▒čŗ.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čĆąĄčłąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čüčéą░ą╗ ąĖ, ą┤ąĄčƹȹ░čüčī
ąĘą░ čüč鹥ąĮą║čā, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ ąĮą░ą┤ąĄą▓ą░čéčī ą┐čĆąŠč鹥ąĘ, ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖą╗čüčÅ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, ąĘą░ą▓ąĄčłąĄąĮąĮąŠą╣
ą┐ą╗čÄčłąĄą▓čŗą╝ ą║ąŠą▓čĆąŠą╝ čü ąŠą╗ąĄąĮčÅą╝ąĖ. ą¤ąŠą│čĆąĄą╝ąĄą▓ ą║ą╗čÄčćą░ą╝ąĖ, ąŠčéą║čĆčŗą╗ ąĘą░ą╝ą║ąĖŌĆ”
ąś čĆą░ąĘąŠą╝ ąŠč鹊賹╗ąĖ ąĮąĄą▓ąĄčüąĄą╗čŗąĄ ąĖ ą┤ąŠčüą░ą┤ąĮčŗąĄ
ą╝čŗčüą╗ąĖ ąĖ ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ąŠ ąŠčēčāčēąĄąĮąĖąĄ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖŌĆ”
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ą┐čĆąĖčłąĄą╗ čāąČąĄ ą▓ čüčāą╝ąĄčĆą║ą░čģ, ąĖ ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć, ąĘą░čģą▓ą░č湥ąĮąĮčŗą╣ ą▓čĆą░čüą┐ą╗ąŠčģ ąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąŠą╝, ą┤ąŠą╗ą│ąŠ ą▓ąŠąĘąĖą╗čüčÅ čü ą┐čĆąŠč鹥ąĘąŠą╝,
ą┐čĆąĖčüč鹥ą│ąĖą▓ą░čÅ čĆąĄą╝ąĮąĖ, ą┐ąŠč鹊ą╝ ąĮąĖą║ą░ą║ ąĮąĄ ą╝ąŠą│ ąĘą░ą┐ąĄčĆąĄčéčī ą┤ą▓ąĄčĆčī čģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēą░ ŌĆō
ą┐čāčéą░ą╗ ą║ą╗čÄčćąĖ ŌĆō ąĖ, ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå čüą┐čĆą░ą▓ąĖą▓čłąĖčüčī, ąĘą░čüą┐ąĄčłąĖą╗ ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čéčī.
ŌĆō ąóčŗ, ąĮąĖą║ą░ą║, čüą┐ą░ą╗, ąŠč鹥čå? ŌĆō čāą┤ąĖą▓ąĖą╗čüčÅ
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ą£ąĖąĮčāčé ą┤ąĄčüčÅčéčī čüčéčāčćčāčüčī.
ŌĆō ąĪ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ čüąĖą┤ąĄą╗, ŌĆō ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą╗čüčÅ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąæčāą╝ą░ąČą║ąĖ čüą▓ąŠąĖ ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░ą╗ŌĆ”
ŌĆō ąÆčüąĄ čÅčüąĮąŠ, ŌĆō ą▓ąŠčĆčćą╗ąĖą▓ąŠ čüą║ą░ąĘą░ą╗ čüčŗąĮ. ŌĆō
ą×ą┐čÅčéčī ą│ąŠą╗ąŠą┤ąĮčŗą╣ čåąĄą╗čŗą╣ ą┤ąĄąĮčī. ą» čüą║ąŠčĆąŠ čüąĖą┤ąĄą╗ą║čā ąĮą░ą╣ą╝čā. ą¦č鹊ą▒čŗ čģąŠčéčī ą║ąŠčĆą╝ąĖą╗ą░
č鹥ą▒čÅŌĆ” ą×ą┐čÅčéčī ą┐ąŠą┤ą│ą╗ą░ąĘčīčÅ čüąĖąĮąĖąĄ. ąÜč鹊 ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗?
ŌĆō ąöą░ ą▒čŗą╗ąĖ, ŌĆō čāą║ą╗ąŠąĮčćąĖą▓ąŠ ą▒čĆąŠčüąĖą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░
ąĢą▓čüąĄąĖčć. ŌĆō ą¤ąŠč鹊ą╝ čĆą░čüčüą║ą░ąČčā.
ą×ąĮ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ ąŠčéčéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĮą░čćą░ą╗ą░
čĆą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆą░, čćč鹊ą▒čŗ ąĮąĄ čüą║ąŠą╝ą║ą░čéčī ąĄą│ąŠ ą╝ąĄąČ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ą┤ąĄą╗, ąĖ ą┐ąŠą┤ą░ą▓ą╗čÅą╗ ą▓ čüąĄą▒ąĄ
ąČą│čāč湥ąĄ ąĮąĄč鹥čĆą┐ąĄąĮąĖąĄ.
ŌĆō ąÜč鹊 ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗, čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ąĄčłčī? ŌĆō ąĮą░čćą░ą╗
ąŠąĮ, ą║ąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠčüą╗ąĄ čāąČąĖąĮą░ ąŠąĮąĖ čāčüąĄą╗ąĖčüčī ą▓ąŠąĘą╗ąĄ č鹊ą┐čÅčēąĄą╣čüčÅ ą┐ą╗ąĖčéčŗ. ŌĆō ąÉčĆąŠąĮąŠą▓
ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗, ą┐ąŠą╝ąĮąĖčłčī ąĄą│ąŠ?
ŌĆō ąØčā ą║ą░ą║ ąČąĄŌĆ” ąöčÅą┤čÅ ą£ąĖčłą░, ą┐ąŠą╝ąĮčÄ. ą¦č鹊 čŹč鹊
ąŠąĮ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ č鹥ą▒čÅ? ąÆčŗ ąČąĄ čü ąĮąĖą╝ čĆą░ąĘčĆčāą│ą░ą╗ąĖčüčī?
ŌĆō ą¦č鹊 ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ŌĆ” ą» ąČąĄ ąĄą╝čā ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗:
ą┐čĆąĖą┤ąĄčłčī ąĄčēąĄ ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ, č湥čĆąĄąĘ ą│ąŠą┤‑ą┤ą▓ą░, ąĮąŠ ą┐čĆąĖą┤ąĄčłčī. ą×ąĮ ą▓ąŠčé č湥čĆąĄąĘ
ą┤ą▓ąĄąĮą░ą┤čåą░čéčī čÅą▓ąĖą╗čüčÅ. ąöąŠą╗ą│ąŠ čÅ ąČą┤ą░ą╗ čŹč鹊ą│ąŠ čćą░čüą░, ŌĆō ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ čĆą░čüą┐čĆą░ą▓ąĖą╗
ą▒ąŠčĆąŠą┤čā. ŌĆō ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┐ąŠ čüą║ąĖčéą░ą╝ ą┐čĆąŠčüąĖą╗, 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ ąĘą░č鹥čÅą╗ąĖ, čüąŠą▒čĆą░ą╗ąĖčüčī
ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå‑č鹊.
ŌĆō ąóąĄą▒čÅ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą┐ąŠąĘą┤čĆą░ą▓ąĖčéčī, ŌĆō čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ.
ŌĆō ąĪ č湥ą╝?.. ą×ąĮąĖ ąČ ą▓čüąĄ ą┐ąŠ čüčéą░čĆąĖąĮą║ąĄ
čüąŠą▒ąĖčĆą░čÄčéčüčÅ, ąĮą░č鹊ą┐ąŠą╝. ą¦č鹊 ą▒čŗą╗ąŠ, č鹊 ąĖ ąĄčüčéčī, čĆą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ąĄąĮąĄą│
ą┤ą░ą╗ąĖ, ŌĆō ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┐čĆąĖą╝ąŠą╗ą║. ŌĆō ąĢą╝čā čüąĄą╣čćą░čü ąĮąĄ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąĮčāąČąĮčŗ, ąĮąĄ
ą║ą░čéą░ą╗ąŠą│ąĖ, čćč鹊 čā ąĮąĄą│ąŠ ąĄčüčéčī, ą░ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║ą░ ą┐ąŠąĖčüą║ą░ ąĖ čüą▒ąŠčĆą░. ąĢą╝čā čüąĮą░čćą░ą╗ą░
ą║ąĄčƹȹ░čåą║ąĖą╣ čģą░čĆą░ą║č鹥čĆ ąĮą░ą┤ąŠ ąĖąĘčāčćąĖčéčī, čü čŹčéąĖą╝ąĖ čüčéą░čĆąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĖ čüčéą░čĆčāčģą░ą╝ąĖ ąŠą┤ąĮąŠą╣
ąČąĖąĘąĮčīčÄ ą┐ąŠąČąĖčéčī. ąÉ čéą░ą╝ ąŠąĮ ą┤ą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ ąĮąĄ ą│ąŠą┤ąĖčéčüčÅ. ą» ąĄą│ąŠ ąĖ č鹊ą│ą┤ą░‑č鹊
čéą░čüą║ą░ą╗ ąĘą░ čüąŠą▒ąŠą╣ ą║ą░ą║ ą┐čāą│ą░ą╗ąŠŌĆ” ąöčāą╝ą░ą╗, ąŠą▒č鹥賹ĄčéčüčÅ, ąĮą░čāčćąĖčéčüčÅ ŌĆō ą║čāą┤ą░ čéą░ą╝!..
ąĢą╝čā ąČąĄ ą▓čŗąĮčī ą┤ą░ ą┐ąŠą╗ąŠąČčī.
ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčé, ąĮąĄ ą┤ą░ą╗, ŌĆō ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō
ąÉ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī, ąĮą░ą┤ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčéą┤ą░čéčī, ą░? ą¤čāčüą║ą░ą╣ ą▒čŗ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗ąĖ, ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ą┐čĆąŠą▒
ąĖ ąŠčłąĖą▒ąŠą║.
ŌĆō ąöą░ čéą░ą╝ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ąŠčłąĖą▒ą░čéčīčüčÅ! ŌĆō
ąĘą░ą│ąŠčĆčÅčćąĖą╗čüčÅ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć. ŌĆō ąĀą░ąĘ ąŠčłąĖą▒ąĄčłčīčüčÅ, ąĖ ą▓čüąĄ. ą¤ąŠč鹊ą╝ čāąČąĄ ąĮąĖč湥ą│ąŠ
ąĮąĄ ą▓ąŠąĘčīą╝ąĄčłčī, čģčāąČąĄ č鹊ą│ąŠ, čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåčŗ ą┐čĆčÅčéą░čéčī ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĮą░čćąĮčāčé. ą×ąĮąĖ ąČąĄ,
ą║ą░ą║ čåą▓ąĄčéčŗ: čćčāčéčī čüąŠą╗ąĮčåąĄ čüąĄą╗ąŠ ŌĆō čüą▓ąĄčĆąĮčāą╗ąĖčüčīŌĆ” ą¤čāą│ą░ąĮčŗąĄ ąŠąĮąĖ. ąØčā, ąĄčüą╗ąĖ ą▒čŗ ąĖ
ą┤ą░ą╗ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ, ŌĆō ą┐ąŠąĄą┤ąĄčé ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓ čüą║ąĖčéčŗ, čćč鹊 čüą╝ąŠąČąĄčé, ą▓čŗčüą║čĆąĄą▒ąĄčé, ą│ą┤ąĄ
ąĘą░ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ, ą│ą┤ąĄ ąŠą▒ą╝ą░ąĮąŠą╝. ą¤ąŠč鹊ą╝ čéčāą┤ą░ ąĮą░ą▓ąĄą║ ą┤ąŠčĆąŠąČą║ą░ ąĘą░ą║ą░ąĘą░ąĮą░, ą▒ą╗ąĖąĘą║ąŠ ąĮąĄ
ą┐ąŠą┤ą┐čāčüčéčÅčé. ąÉ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą│čāą╗čÅčéčī ą┐ąŠą╣ą┤čāčé. ąĀą░ąĘąŠčłą╗čÄčé ą┐ąŠ ą┤čĆčāą│ąĖą╝ ą╝ąĄčüčéą░ą╝, ąĖ ą▓čüąĄ
ą╝ąŠąĖ čéčĆčāą┤čŗ čĆčāčģąĮčāą╗ąĖ. ąĪąĄą╣čćą░čü čÅ ąĘąĮą░čÄ, ą│ą┤ąĄ čćč鹊 ą╗ąĄąČąĖčé, ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą▓čüą╗ąĄą┐čāčÄ
čĆą░ą▒ąŠčéą░čéčī ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ. ąŻ ąĮąĖčģ ┬½ą┐ąŠčćčéą░┬╗, ąĘąĮą░ąĄčłčī, ą║ą░ą║ čĆą░ą▒ąŠčéą░ąĄčé? ąÆ ąŚą░ą▒ą░ą╣ą║ą░ą╗čīąĄ
čā ążąĄą┤ąŠčĆąĖąĮąŠą▓ą░ čÅ ┬½ą”ą▓ąĄčéąĮąĖą║┬╗ ą▓ąĖą┤ąĄą╗, čĆąĄą┤ą║ą░čÅ ą║ąĮąĖą│ą░, ą┐ąŠą╝ąŠčĆčüą║ą░čÅ, ą░ č湥čĆąĄąĘ
ą┐ąŠą╗ą│ąŠą┤ą░ čŹčéą░ ą║ąĮąĖąČąĖčåą░ ąĮą░ ąÆą░čüčÄą│ą░ąĮąĄ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ą░čüčī. ąÆąŠ ą║ą░ą║! ąÆ ą£ą░ą║ą░čĆąĖčģąĄ ą╗ąĄąČąĖčé,
ą▓ ą┤ą░čĆ ą┐čĆąĖčüą╗ą░ą╗ąĖŌĆ” ąÉ ą┐ąŠč鹊ą╝, ąĪč鹥ą┐ą░, ąŠčéą┤ą░ą╣ čÅ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ, čŹč鹊 ąĘąĮą░čćąĖčé, ąĮą░
ą╝ąŠąĖčģ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅčģ ą║čĆąĄčüčé? ąóą░ą║ ąĮą░ ą║ąŠą╣ ąČąĄ ą╗čÅą┤ čÅ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ą▓čüčÄ ąČąĖąĘąĮčī?..
ąĪąĮą░čćą░ą╗ą░ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ą┐čĆąŠčüčÅčé, ą┐ąŠč鹊ą╝ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄŌĆ” ą» čéčāčé čüąĮąŠą▓ą░ ąĮą░ą┐ąĖčüą░ą╗ ą▓
ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ą┐čĆąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĖčÅ.
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ą▓ąĘą│ą╗čÅąĮčāą╗ ąĮą░ ąŠčéčåą░, ą┐ąŠą┤ąČą░ą╗ ą│čāą▒čŗ.
ą×ą│ąŠąĮčī ą▓ ą┐ąĄčćąĖ ą│ąŠčĆąĄą╗ čĆąŠą▓ąĮąŠ, čāčüą┐ąŠą║ą░ąĖą▓ą░ą╗, čāą▒ą░čÄą║ąĖą▓ą░ą╗.
ŌĆō ą×ąĮąĖ ąČąĄ ą╝ąĮąĄ ą┤ąŠ čüąĖčģ ą┐ąŠčĆ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčéąĖą╗ąĖ, ŌĆō
ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ą░čāąĘčŗ. ŌĆō ąŚą░ą╝čāčéčŗčüą║ą░ą╗ąĖ, ąĮą░ą▓ąĄčĆąĮąŠąĄ, ą╝ąŠą╣
ą┐čĆąŠąĄą║čé ą┐ąŠ ąĖąĮčüčéą░ąĮčåąĖčÅą╝. ąŁčģ, ąĮąĄčé ąĪąĄčĆąĄą│ąĖ ą£čāčģą░ąĮąŠą▓ą░! ą×ąĮ ą▒čŗ ą▓ą╝ąĖą│ ą║ąŠąĮčåčŗ
ąĮą░čłąĄą╗ ąĖ ą┐ąŠą╝ąŠą│ ą╝ąĮąĄ. ąóčŗ ą┐ąŠą╝ąĮąĖčłčī ą┤čÅą┤čÄ ąĪąĄčĆąĄąČčā ą£čāčģą░ąĮąŠą▓ą░?
ŌĆō ąÉ?.. ąöą░, ą┐ąŠą╝ąĮčÄ, č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ą╗ąŠčģąŠ, ŌĆō
ąŠąČąĖą▓ąĖą╗čüčÅ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ą» ąČąĄ č鹊ą│ą┤ą░ čüąŠą▓čüąĄą╝ ą╝ą░ą╗ąĄąĮčīą║ąĖą╣ ą▒čŗą╗.
ŌĆō ąÉ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą║č鹊 čéą░ą╝, ą▓ ą▓ąĄčĆčģą░čģ, ąŠčüčéą░ą╗čüčÅ
čā ą╝ąĄąĮčÅ? ąØąĖą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄ ąŠčüčéą░ą╗ąŠčüčī. ąĪą░ą╝ąŠą╝čā ąĄčģą░čéčī ą▒ąŠčÅąĘąĮąŠ, ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ ą┐ąŠąČą░čĆ ąĘą░
ą┐ąŠąČą░čĆąŠą╝, ŌĆō ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąŠą║ąŠčüąĖą╗čüčÅ ąĮą░ ą┐ąĄčćčī, ąŠą▒ąČąĖą│ą░čÅ ą┐ą░ą╗čīčåčŗ, ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖą╗,
ąĘą░ą┐ąĄčĆčéą░ ą╗ąĖ ą┤ą▓ąĄčĆčåą░. ŌĆō ąöą░ ąĖ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čéčāčé ąĄčēąĄ ąĘą░ą▓ąĄčĆč鹥ą╗čüčÅŌĆ” ą×ąĮ ą▓ąĄą┤čī čéą░ą║
ą┐čĆąŠčüč鹊 ąĮąĄ ąŠčéčüčéą░ąĮąĄčé, ąČčāą║ ąĄčēąĄ č鹊čé. ąŁč鹊 ąŠąĮ ┬½čüą║ąŠčĆčāčÄ┬╗ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗,
č鹊čćąĮąŠ, ąŠąĮ.
ŌĆō ┬½ąĪą║ąŠčĆčāčÄ┬╗? ŌĆō ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗čüčÅ čüčŗąĮ.
ŌĆō ąöą░ŌĆ” ą» čéčāčé ą┐ąŠčłčāą╝ąĄą╗ ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ, ą░ ąŠąĮ,
ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, čĆąĄčłąĖą╗, čćč鹊 čÅ čü čāą╝ą░ čüąŠčłąĄą╗, ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ čā ą╝ąĄąĮčÅ. ąÆąŠčé ąĖ ą▓čŗąĘą▓ą░ą╗. ąŻ
ą╝ąĄąĮčÅ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ąĪčāčģąŠčĆčāą║ąŠą▓ čüąĖą┤ąĄą╗, ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĄą╣ čüąŠą▒ą░čćą║ąĄ ą▓ąĘą┤čŗčģą░ą╗. ąØčā ąŠąĮąĖ
ą┐ąŠą║čĆčāčéąĖą╗ąĖčüčī ąĖ čāąĄčģą░ą╗ąĖ.
ŌĆō ąóą░ą║, ą░ čćč鹊 čü čüąŠčüąĄą┤čüą║ąŠą╣ čüąŠą▒ą░ą║ąŠą╣? ŌĆō
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ/ąŠč鹥čĆ čāčüčéą░ą▓čłąĄąĄ ą╗ąĖčåąŠ.
ŌĆō ą¤ąŠ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠčüčéąĖ čÅ ąĄąĄ ą┐ąŠą┤čüčéčĆąĄą╗ąĖą╗, ŌĆō čü
čāą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčüčéą▓ąĖąĄą╝ ąŠą▒čŖčÅčüąĮąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąóčāčé čüą▓ąŠčĆą░ ą▒čĆąŠą┤čÅčćąĖčģ čüąŠą▒čĆą░ą╗ą░čüčī,
ąĮčā ąĖ ąĄą│ąŠ ą║ąŠą▒ąĄą╗čī ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖą╗. ąÉ čÅ č湥čĆąĄąĘ č乊čĆč鹊čćą║čā ąĖąĘ ą╝ą░ą╗ąŠ ą┐čāą╗čīą║ąĖŌĆ”
ŌĆō ąöą░ą▓ą░ą╣ čüą┐ą░čéčī, ąŠč鹥čå, ŌĆō ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąŚą░ą▓čéčĆą░ ą┤ąĄąĮąĄą║ ą▒čāą┤ąĄčé!.. ąÜąŠ ą╝ąĮąĄ ąĄčēąĄ ą▓ąŠčüąĄą╝čī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ąĖŌĆ”
ŌĆō ąØčā, čéčŗ ąĖą┤ąĖ, ŌĆō ąĮąĄ čüčĆą░ąĘčā čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ
ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć. ŌĆō ąÉ čÅ ą┐ąŠą┤ąŠąČą┤čā, ą┐ąŠą║ą░ ą┐ąĄčćčī ą┐čĆąŠč鹊ą┐ąĖčéčüčÅ, ąĖ čéčĆčāą▒čā ąĘą░ą║čĆąŠčÄ.
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ čāčłąĄą╗ ą▓ čüą┐ą░ą╗čīąĮčÄ, ą░ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā
ą▓ą┤čĆčāą│ čüčéą░ą╗ąŠ ąŠą▒ąĖą┤ąĮąŠ. ąĀą░ąĘą│ąŠą▓ąŠčĆ čü čüčŗąĮąŠą╝ ą║ą░ą║‑č鹊 ąĮąĄ čüą║ą╗ąĄąĖą╗čüčÅ, ąĮąĄ ą▓čŗčłąĄą╗.
ąźąŠč鹥ą╗ čüą║ą░ąĘą░čéčī čćč鹊‑č鹊 ą▓ą░ąČąĮąŠąĄ, ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ, čüąŠą▓ąĄčéą░ čā čüčŗąĮą░ čüą┐čĆąŠčüąĖčéčī,
ąĮąŠ ąĮąĖč湥ą│ąŠ č鹊ą╗ą║ąŠą╝ ąĖ ąĮąĄ čüą║ą░ąĘą░ą╗. ą×ąĮ ąŠčéą║čĆčŗą╗ ą┤ą▓ąĄčĆčåčā ą┐ąĄčćąĖ, čĆą░čüčłąĄą▓ąĄą╗ąĖą╗
ą║ąŠč湥čĆą│ąŠą╣ ą┤ąŠą│ąŠčĆą░čÄčēąĖąĄ ą┐ąŠą╗ąĄąĮčīčÅ ąĖ, ąŠčüąĄąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą╝čŗčüą╗čīčÄ, č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ
ąĘą░čģčĆąŠą╝ą░ą╗ ą║ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮčā.
ŌĆō ąĪą╗čŗčłąĖčłčī, ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ, ŌĆō ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠąĮ,
čüą║ą╗ąŠąĮčÅčüčī ąĮą░ą┤ ą║čĆąŠą▓ą░čéčīčÄ čüčŗąĮą░. ŌĆō ą¦č鹊 čÅ čģąŠč鹥ą╗ čüą║ą░ąĘą░čéčī č鹥ą▒ąĄ! ąÆąĄą┤čī ą▒ąĄąĘ
čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖčÅ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ, ą▒ąĄąĘ čŹčéąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓, čÅ ą┤ą╗čÅ ąĮąĖčģ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ąĮąĄ ąĘąĮą░čćčā! ą×ąĮąĖ
ąČąĄ ą╝ąĄąĮčÅ ą▓ ą┐ąŠčĆąŠčłąŠą║ čüąŠčéčĆčāčé, čĆą░čüč鹊ą┐čćčāčé. ąÉ čéą░ą║ ŌĆō ą┐čāčüą║ą░ą╣ ą┐ąŠą┐čĆąŠą▒čāčÄčé! ąś ąŠąĮąĖ
ą┐čĆąĖą╝čāčé! ą¤čĆąĖą╝čāčé ąĖ ą╝ąŠčÄ ą╝ąĄč鹊ą┤ąĖą║čā, ąĖ ą╝ąŠąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ. ąóą░ą║ čćč鹊 čŹčéąĖ
ą║ąĮąĖą│ąĖ ŌĆō ąĘą░ą╗ąŠąČąĮąĖą║ąĖ ą╝ąŠąĖ. ąśąĮą░č湥 čÅ ąĮąĖą║ąŠą│ąŠ ąĮąĄ ą▓čĆą░ąĘčāą╝ą╗čÄ! ąŁč鹊 ąČąĄ ą║ą░ą║ą░čÅ
ą│ą╗čāą┐ąŠčüčéčī ąĮąĄčüčāčüą▓ąĄčéąĮą░čÅ: ą╗ąĄąĘčéčī ą▓ čüą║ąĖčéčŗ ąĮą░č鹊ą┐ąŠą╝, ąĖą┤čéąĖ ąĮą░ ąŠą▒ą╝ą░ąĮ! ąØąĄ ą▒čāą┤čī
čĆą░ą║ąĄčéčŗ, ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗ ą▒čŗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▓ ą║ąŠčüą╝ąŠčü? ąØąĄ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥ą╗ ą▒čŗ! ąÉ čéčāčé ą┤čāą╝ą░čÄčé ŌĆō
ąĮą░ ą┤čāčĆą░čćą║ą░ŌĆ” ąÜą░ą║ą░čÅ ą│ą╗čāą┐ąŠčüčéčī!
ŌĆō ąóčŗ ą┐čĆą░ą▓, ąŠč鹥čå, ą│ą╗čāą┐ąŠčüčéčī, ŌĆō
čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ, čāą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░čÅčüčī ą┐ąŠčāą┤ąŠą▒ąĮąĄąĄ. ŌĆō ąÜąŠ ą╝ąĮąĄ ą▓ąŠčé č鹊ąČąĄ ąĄčēąĄ
ą▓ąŠčüąĄą╝čī č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ, ą░ čÅ ąĘą░ą▓čéčĆą░ ą▓ ąŠą▓ąŠčēąĄčģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ ąĖą┤čā, ą║ą░čĆč鹊賹║čā
ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░čéčīŌĆ”
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓čā ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī, čćč鹊 čüčŗąĮ
ą╝ą│ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠ ąĘą░čüąĮčāą╗, ąĖ, čüčéą░čĆą░čÅčüčī ąĮąĄ čüčéčāčćą░čéčī ą┐čĆąŠč鹥ąĘąŠą╝, ąŠąĮ ą▓ąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ ąĮą░
ą║čāčģąĮčÄ, ą║ ą┐ąĄčćąĖ, ą║ą░čĆą░čāą╗ąĖčéčī, ą║ą░ą║ ą▒čŗ ąĮąĄ ą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖą╗čüčÅ čāą│ąŠą╗ąĄą║ ąĖ ąĮąĄ čüą╗čāčćąĖą╗čüčÅ
ą┐ąŠąČą░čĆ.
ąÆ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠ‑čāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╝čā ą┐čāčüč鹊,
čüčāą╝čĆą░čćąĮąŠ ąĖ ą┤čĆąĄą╝ąŠčéąĮąŠ. ąŚą░ ą▒ą░čĆčīąĄčĆąŠą╝, čā čüčéą░čĆąĖąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ čüč鹊ą╗ą░,
čüą║čĆąĄčüčéąĖą▓ ąĮą░ ą│čĆčāą┤ąĖ ąČąĖą╗ąĖčüčéčŗąĄ, ąĮą░čéčĆčāąČąĄąĮąĮčŗąĄ čĆčāą║ąĖ, čüąĖą┤ąĄą╗ą░ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░
ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░. ąÜčĆą░ąĄą╝ ą│ą╗ą░ąĘą░ ąŠąĮą░ čüą╗ąĄą┤ąĖą╗ą░ ąĘą░ ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮč鹊ą╝, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čĆčŗą╗čüčÅ ą▓
ą║ą░čéą░ą╗ąŠą│ąĄ, ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┤ąŠ ąĮąĄąĄ ą┤ąŠąĮąŠčüąĖą╗ąĖčüčī ąŠčéą┤ą░ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠą╗ąŠčüą░ ąĖąĘ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčéą░
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░. ą×ąĮą░ ą╝ą░ą╗ąŠ ą▓ąĮąĖą║ą░ą╗ą░ ą▓ č鹊, čćč鹊 ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ: čĆą░ą▒ąŠčéą░
čéą░ą║ą░čÅ‑ą┐ąŠą┤ą░ą╣, ą┐čĆąĖąĮąĄčüąĖ, ą▓čŗą╝ąŠą╣, ą┐čĆąŠą▓ąĄčéčĆąĖ, ą░ č鹊, čćč鹊 ąĄą╣ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąŠčüčī
ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ąĖ čüą╗čŗčłą░čéčī, ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī čüčéčĆą░ąĮąĮčŗą╝, ąĮąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗą╝. ą×ąĮą░ ąĮąĄą┐ą╗ąŠčģąŠ
čĆą░ąĘą▒ąĖčĆą░ą╗ą░čüčī ą▓ ą┤ąĄą╗ą░čģ čüąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĖ, ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ą▓čüčÅ ąĄąĄ ąČąĖąĘąĮčī
ą┐čĆąŠčłą╗ą░ čéą░ą╝, ąĖ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąŠčé ąĮą░ čüčéą░čĆąŠčüčéąĖ ą╗ąĄčé, ą┐ąĄčĆąĄą▒čĆą░ą▓čłąĖčüčī ą║ ą┤ąŠč湥čĆąĖ ą▓
ą│ąŠčĆąŠą┤ ąĖ ąŠą║ą░ąĘą░ą▓čłąĖčüčī ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ, ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ čü čāą┤ąĖą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄą╝
ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗ą░, čćč鹊 ą▓ ąĖčģ ą║ąĮąĖąČąĮąŠą╝ ą╝ąĖčĆąĄ čüčāčēąĄčüčéą▓čāąĄčé ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą╝ąĖčĆ, ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮčŗą╣
ąĖ ąĮąĄą▓ąĖą┤ąĖą╝čŗą╣ čüąŠ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ. ąØą░ą┤ č鹥ą╝, čćč鹊 ą▓ čüąĄą╗čīčüą║ąŠą╣ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ čüčćąĖčéą░ą╗ąŠčüčī
ą▓čĆąĄą┤ąĮčŗą╝ ą┤ą╗čÅ čćąĖčéą░č鹥ą╗čÅ, ąĮąĄąĮčāąČąĮčŗą╝ čģą╗ą░ą╝ąŠą╝, ąĘą┤ąĄčüčī ą▒čāą║ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ čéčĆčÅčüą╗ąĖčüčī.
ą£ąŠą│ą╗ą░ ą╗ąĖ ąŠąĮą░ ą┐ąŠą┤čāą╝ą░čéčī,.čćč鹊 ąĄą╣ ą┐čĆąĖą┤ąĄčéčüčÅ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čĆčāą║ą░ą╝ąĖ ą▓čŗą┤ą░ą▓ą░čéčī
čüąŠčćąĖąĮąĄąĮąĖčÅ ą║ą░ą║ąĖčģ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ą╝ąŠąĮą░čģąŠą▓, čüą▓čÅčēąĄąĮąĮąĖą║ąŠą▓, ą┤ą░ ąĄčēąĄ čüąŠ čüčéčĆąŠąČą░ą╣čłąĖą╝
čāą║ą░ąĘąŠą╝ ąŠą▒čĆą░čēą░čéčīčüčÅ čü ą║ąĮąĖą│ąŠą╣, ą▒čāą┤č鹊 čü ą╝ą░ą╗čŗą╝ ą┤ąĖč鹥ą╝? ąÆčüąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ ąĘą┤ąĄčüčī
čüč鹊čÅą╗ąĖ ą▓ ąĘą░čüč鹥ą║ą╗ąĄąĮąĮčŗčģ čłą║ą░čäą░čģ, ą░ ą╝ąĮąŠą│ąĖąĄ ą┤ą░ąČąĄ čāą┐ą░ą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ ą║ą░čĆč鹊ąĮąĮčŗąĄ
čäčāčéą╗čÅčĆčŗ; ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ ąĖ ąŠčüąĄąĮčīčÄ čüčéčĆąŠą│ąŠ‑ąĮą░čüčéčĆąŠą│ąŠ ąĘą░ą┐čĆąĄčēą░ą╗ąŠčüčī ąŠčéą║čĆčŗą▓ą░čéčī
č乊čĆč鹊čćą║ąĖ (čüčŗčĆąŠ ąĮą░ čāą╗ąĖčåąĄ), ąĘą░č鹊 ą╗ąĄč鹊ą╝ ąĖ ąĘąĖą╝ąŠą╣ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąĄąĄ
ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą▓ ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĖąĖ ąĮą░ ąĮąŠčćčī čéą░ąĘ čü ą▓ąŠą┤ąŠą╣, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠą▓čŗčüąĖčéčī ą▓ą╗ą░ąČąĮąŠčüčéčī
ą▓ąŠąĘą┤čāčģą░. ąöą░ ąĖ ą╗čÄą┤ąĖ, čćč鹊 čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ąĖ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą▓ čćąĖčéą░ą╗čīąĮčŗą╣
ąĘą░ą╗, č鹊ąČąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą║ą░ą║ąĖą╝ąĖ‑č鹊 ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ. ąóąŠ čüąĖą┤čÅčé, ąĮąĄ čĆą░ąĘą│ąĖą▒ą░čÅ čüą┐ąĖąĮčŗ,
ąĮą░ą┤ ą║ąĮąĖą│ąŠą╣ ą▓ ą┐ąŠą╗ą┐čāą┤ą░ ą▓ąĄčüąŠą╝, č鹊 čÅčĆąŠčüčéąĮąŠ čüą┐ąŠčĆčÅčé ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣. ąś čģąŠą┤čÅčé
ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓čüąĄ ą▒ąŠčĆąŠą┤ą░čéčŗąĄ, ą▒ą╗ąĄą┤ąĮčŗąĄ ą║ą░ą║ąĖąĄ‑č鹊, ąŠą┤ąĄąĮčī ąĖčģ ą▓ čĆčÅčüčŗ, čéą░ą║ čćąĖčüčéčŗąĄ
ą┐ąŠą┐čŗ. ąś ąĘą░ą┐ą░čģ ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ ą▒ąŠą╗čīąĮąŠ čāąČ ąĮąĄą┐čĆąĖą▓čŗčćąĮčŗą╣, ąĮąĄ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥čćąĮčŗą╣:
ą┐ą░čģąĮąĄčé ą▓ąŠčüą║ąŠą╝, ą╗ą░ą┤ą░ąĮąŠą╝. ąÆąĖą┤ąĮąŠ, ą║ąĮąĖą│ąĖ čŹčéąĖ čéą░ą║ ą┐čĆąŠą┐ąĖčéą░ą╗ąĖčüčī, čéą░ą║
ą┐čĆąŠą║čāčĆąĖą╗ąĖčüčī ą▓ čåąĄčĆą║ą▓ą░čģ, čćč鹊 čüą▓ąŠą╣ ą┤čāčģ ąĖ čüčÄą┤ą░ ą┐ąĄčĆąĄąĮąĄčüą╗ąĖ.
ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ą│ąŠą▓ąŠčĆ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄč鹥 ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░
čüčéą░ą╗ čćą░čēąĄ, ąĘą░ą┤ąŠčĆąĖčüč鹥ą╣, ą┐ąŠčģąŠąČąĄ, ąĘą░čüą┐ąŠčĆąĖą╗ąĖ. ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ą┐čĆąĖčłąĄą╗ čĆą░ąĮąŠ ąĖ
ą┐čĆąĖą▓ąĄą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆą░ ą╝čāąĘąĄčÅ čü čüąŠą▒ąŠą╣. ąÆčüąĄ ąĮąĄ ą╝ąŠą│čāčé ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 ą▓ąŠą┐čĆąŠčü čĆąĄčłąĖčéčī
čü ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ. ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ą┐čĆąĖčüą╗čāčłą░ą╗ą░čüčī.
ŌĆō ąØąĄčé, ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą╣ ą£ąĖčģą░ąĖą╗ ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć, ŌĆō
ą▒čāą▒ąĮąĖą╗ ą×ą╗ąŠ‑ą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓. ŌĆō ąÆčüąĄ čŹč鹊 ą┐ąŠčģąŠąČąĄ ąĮą░ ą░ą▓ą░ąĮčéčÄčĆčāŌĆ” ą» čāąČąĄ čĆą░ąĘ čü
ą▓ą░ą╝ąĖ čüą▓čÅąĘą░ą╗čüčÅ. ą» ą▓ą░ą╝ ą┤ąĄąĮčīą│ąĖ ąĮą░ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ ą┤ą░ą╗? ąöą░ą╗. ąōą┤ąĄ ąČąĄ ą▓ą░čłą░
菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ? ąóčāčé ąČąĄ ą▓čüąĄ ą▓ąĖą╗ą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą▓ąŠą┤ąĄ ą┐ąĖčüą░ąĮąŠ. ąÉ ą┐ąŠč鹊ą╝, ą┤ąŠčĆąŠą│ąŠą╣
ą£ąĖčģą░ąĖą╗ ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć, čćč鹊 čÅ ą▒čāą┤čā ąĖą╝ąĄčéčī ąŠčé čŹč鹊ą│ąŠ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖčÅ? ąÆčŗ ąČąĄ ąĄą│ąŠ
čüąĄą▒ąĄ ą┐čĆąĖą▒ąĄčĆąĄč鹥, ą░ ą╝čāąĘąĄčÄ ŌĆō ąĮą░ č鹥ą▒ąĄ ą▒ąŠąČąĄ, čćč鹊 ąĮą░ą╝ ąĮąĄą│ąŠąČąĄ.
ŌĆō ąØąĄ ą▓ąŠą╗ąĮčāą╣č鹥čüčī, čéą░ą╝ ąĖ ą┤ą╗čÅ ą▓ą░čü ą╝ąĮąŠą│ąŠ
č湥ą│ąŠ, ŌĆō ą▒čāą┤č鹊 ąŠčéčüčéčĆąĄą╗ąĖą▓ą░ą╗čüčÅ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ą» ą▒čŗą▓ą░ą╗ čā ąĮąĄą│ąŠ, ąĘąĮą░čÄ. ąÆčüąĄ,
čćč鹊 ąĮąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąŠą╣ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ.., ŌĆō čÅ ą┐ąŠą▓č鹊čĆčÅčÄ:
ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░čäąĖč湥čüą║ąŠą╣, ą░ ąĮąĄ čåąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ, ŌĆō ą▓ąŠąĘčīą╝ąĄč鹥 ą▓čŗ. ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ
ą║ąŠąĮčåąŠą▓, ą╝čāąĘąĄą╣ ŌĆō ąĮąĄ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ą░.
ŌĆō ąØąŠ ąĖ ąĮąĄ ą╝čāčüąŠčĆąĮą░čÅ čüą▓ą░ą╗ą║ą░! ŌĆō čĆąĄąĘą░ą╗
ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąÆ čéą░ą║ąŠą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ, ą┤ą░ą▓ą░ą╣č鹥 ąĘą░čĆą░ąĮąĄąĄ ąŠą▒ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╝, čćč鹊
ą║ąŠąĮą║čĆąĄčéąĮąŠ.
ŌĆō ąŻ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░ ą▓ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĖ ąĮąĄčé
ą╝čāčüąŠčĆą░, ŌĆō ąŠčéčĆčāą▒ąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąś ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ, ą╝čŗ ą┤ąĄą╗ąĖą╝ čłą║čāčĆčā ąĮąĄčāą▒ąĖč鹊ą│ąŠ
ą╝ąĄą┤ą▓ąĄą┤čÅ. ąĪąĮą░čćą░ą╗ą░ ąĮčāąČąĮąŠ čüą┐ą░čüčéąĖ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čåąĖčÄŌĆ” ąÆčŗ ąŠą▒ąĄčēą░ą╗ąĖ
ą┐čĆąŠą║ąŠąĮčüčāą╗čīčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ čü ą┐čüąĖčģąĖą░čéčĆąŠą╝, ąĮčā, ą▓ą░čłąĖą╝ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╝ŌĆ” ą¦č鹊?
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĮąĄ ą┤ąŠčüą╗čāčłą░ą╗ą░,
ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĮą░ ą┐ąŠčĆąŠą│ąĄ ąŠčéą┤ąĄą╗ą░ ą┐ąŠčÅą▓ąĖą╗čüčÅ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą▓ čüč鹥ą│ą░ąĮą║ąĄ ąĖ čüą░ą┐ąŠą│ą░čģ.
ŌĆō ąÆ ą│čĆčÅąĘąĮąŠą╣ ąŠą▒čāą▓ąĖ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ! ŌĆō
ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄą┤ąĖą╗ą░ ąŠąĮą░ ąĖ ąĘą░čüą┐ąĄčłąĖą╗ą░ ą║ ą┤ą▓ąĄčĆčÅą╝.
ŌĆō ą£ąĮąĄ ą▒čŗ č鹊ą▓ą░čĆąĖčēą░ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░ŌĆ” ŌĆō ąĮąĄčüą╝ąĄą╗ąŠ
čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą╝čāąČčćąĖąĮą░ ąĖ ąŠčéčüčéčāą┐ąĖą╗ ąĮą░ąĘą░ą┤, ą│ą╗čÅą┤čÅ ąĮą░ čüą▓ąŠąĖ čüą░ą┐ąŠą│ąĖ.
ŌĆō ą£ąĖčģą░ą╗ ą£ąĖčģą░ą╗čŗčć ąĘą░ąĮčÅčé.
ŌĆō ąØąŠ čÅ čüą┐ąĄčłčāŌĆ” ą£ąĄąĮčÅ ąČą┤ąĄčé ą╝ą░čłąĖąĮą░ŌĆ” ą£ąĮąĄ ąĮą░
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĖąĮčāčé. ąŁč鹊 ąŠč湥ąĮčī ą▓ą░ąČąĮąŠ ą┤ą╗čÅ ąĮąĄą│ąŠ, ŌĆō ą┐čĆąĖčłąĄą┤čłąĖą╣ ą│ą╗čÅą┤ąĄą╗
ąŠčéą║čĆčŗč鹊, ą┤ą░ąČąĄ ┬½ą║ą░ą║‑č鹊 ą▓ąĖąĮąŠą▓ą░č鹊 ąĖ, ą┐ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮčŗ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮčŗ,
ąŠą┐ą░čüąĮąŠčüčéąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗. ąóąĄą╝ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąŠą┤ąĄčé ąŠąĮ ą▒čŗą╗ ą║ą░ą║ čüą▓ąŠą╣ ą▒čĆą░čé
ą║ąŠą╗čģąŠąĘąĮąĖą║ŌĆ”
ą×ąĮą░ ą┤ą░ą╗ą░ ąĄą╝čā čéą░ą┐ąŠčćą║ąĖ ąĖ čüąĖąĮąĖą╣ čģą░ą╗ą░čé
ą▓ą╝ąĄčüč鹊 čäčāčäą░ą╣ą║ąĖ, ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░ ą▓ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčé.
ąś ąĄą┤ą▓ą░ ąŠąĮ čüčéčāą┐ąĖą╗ čéčāą┤ą░, ą║ą░ą║ ą│ąŠą▓ąŠčĆ čüčéąĖčģ,
ą░ ą┐ąŠč鹊ą╝ ąĖ ą▓ąŠą▓čüąĄ ą┐čĆąĄą║čĆą░čéąĖą╗čüčÅ. ąÆ ąŠčéą┤ąĄą╗ąĄ čüąĮąŠą▓ą░ ąĮą░čüčéčāą┐ąĖą╗ą░ čéąĖčłąĖąĮą░, ąĖ
č鹊ą╗čīą║ąŠ ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮčé ą▓ ą┤ą░ą╗čīąĮąĄą╝ čāą│ą╗čā čćąĖčéą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą╗ą░ ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ čłčāčĆčłą░ą╗
ą║ą░čĆč鹊čćą║ą░ą╝ąĖ ą║ą░čéą░ą╗ąŠą│ą░ŌĆ”
ŌĆō ąÆčŗ ąĮą░ą┐čĆą░čüąĮąŠ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ą║ ąŠčéčåčā, ŌĆō
ąĮą░čćą░ą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠąĮčÅą╗, ą║č鹊 ą║ ąĮąĄą╝čā ą┐čĆąĖčłąĄą╗, ąĖ
čāčüą░ą┤ąĖą╗ ąĮąĄąČą┤ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ą│ąŠčüčéčÅ ą║ ą║čĆą░čÄ čüč鹊ą╗ą░. ŌĆō ą×ąĮ ąŠč湥ąĮčī čüąĖą╗čīąĮąŠ ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĄčé
ą▓ą░čłčā ą▓čüčéčĆąĄčćčā, ą▓ąŠą╗ąĮčāąĄčéčüčÅ, ą░ čŹč鹊 ąĄą╝čā ą▓čĆąĄą┤ąĮąŠ. ą» ą│ąŠą▓ąŠčĆčÄ ą▓ą░ą╝ čŹč鹊 ą║ą░ą║
ą▓čĆą░čć. ą¤čĆąŠčłčā ą▓ą░čü ą▒ąŠą╗čīčłąĄ čéą░ą║ ąĮąĄ ą┤ąĄą╗ą░čéčī.
ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ąŠą║ąĖąĮčāą╗ ą▓ąĘą│ą╗čÅą┤ąŠą╝ ą│ąŠčüčéčÅ,
ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗:
ŌĆō ą» ą▓ą░čü ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄ. ąØąŠ čā ąĮą░čü ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ
ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ ą▓čŗčģąŠą┤ą░. ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć ą┤ąŠą╗ą│ąŠ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ čüčĆąĄą┤ąĖ čüčéą░čĆąŠąŠą▒čĆčÅą┤čåąĄą▓, čā
ąĮąĄą│ąŠ ąĄčüčéčī ą┐ąŠčäą░ą╝ąĖą╗čīąĮčŗąĄ čüą┐ąĖčüą║ąĖ, čüą┐ąĖčüą║ąĖ ą║ąĮąĖą│ŌĆ” ąÉ ą╝čŗ čüąĄą╣čćą░čü čĆą░ąĘą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ąĄą╝
ą┐čĆąŠą│čĆą░ą╝ą╝čāŌĆ”
ŌĆō ąŚąĮą░čÄ, ŌĆō ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖą╗ ąĄą│ąŠ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąØąŠ ą▓čŗ
ą┐ąŠą╣ą╝ąĖč鹥: ąŠč鹥čå ą▒ąŠą╗ąĄąĮ! ąĢą│ąŠ ąĮąĄą╗čīąĘčÅ ą▓ąŠą╗ąĮąŠą▓ą░čéčī. ąŻ ąĮąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą▓ąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ
ą┐ą░čĆą░ąĮąŠą╣čÅ. ąŁčéą░ą║ąŠąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĄąĮąĮąŠąĄ ąČąĄą╗ą░ąĮąĖąĄ ą┐ąĄčĆąĄčāčüčéčĆąŠąĖčéčī ą╝ąĖčĆ, ąČą░ąČą┤ą░
ąĮąŠą▓čłąĄčüčéą▓ą░ŌĆ” ąóčÅąČąĄą╗čŗąĄ ą▒čĆąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĮąĖčÅ.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ąĖ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą┐ąĄčĆąĄą│ą╗čÅąĮčāą╗ąĖčüčī.
ŌĆō ąÆčŗ čŹč鹊 ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖč鹥 ą║ą░ą║ ą▓čĆą░čć? ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗
čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī.
ŌĆō ąöą░ŌĆ” ą¤čĆą░ą▓ą┤ą░, čÅ ąĮąĄ ą┐čüąĖčģąĖą░čéčĆŌĆ” ąĮąŠ čā ąĮąĄą│ąŠ
ą▓čüąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąĖ, ŌĆō ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ąĘą░ą┤čāą╝ą░ą╗čüčÅ, ą┐ąĄčĆąĄą▓ąĄą╗ ą┤čāčģ. ŌĆō ąĢą│ąŠ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą┤ąŠą╗ą│ąŠ
ąĮąĄ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ą╗ąĖ, ą░ ąŠąĮ ą▒ąŠčĆąŠą╗čüčÅ ą▓čüčÄ ąČąĖąĘąĮčī. ąŁč鹊 čāąČąĄ, čéą░ą║ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čé
ąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąČąĖą▓ą░ąĮąĖą╣. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čüąĖą┤ąĖčé, čüąŠčćąĖąĮčÅąĄčé ą║ą░ą║ąŠą╣‑č鹊 čüą║ą░ąĘ ąŠ
čüčāą┤čīą▒ąĄ ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéąĖ ąĖ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆčŗ ąĮą░ ąĀčāčüąĖŌĆ” ąöąĮąĄą╝ ą┐ąĖčłąĄčé, ą░ ą┐ąŠ ąĮąŠčćą░ą╝
čćąĖčéą░ąĄčé ą╝ąĮąĄ. ą×ąĮ ąĮąĄą╝ąĮąŠą│ąŠ čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗čüčÅ ąĘą░ čŹč鹊ą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹊ą╣, ą▓ čüąĄą▒čÅ ą┐čĆąĖčłąĄą╗.
ŌĆō ą£ąĄą╝čāą░čĆčŗ? ŌĆō čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ čü
ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąŠą╝. ŌĆō ąŚąĮą░ąĄč鹥, čÅ ą▓ąĄą┤čī č鹊ąČąĄ ą▒ą░ą╗čāčÄčüčīŌĆ” ąØą░ čĆą░ą▒ąŠč鹥 ąĘą░ ą┤ąĄąĮčī
ąĮą░ą║čĆčāčéąĖčłčīčüčÅ, ą░ ą▓ąĄč湥čĆąŠą╝ čŹčéą░ą║ čüčÅą┤ąĄčłčī, ąĘą░ą┤čāą╝ą░ąĄčłčīčüčÅ, ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖčłčī ąČąĖąĘąĮčī
čüą▓ąŠčÄ, ąĖ čéą░ą║ąŠąĄ ąŠčüą▓ąŠą▒ąŠąČą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░čüčéčāą┐ą░ąĄčéŌĆ”
ą×ąĮ ą▓ą┤čĆčāą│ ąŠčüąĄą║čüčÅ ąĖ čüą╝čāčēąĄąĮąĮąŠ čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ.
ŌĆō ą» ą┤čŗčłą░čéčī ąĮą░ ąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÄčüčī, ŌĆō ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ, ą▓čŗąČą┤ą░ą▓ ą┐ą░čāąĘčā. ŌĆō ą¤čāčüą║ą░ą╣ ą┐ąĖčłąĄčé, č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊ą▒čŗ ąŠą▒ąŠčüčéčĆąĄąĮąĖą╣ ąĮąĄ
ą▒čŗą╗ąŠŌĆ” ąÜčüčéą░čéąĖ, ą£ąĖčģą░ąĖą╗ ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć, ą▓čŗ ąĘąĮą░ąĄč鹥 čćč鹊‑ąĮąĖą▒čāą┤čī ąŠ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ
čüčéą░čĆčåą░ ąöąĖą▓ąĄčÅ?.. ąØčā, ą▒čāą┤č鹊 ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮą░ ąŠąĮą░ ąĄčēąĄ ą┤ąŠ ą║čĆąĄčēąĄąĮąĖčÅ ąĀčāčüąĖ ą║ą░ą║ąĖą╝‑č鹊
ąĮąĄą▓ąĄą┤ąŠą╝čŗą╝ ą┐ąĖčüčīą╝ąŠą╝? ąśą╗ąĖ čŹč鹊 č鹊ąČąĄŌĆ” ą▓čŗą╝čŗčüąĄą╗ ąŠčéčåą░?
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą│čĆčāčüčéąĮąŠ čāčüą╝ąĄčģąĮčāą╗čüčÅ,
ą┐ąŠčüąĄčĆčīąĄąĘąĮąĄą╗.
ŌĆō ąØąĄ ąĘąĮą░čÄŌĆ” ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć čćč鹊‑č鹊 čéą░ą║ąŠąĄ
ą╝ąĮąĄ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ŌĆ” ąÜą░ą║ ą▓ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║čāčÄ ą▓ąŠą╣ąĮčā ąĖčüą║ą░čéčī ąĄąĄ ąĄąĘą┤ąĖą╗ŌĆ” ąöą░ ąĖ ą▒čāą┤č鹊
ąĮą░čģąŠą┤ąĖą╗ ąĄąĄ, ąĮąŠ č鹊 ą╗ąĖ ą┐ąŠč鹥čĆčÅą╗, č鹊 ą╗ąĖ čāą║čĆą░ą╗ąĖŌĆ” ą×ąĮ ą▓čüąĄ čģąŠč鹥ą╗ ą┤ąŠą║ą░ąĘą░čéčī,
čćč鹊 ą┐ąĖčüčīą╝ąĄąĮąĮąŠčüčéčī ąĮą░ ąĀčāčüąĖ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą╗ą░ ąĮą░ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ąĄą║ąŠą▓ čĆą░ąĮčīčłąĄ ą┐čĆąĖčģąŠą┤ą░
ąÜąĖčĆąĖą╗ą╗ą░ ąĖ ą£ąĄč乊ą┤ąĖčÅ. ąÉ čŹč鹊 ąĮąĄą┤ąŠą║ą░ąĘčāąĄą╝ąŠ!
ŌĆō ą×č鹥čå ą▓čüąĄą│ą┤ą░ čü čéą░ą║ąĖą╝ ąČą░čĆąŠą╝ ą╝ąĮąĄ
čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ ąŠą▒ čŹč鹊ą╣ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ, ŌĆō ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣, ŌĆō čü
ą┤ąĄčéčüčéą▓ą░ ą┐ąŠą╝ąĮčÄŌĆ”
ŌĆō ąØąĄčé‑ąĮąĄčé, ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ąØąĖą║ąĖčéąĖčć, čŹč鹊
ąĮąĄą┤ąŠą║ą░ąĘčāąĄą╝ąŠ, ŌĆō ą▓čüčéčĆčÅčģąĮčāą╗čüčÅ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąØąĄ ąĘąĮą░čÄ, čćčīčÅ čŹč鹊 ą▓čŗą┤čāą╝ą║ą░, ąĮąŠ ąŠ
čéą░ą║ąŠą╣ čĆčāą║ąŠą┐ąĖčüąĖ ą▓ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░čģ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĮąĖčÅ ąĮąĄčé. ąś ąŠ čüčéą░čĆčåąĄ čéą░ą║ąŠą╝ ąĮąĄ
čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčéčüčÅŌĆ” ą×ąĮ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ čćčāą┤ą░ą║ąŠą▓ą░čéčŗą╣ ŌĆō ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć.
ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčé, ąĖ čŹč鹊 ą▒čĆąĄą┤, ŌĆō ą▓ąĘą┤ąŠčģąĮčāą╗
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąÉ čÅ ą▓čüąĄ‑čéą░ą║ąĖ ąĮą░ą┤ąĄčÅą╗čüčÅŌĆ” ąĪą┐čĆąŠčüąĖčéčī ąĮąĄ čā ą║ąŠą│ąŠ ą▒čŗą╗ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ
ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆąĖčéčīŌĆ”
ŌĆō ąöą░, čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ, ą▒ąŠą╗čīąĮąŠąĄ
ą▓ąŠąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄ, ŌĆō ą┐ąŠą┤čŗč鹊ąČąĖą╗ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī. ŌĆō ąĪąŠą▒ąĖčĆą░č鹥ą╗ąĖ, ąŠąĮąĖ ą▓čüąĄ čćčāą┤ą░ą║ąĖ. ą»
čü ąĮąĖą╝ąĖ, čüą╗ą░ą▓ą░ ąæąŠą│čā, ą▓čüčéčĆąĄčćą░ą╗čüčÅ.
ŌĆō ąÆčüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ, ą┐čāčüą║ą░ą╣ ą┐ąĖčłąĄčé, ŌĆō ąĘą░ą┤čāą╝čćąĖą▓ąŠ
ą┐čĆąŠąĖąĘąĮąĄčü ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣. ŌĆō ąĢą╝čā čüąĄą╣čćą░čü ąĮąĄ ąĮą░ą┤ąŠ ą╝ąĄčłą░čéčī.
ŌĆō ą×ąĮ ą│ą┤ąĄ‑ąĮąĖą▒čāą┤čī čüąŠčüč鹊ąĖčé ąĮą░ čāč湥č鹥? ŌĆō
ąŠčüč鹊čĆąŠąČąĮąŠ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ąØčā, ą║ą░ą║ čŹč鹊čéŌĆ” ą║ą░ą║
ą┤čāčłąĄą▓ąĮąŠą▒ąŠą╗čīąĮąŠą╣?
ŌĆō ąØąĄčé, ąĘą░č湥ą╝ ąČąĄ, ŌĆō ą▓ąŠąĘą╝čāčéąĖą╗čüčÅ
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣. ŌĆō ą×č鹥čå ą┐ąŠą┤ ą╝ąŠąĖą╝ ąĮą░ą▒ą╗čÄą┤ąĄąĮąĖąĄą╝, čŹč鹊ą│ąŠ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ.
ą×čéčåą░ ąĘąĮą░ąĄčé čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą╝ąĮąŠą│ąŠ ą╗čÄą┤ąĄą╣ŌĆ” ŌĆō ąŠąĮ ąĘą░ą╝čÅą╗čüčÅ. ŌĆō ąØąĄ čģąŠč鹥ą╗ąŠčüčī ą▒čŗ,
čćč鹊ą▒čŗ ąŠ ąĮąĄą╝ ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗ąĖ, ą║ą░ą║ŌĆ” ąŁč鹊 ąĮą░čłą░ čüąĄą╝ąĄą╣ąĮą░čÅ čéą░ą╣ąĮą░, ąĄčüą╗ąĖ čģąŠčéąĖč鹥. ąÉ
ą▓ą░ą╝ čÅ čĆą░čüčüą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą▓čŗ ąĘąĮą░ą╗ąĖ ą┐čĆą░ą▓ą┤čā ąĖ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ąĖ
ąŠčéčåą░ ą▓ ą┐ąŠą║ąŠąĄ. ą» čćčāą▓čüčéą▓čāčÄ, ą▓čŗ ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ ąĮąĄ ąŠčéčüčéą░ąĮąĄč鹥 čü čŹčéąĖą╝ąĖ
ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ąĖ. ąóą░ą║ čćč鹊 čÅ ą▓ą░čü ą┐čĆąĄą┤čāą┐čĆąĄąČą┤ą░čÄ. ąÆčŗ ą┐ąŠą╣ą╝ąĖč鹥, čÅ ą▓čŗąĮčāąČą┤ąĄąĮ! ą£ąŠą╣
ąŠč鹥čå ŌĆō ą│ąĄčĆąŠą╣ ą│čĆą░ąČą┤ą░ąĮčüą║ąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░čä, ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ ą║ąŠąĮčåąŠą▓,
ąĖąĮą▓ą░ą╗ąĖą┤ŌĆ” ąśą╝ąĄąĄčé ą┐čĆą░ą▓ąŠ ąŠąĮ čģąŠčéčī čüąĄą╣čćą░čü ą┐ąŠąČąĖčéčī čüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ?
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą▓ą┤čĆčāą│ čüčéą░ą╗ ąĘą░ą┤čŗčģą░čéčīčüčÅ, ą▒ąŠą╗čī
čüą┤ą░ą▓ąĖą╗ą░ ą│čĆčāą┤čī, čüčéąĖčüąĮčāą╗ą░ čüąĄčĆą┤čåąĄ. ą×ąĮ ą╝ą░čłąĖąĮą░ą╗čīąĮąŠ ąŠą┐čāčüčéąĖą╗ čĆčāą║čā ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ,
ą│ą┤ąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą╗ąĄąČą░ą╗ ąĖąĮą│ą░ą╗čÅč鹊čĆ, ąĮąŠ čéčāčé ąČąĄ ą▓čüą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗, čćč鹊 čü čāčéčĆą░ ąĮą░ą┤ąĄą╗
ą┤čĆčāą│ąŠą╣ ą┐ąĖą┤ąČą░ą║. ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ą┐ąŠčüčéą░čĆą░ą╗čüčÅ čĆą░čüčüą╗ą░ą▒ąĖčéčīčüčÅ, čüą┤ąĄą╗ą░ą▓ ą│čāą▒čŗ
čéčĆčāą▒ąŠčćą║ąŠą╣, ą┐ąŠčéčÅąĮčāą╗ ą▓ąŠąĘą┤čāčģ.
ŌĆō ąÉ čā ą▓ą░čü ąŠą┤čŗčłą║ą░? ąÉčüčéą╝ą░? ŌĆō
ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗čüčÅ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣.
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┐ąŠą║ąĖą▓ą░ą╗, ą▒ą░ą│čĆąŠą▓ąĄčÅ ąĖ ą┐čĆąĖą║čĆčŗą▓ą░čÅ
ą▓čŗčģąŠą┤čÅčēąĖąĄ ąĖąĘ ąŠčĆą▒ąĖčé ą│ą╗ą░ąĘą░.
ŌĆō ąĪčéą░čĆą░ą╣č鹥čüčī ą┤čŗčłą░čéčī ąĮąŠčüąŠą╝, ŌĆō
ą┐ąŠčüąŠą▓ąĄč鹊ą▓ą░ą╗ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ąĖ, ą╗ąŠą▓ą║ąŠ čĆą░čüčüč鹥ą│ąĮčāą▓ čĆčāą▒ą░čłą║čā ąĮą░ ąĄą│ąŠ ą│čĆčāą┤ąĖ, ąĮą░čćą░ą╗
ą╝ą░čüčüąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą║ąŠąČčā ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą║ą╗čÄčćąĖčå. ŌĆō ąÆą┤ąŠčģ ŌĆō ą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą▓čŗą┤ąŠčģŌĆ” ąØčā, ąĮčā
ą┤ą░ą▓ą░ą╣č鹥!
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ ą┤čŗčłą░ą╗ čü čģčĆąĖą┐ąŠą╝, čĆčāą║ąĖ čéčĆčÅčüą╗ąĖčüčī,
ąĮąĄą╝ąĄą╗ąĖ ą│čāą▒čŗ. ą¦ąĄčĆąĄąĘ ą╝ąĖąĮčāčéčā ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ ą║ąŠąĮčćąĖą╗čüčÅ, ąĖ čüčĆą░ąĘčā ąĮą░ą▓ą░ą╗ąĖą╗ą░čüčī
čüą╗ą░ą▒ąŠčüčéčī, čāčüčéą░ą╗ąŠčüčéčī. ą¤ąĄčĆąĄą┐čāą│ą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ ą▒čĆčÅą║ą░ą╗ ą│čĆą░čäąĖąĮąŠą╝,
ąĮą░ą╗ąĖą▓ą░čÅ ą▓ąŠą┤čā ą▓ čüčéą░ą║ą░ąĮ. ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ čāč鹥čĆ ą┐ą╗ą░čéą║ąŠą╝ ą╗ąŠą▒, ą╗ąĖčåąŠ, ąŠčéą║ąĖąĮčāą╗čüčÅ ą▓
ą║čĆąĄčüą╗ąĄ.
ŌĆō ąÆąŠą┤čŗ ąĮąĄ ąĮčāąČąĮąŠ, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ, ąĖ
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ čāą▒čĆą░ą╗ ą│čĆą░čäąĖąĮ. ŌĆō ąÆąŠą┤ą░ ą╝ąŠąČąĄčé ą▓čŗąĘą▓ą░čéčī ąĮąŠą▓čŗą╣
ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ŌĆ” ąōą┤ąĄ ą▓čŗą╗ąĄčćąĖč鹥čüčī, ą£ąĖčģą░ąĖą╗ ą£ąĖčģą░ą╣ą╗ąŠą▓ąĖčć?
ŌĆō ąÆ čüą▓ąŠąĄą╣ŌĆ” ą┐ąŠą╗ąĖą║ą╗ąĖąĮąĖą║ąĄ, ŌĆō ą▓čŗą┤ąŠčģąĮčāą╗
ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąōąŠą▓ąŠčĆčÅčé, ą▒ąĄčüą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠŌĆ” ą║ąŠąĮčüčāą╗čīčéąĖčĆąŠą▓ą░ą╗čüčÅŌĆ” ąØą░ ąĮąĄčĆą▓ąĮąŠą╣ ą┐ąŠčćą▓ąĄ
ą░čüčéą╝ą░, ą│ąŠą▓ąŠčĆčÅčéŌĆ”
ŌĆō ąÆčŗ ą┐čĆąĖą┤ąĖč鹥 ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ, ŌĆō
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą┐ąŠąĖčüą║ą░ą╗ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ čāą╝čŗą▓ą░ą╗čīąĮąĖą║, ŌĆō ą┐čĆąĖą▓čŗčćą║ą░ ą▓čĆą░č湥ą╣, ŌĆō
ąĮąŠ, ąĮąĄ ąĮą░ą╣ą┤čÅ/ą▓čüčéčĆčÅčģąĮčāą╗ čĆčāą║ąĖ ąĖ čüąĄą╗ ąĮą░ ą╝ąĄčüč鹊. ŌĆō ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĮąĄ ą┤ąŠą╝ąŠą╣, ą░ ą▓
ą▒ąŠą╗čīąĮąĖčåčā. ą» ą▓ą░ą╝ ą┐ąŠą┤ą▒ąĄčĆčā čéčĆą░ą▓čŗ.
ŌĆō ąĪą┐ą░čüąĖą▒ąŠ, ŌĆō ą▒čĆąŠčüąĖą╗ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī, ą┐čĆąĖčģąŠą┤čÅ
ą▓ čüąĄą▒čÅ. ŌĆō ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ čćč鹊‑č鹊 ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠ čćą░čüč鹊ŌĆ” ąŁčģ, čĆą░ąĮčīčłąĄ, ą▒čŗą▓ą░ą╗ąŠ,
čÅ čü ą▓ą░čłąĖą╝ ąŠčéčåąŠą╝ ą▓ ą┤ąĄąĮčī ą┐ąŠ čüąŠčĆąŠą║ ą║ąĖą╗ąŠą╝ąĄčéčĆąŠą▓ čģąŠą┤ąĖą╗, ąĖ ąĮąĖč湥ą│ąŠŌĆ” ąöą░,
ą┐ąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą╝čŗ čü ąØąĖą║ąĖč鹊ą╣ ąĢą▓čüąĄąĖč湥ą╝ŌĆ” ą×ąĮ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄąĘąŠą▓ąŠą╣ ąĮąŠą│ąĄ, ą░
čāą│ąĮą░čéčīčüčÅ ąĘą░ ąĮąĖą╝ ŌĆō ąŠą│ąŠ! ąÜč鹊 ą▒čŗ ą╝ąŠą│ ą┐ąŠą┤čāą╝ą░čéčī, čćč鹊 čéą░ą║ąĖą╝ąĖ ą▓ąŠčé čüčéą░ąĮąĄą╝? ąÉ
čéčĆą░ą▓čŗ? ą¦č鹊 čéčĆą░ą▓čŗ! ąöą░ą▓ą░ą╗ąĖ ą╝ąĮąĄ, ą┐ąĖą╗ŌĆ”
ŌĆō ą» ą▓ą░ą╝ ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠą╣ čéčĆą░ą▓čŗ ą┤ą░ą╝, ą┐ąŠ
čüčéą░čĆąŠą╝čā čĆąĄčåąĄą┐čéčā, ŌĆō ąĘą░ą▓ąĄčĆąĖą╗ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąś ąĮąĄ ą┐ąĖčéčī, ą░ ąĖąĮą│ą░ą╗čÅčåąĖčÄ ą┤ąĄą╗ą░čéčī.
ą» čā ąŠčéčåą░ ą▓ ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ ąĮą░čłąĄą╗ čāąĮąĖą║ą░ą╗čīąĮčāčÄ ą▓ąĄčēčī ŌĆō čéčĆą░ą▓ąĮąĖą║. ą×č鹥čå ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé,
čłąĄčüčéąĮą░ą┤čåą░č鹊ą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░ŌĆ” ą» ąĮą░čćą░ą╗ ąĘą░ąĮąĖą╝ą░čéčīčüčÅ ąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ą╝ąĄą┤ąĖčåąĖąĮąŠą╣, ąĖ
čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ čāąČąĄ ąĄčüčéčī. ąÉ ą▓ čŹč鹊ą╝ čéčĆą░ą▓ąĮąĖą║ąĄ ŌĆō čĆąĄčåąĄą┐čéčŗ ąŠčé ą▓čüąĄčģ ą▒ąŠą╗ąĄąĘąĮąĄą╣,
ąĮą░ąĖą▓ąĮčŗąĄ, ą▒ąĄąĘčāčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ, ŌĆō ąŠąĮ čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ, ŌĆō ąĮąŠ ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ąŠč湥ąĮčī ą╝ąĮąŠą│ąŠ. ąóąĄą╝
ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüąĄą╣čćą░čü ą▓čüąĄ ąĘą░ą▒čŗč鹊, ąĮą░ą┤ąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄčĆčÅčéčī, čüčéą░ą▓ąĖčéčī 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéčŗŌĆ”
ą¤čĆąĖčģąŠą┤ąĖč鹥, ąŠčé ą░čüčéą╝čŗ čā ą╝ąĄąĮčÅ čāąČąĄ ą║ąŠąĄ‑čćč鹊 ąĄčüčéčī.
ąźčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ą▓čŗą┐čĆčÅą╝ąĖą╗čüčÅ, ą▓ąĘčÅą╗čüčÅ čĆčāą║ąŠą╣ ąĘą░
ą│ąŠčĆą╗ąŠ, ą▒čāą┤č鹊 čā ąĮąĄą│ąŠ ąĮą░čćąĖąĮą░ą╗čüčÅ ąĮąŠą▓čŗą╣ ą┐čĆąĖčüčéčāą┐, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ čéąĖčģąŠ, ą▒ąĄąĘ
ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĖčÅ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗:
ŌĆō ąŚąĮą░čćąĖčéŌĆ” ą▓čŗ ą▒čŗą▓ą░ąĄč鹥 čā ąŠčéčåą░ ą▓
ą▒ąĖą▒ą╗ąĖąŠč鹥ą║ąĄ?
ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ą┐ąŠąČą░ą╗ ą┐ą╗ąĄčćą░ą╝ąĖ, ą┤ąĄčüą║ą░čéčī, ąĮčā ą░
ą║ą░ą║ ąČąĄ? ąŁč鹊 ąĄčēąĄ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ąĖą╗ąŠ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓ą░. ą×ąĮ ą▓čüčéą░ą╗ čü ą║čĆąĄčüą╗ą░ ąĖ
ą┐čĆąŠčłąĄą╗čüčÅ ą┐ąŠ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄčéčā. ąśąĮčéčāąĖčéąĖą▓ąĮąŠ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║čłą░čÅ čā ąĮąĄą│ąŠ ą╝čŗčüą╗čī, ąĄą┤ą▓ą░
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĄčłą░ą│ąĮčāą╗ ą┐ąŠčĆąŠą│, č鹥ą┐ąĄčĆčī čüąĮąŠą▓ą░ čłąĄą▓ąĄą╗čīąĮčāą╗ą░čüčī ą▓
ą╝ąŠąĘą│čā.
ŌĆō ą», ą║ą░ąČąĄčéčüčÅ, ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄ, ŌĆō ąŠą┐ąĄčĆąĄą┤ąĖą╗
ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąŻ ą▓ą░čü ąĖąĘ‑ąĘą░ čŹčéąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ čüčĆčŗą▓ą░ąĄčéčüčÅ čŹą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÅ.
ŌĆō ąöą░! ąöą░! ąĪ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ąĖ ą╝čŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ąĮą░
ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╗ąĄčé ą┐čĆąĖą▒ą╗ąĖąĘąĖčéčī č鹊čé čćą░čü, ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą╝ąĄčćčéą░ą╗ ąØąĖą║ąĖčéą░ ąĢą▓čüąĄąĖčć! ŌĆō
ą│ąŠčĆčÅč湊 ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąØą░ čĆą░ąĘą▓ąĄą┤ąŠčćąĮčŗąĄ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖąĖ ąĮą░ą╝ ąĮčāąČąĮąŠ ą│ąŠą┤ą░
čéčĆąĖ, ąĮąĄ ą╝ąĄąĮčīčłąĄ, ą░ ąĖą╝ąĄčÅ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ, ą╝čŗ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ą▒čŗ ąĮą░čćą░čéčī čüą▒ąŠčĆ ą║ąĮąĖą│
ąĮąĄą╝ąĄą┤ą╗ąĄąĮąĮąŠ. ąÆčŗ ą┐ąŠą╣ą╝ąĖč鹥, ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ąØąĖą║ąĖčéąĖčć, ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░čÄčé ą▒ąĄčüčåąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ. ąś
ą▒čāą┤čī ą▓ą░čł ąŠč鹥čå ą▓ ąĘą┤čĆą░ą▓ąŠą╝ čāą╝ąĄ ŌĆō ąŠąĮ ą▒čŗ ą┤ą░ą╗, čÅ ąĮąĄ čüąŠą╝ąĮąĄą▓ą░čÄčüčī. ąØąŠŌĆ”
ŌĆō ą» ą▓ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĄ ą╝ąŠą│čā ą▓ą░ą╝ ą┐ąŠą╝ąŠčćčī, ŌĆō
ąĘą░ą┤čāą╝čćąĖą▓ąŠ ą┐čĆąŠą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ą£ąĮąĄ čŹč鹊 ąĮąĄčéčĆčāą┤ąĮąŠ.
ŌĆō ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓čŗ ą┐ąŠą╣ą╝ąĖč鹥 ąŠą┤ąĮąŠ, ŌĆō čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī
ąŠčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą╗čüčÅ ąĮą░ą┐čĆąŠčéąĖą▓ ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓ą░‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĄą│ąŠ. ŌĆō ąŁč鹊 ąĮčāąČąĮąŠ ąĮąĄ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓čā
ą╗ąĖčćąĮąŠ, ąĖ ąĮąĄ ąĄą╝čā ą▓ąŠąĮ, ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆčā ą╝čāąĘąĄčÅ. ąŁč鹊 ąĮčāąČąĮąŠ ą▓čüąĄą╝ ąĮą░ą╝,
ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓čā.
ŌĆō ąØąĄ ąĮą░ą┤ąŠ ą╝ąĄąĮčÅ ą░ą│ąĖčéąĖčĆąŠą▓ą░čéčī, ŌĆō
čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ. ŌĆō ąØąĄ ąĘą░ą▒čŗą▓ą░ą╣č鹥, čćč鹊 čÅ čüčŗąĮ ą░čĆčģąĄąŠą│čĆą░čäą░ ąĖ čü ą╝ą╗ą░ą┤čŗčģ
ąĮąŠą│č鹥ą╣ ąĘąĮą░čÄ, čćč鹊 ąĄčüčéčī ą┤čĆąĄą▓ąĮčÅčÅ ą║ąĮąĖą│ą░ŌĆ” ą£ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ čÅ ą▓ą░ą╝ ą┐čĆąĖąĮąĄčüčā.
ąóąŠą╗čīą║ąŠ, čĆą░ą┤ąĖ ąæąŠą│ą░, ą▓čŗ čüą░ą╝ąĖ ą▒ąĄąĘ ą╝ąŠąĄą│ąŠ ą▓ąĄą┤ąŠą╝ą░ ąĮąĄ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅą╣č鹥čüčī ą▓ ąĮą░čłąĄą╝
ą┤ąŠą╝ąĄ. ąś čüą▓ąŠąĖčģ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ąŠą▓ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčüčŗą╗ą░ą╣č鹥.
ąōčāą┤ąŠčłąĮąĖą║ąŠą▓‑ą╝ą╗ą░ą┤čłąĖą╣ ą▓čüčéą░ą╗ ąĖ ą▓ą┤čĆčāą│
ąĘą░č鹊čĆąŠą┐ąĖą╗čüčÅ:
ŌĆō ą¤čĆąŠčüčéąĖč鹥, ą╝ąĄąĮčÅ ą╝ą░čłąĖąĮą░ ąČą┤ąĄčé, ąĮą░
ąŠą▓ąŠčēąĄčģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčēąĄ ąĄą┤ąĄą╝ŌĆ” ą» ą▓ą░ą╝ ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮčÄ ąĮą░ čŹč鹊ą╣ ąĮąĄą┤ąĄą╗ąĄ.
ŌĆō ąś ą▓ą░čü č鹊ąČąĄ ą│ąŠąĮčÅčÄčé ą║ą░čĆč鹊賹║čā
ą┐ąĄčĆąĄą▒ąĖčĆą░čéčī? ŌĆō čāą╗čŗą▒ąĮčāą╗čüčÅ, ą┐čĆąŠčēą░čÅčüčī, ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ą£čŗ ą┐ąŠ ą│čĆą░čäąĖą║čā ą▓ č湥čéą▓ąĄčĆą│
ąĄą┤ąĄą╝ŌĆ” ąÉ ą▓ čüčĆąĄą┤čā ąŠą▒čÅąĘą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠąĘą▓ąŠąĮąĖč鹥!
ŌĆō ąÉ ą╝čŗ ŌĆō ą▓ čüčāą▒ą▒ąŠčéčā! ŌĆō č湥ą╝čā‑č鹊
ąŠą▒čĆą░ą┤ąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆ ą╝čāąĘąĄčÅ. ŌĆō ą¤ą╗ą░ąĮ ŌĆō ą┐ąŠ č鹊ąĮąĮąĄ ąĮą░ čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║ą░.
ąÆčŗčģąŠą┤ąĖčé, ą▓čüąĄ ą┐ąŠą▓čÅąĘą░ąĮčŗŌĆ”
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ čüąĮčÅą╗ą░ čü ą┐ąŠčüąĄčéąĖč鹥ą╗čÅ
čéą░ą┐ąŠčćą║ąĖ, čģą░ą╗ą░čé ąĖ, ą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĖą▓ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąŠą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ą░ ąĘą░ ą┤ą▓ąĄčĆąĖ, čüąĄą╗ą░ ąĮą░
ą┐čĆąĄąČąĮąĄąĄ ą╝ąĄčüč鹊 ŌĆō ąĘą░ ą▒ą░čĆčīąĄčĆ. ąÆ ą║ą░ą▒ąĖąĮąĄč鹥 čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čÅ ą▓ąĮąŠą▓čī ąĘą░ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ąĖ
ą│čĆąŠą╝ą║ąŠ ąĖ ąŠčéčĆčŗą▓ąĖčüč鹊.
ŌĆō ąōą┤ąĄ ąČąĄ ąÉąĮąĮą░? ŌĆō čüą┐čĆą░čłąĖą▓ą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓, ąĖ
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ čüą╗čŗčłą░ą╗ą░, ą║ą░ą║ čüą║čĆąĖą┐ąĖčé ą┐ą░čĆą║ąĄčé ą┐ąŠą┤ ąĄą│ąŠ ąĮąŠą│ą░ą╝ąĖ. ŌĆō ąōą┤ąĄ
ąĄąĄ čüąĄą│ąŠą┤ąĮčÅ ąĮąŠčüąĖčé? ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ ą║ąŠąĮčåąŠą▓, ą║č鹊 ąĄą┤ąĄčé ą▓ 菹║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ: čÅ ąĖą╗ąĖ ąŠąĮą░?
ąÉ ą│ą┤ąĄ ą▓ą░čł čüąŠčéčĆčāą┤ąĮąĖą║, č鹊ą▓ą░čĆąĖčē ą╝čāąĘąĄą╣čēąĖą║? ąöąŠą│ąŠą▓ą░čĆąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī čāčéčĆąŠą╝
čüąŠą▒čĆą░čéčīčüčÅ ąĘą┤ąĄčüčī!
ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓ č鹊 ą╗ąĖ ąĮąĄ ąŠčéą▓ąĄčćą░ą╗, č鹊 ą╗ąĖ
ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą╗ ąŠč湥ąĮčī čéąĖčģąŠ. ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗:
ŌĆō ąÉ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮ ą║ą░ą║ąŠą▓ ą╝ąŠą╗ąŠą┤ąĄčå, ą░? ą¤čĆąĖčÅčéąĮą░čÅ
ąĮąĄąŠąČąĖą┤ą░ąĮąĮąŠčüčéčī. ą» ąĄą│ąŠ ą╝ą░ą╗čīčćąĖčłą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╝ąĮčÄ, čģčāą┤ąĄąĮčīą║ąĖą╣ ą▒čŗą╗, ą▒ą╗ąĄą┤ąĮčŗą╣ čéą░ą║ąŠą╣ŌĆ”
ą£ą░čéčī čā ąĮąĖčģ ą▓ ą▒ą╗ąŠą║ą░ą┤čā ą┐ąŠą│ąĖą▒ą╗ą░, ą▓ ąøąĄąĮąĖąĮą│čĆą░ą┤ąĄ, ą░ ąĪč鹥ą┐ą░ąĮą░ 菹▓ą░ą║čāąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ąĖ.
ŌĆō ą¦č鹊‑č鹊 ą╝ąĮąĄ ąĮąĄ ąĮčĆą░ą▓ąĖčéčüčÅ ą▓čüąĄ čŹč鹊, ŌĆō
ą▓ą┤čĆčāą│ čüą║ą░ąĘą░ą╗ ą×ą╗ąŠą▓čÅąĮąĖčłąĮąĖą║ąŠą▓.
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĮą░čüč鹊čĆąŠąČąĖą╗ą░čüčī:
ą░čüą┐ąĖčĆą░ąĮčé ą▓ąŠąĘą╗ąĄ ą║ą░čéą░ą╗ąŠą│ą░ čćč鹊‑č鹊 č鹊čĆąŠą┐ą╗ąĖą▓ąŠ ą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą▓ ą║ą░čĆą╝ą░ąĮ. ą×ąĮą░
ą┐čĆąĖą▓čüčéą░ą╗ą░, ą▓čŗą│ą╗čÅą┤čŗą▓ą░čÅ ąĖąĘ‑ąĘą░ ą▒ą░čĆčīąĄčĆą░ ąĖ čēčāčĆčÅ ą▒ą╗ąĖąĘąŠčĆčāą║ąĖąĄ ą│ą╗ą░ąĘą░. ąØąĄčé,
ą▓čüąĄ ą▓ ą┐ąŠčĆčÅą┤ą║ąĄ, ą┐ą╗ą░č鹊ą║ ą┐čĆčÅč湥čé, ąĮąŠčü ą▓čŗčéąĖčĆą░ą╗. ąĪčŗčĆąŠ ąĮą░ čāą╗ąĖčåąĄ, ą░ ąĮą░čĆąŠą┤,
čćč鹊 čŹčéąĖ ą║ąĮąĖą│ąĖ čćąĖčéą░ąĄčé, čģąĖą╗čŗą╣, č鹊 ą║ą░čłą╗čÅąĄčé, č鹊 čćąĖčģą░ąĄčé, ą░ č鹊, ą║ą░ą║
čģčĆą░ąĮąĖč鹥ą╗čī, ąĘą░ą┤čŗčģą░ąĄčéčüčÅ.
ŌĆō ąÆčüąĄ čŹč鹊 ąĮą░ ą║čĆą░ąČčā ą┐ąŠčģąŠą┤ąĖčé, ŌĆō čüą╗čāčłą░ą╗ą░
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░. ŌĆō ąźąŠčéčī čüčŗąĮ čā ąŠčéčåą░, ąĮąŠ ą▓čüąĄ čĆą░ą▓ąĮąŠ ą║čĆą░ąČą░ŌĆ” ąÜąŠą│ą┤ą░ čÅ
čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆąŠą╝ čäąĖą╗ą░čĆą╝ąŠąĮąĖąĖ, ą▒čŗą╗ čā ąĮą░čü čüą╗čāčćą░ą╣, ą║ąŠąĮčåąĄčĆčéąĮčŗąĄ ą░čäąĖčłąĖ
ą┐čĆąŠą┐ą░ą╗ąĖŌĆ”
ŌĆō ąĪąĄą╣čćą░čü ą╝ąĄąĮčÅ ąĮąĄ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüčāąĄčé, čćč鹊 čā ą▓ą░čü
čéą░ą╝ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ą░ą╗ąŠ, ŌĆō ąŠčéčĆąĄąĘą░ą╗ ąÉčĆąŠąĮąŠą▓. ŌĆō ąÉ ą▓ąŠčé ąĄčüą╗ąĖ ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤čāčé ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąĖ
ą║ąĮąĖą│ąĖ ŌĆō čü ąĮą░čü čüą┐čĆąŠčüčÅčé ąĮą░čłąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝ą║ąĖ. ąÆčŗ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖč鹥 čéą░ą║, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ
ą┐čĆąŠą║čāčĆąŠčĆąŠą╝ čĆą░ą▒ąŠčéą░ą╗ąĖ: ą║čĆą░ąČą░, ą░ą▓ą░ąĮčéčÄčĆą░‑ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░ ąĮąĄ
ą┤ąŠčüą╗čāčłą░ą╗ą░, č湥ą╝ ąĘą░ą║ąŠąĮčćąĖą╗čüčÅ čüą┐ąŠčĆ. ąĪąĮąĖą╝ą░čÅ ąĮą░ čģąŠą┤čā ą┐ą╗ą░čē, ą▓ ąŠčéą┤ąĄą╗ ą▓ą▒ąĄąČą░ą╗ą░
ąÉąĮąĮą░. ┬½ąōąŠčüą┐ąŠą┤ąĖ, čüą░ą╝ąĖ‑č鹊 ą▓čŗ čģąŠčéčī ą║ č湥čĆčéčā ąĮą░ čĆąŠą│ą░ ą┐ąŠą╗ąĄąĘą░ą╣č鹥, ŌĆō ą┤čāą╝ą░ą╗ą░
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮą░ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮą░, ą▓čŗą┤ą░ą▓ą░čÅ ąÉąĮąĮąĄ čģą░ą╗ą░čé ąĖ čéą░ą┐ąŠčćą║ąĖ, ŌĆō ą░ ą┤ąĄą▓ą║čā‑č鹊 ąĘą░č湥ą╝
čü čüąŠą▒ąŠą╣ čéčÅąĮąĄč鹥? ąÜčĆą░ąČąĖ, ą░ą▓ą░ąĮčéčÄčĆčŗŌĆ” ąÉ ąŠąĮą░ ą┤ąĄą▓č湊ąĮą║ą░ čüąŠą▓čüąĄą╝, ąĄą╣ ą▒čŗ ąĮąĄ ąĮą░ą┤
čŹčéąĖą╝ąĖ č湥čĆąĮčŗą╝ąĖ ą║ąĮąĖą│ą░ą╝ąĖ čüąĖą┤ąĄčéčī, ą░ ą▓ ą║ą╗čāą▒ ą▒ąĄą│ą░čéčī ą┤ą░ čü ą┐ą░čĆąĮčÅą╝ąĖ ą│čāą╗čÅčéčīŌĆ”┬╗
ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮąĄ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĮąĄ ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą║ą░ąĘą░ą╗ąŠčüčī,
čćč鹊 čćąĖčéą░čéčī čéą░ą║ąĖąĄ čüčéą░čĆčŗąĄ, ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗąĄ ą╝ą░ą╗ąŠą┐ąŠąĮčÅčéąĮčŗą╝ čÅąĘčŗą║ąŠą╝ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ
ą╗čÄą┤ąĖ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĮčŗąĄ, ą┐ąŠąČąĖą╗čŗąĄ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ čāąČąĄ ąĮąĖč湥ą│ąŠ ą▓ čŹč鹊ą╣ ąČąĖąĘąĮąĖ ąĮąĄ ą▓
ą┤ąĖą║ąŠą▓ąĖąĮą║čāŌĆ”
ąÜąÉąØąŻąØą½ ąś ąÜąÉąØą×ąØą½
ąĪčāą╝ąĄčĆą║ą░ą╝ąĖ čéčÅą│ąŠčüčéąĮąĄą╣ čüčéą░ą╗ąŠ ąöąĖą▓ąĄčÄ.
ąÆčŗą╣ą┤ąĄčé ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčåąŠ, ąŠą│ą╗čÅą┤ąĖčé ą¤ąŠą┤ąŠą╗ ŌĆō ąĮąĖ ąŠą│ąŠąĮčīą║ą░ ą▓ ąŠą║ąĮą░čģ, ąĖ ą▓ ą┐ąŠčüą░ą┤ąĄ
ą╝čĆą░ą║, č鹊ą╗čīą║ąŠ ąĘą░čĆąĄą▓ąŠ čüą╗čÄą┤ąŠčÄ ą▓ ą│ą╗ą░ąĘą░čģ ąĖą│čĆą░ąĄčé. ąÆčĆąŠą┤ąĄ čéąĖčģąŠ ą║čĆčāą│ąŠą╝, ą╗ąĖčłčī
čüąŠą▒ą░ą║ąĖ ą▒čĆąĄčłčāčé, ą░ čéčĆąĄą▓ąŠą│ą░ ą▒ąĄčĆąĄčé, čüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ąĮą░ą╗ąĄč鹥ą╗ąĖ ą┐ąĄč湥ąĮąĄą│ąĖ ą┤ą░ ąŠą▒ą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ
ąÜąĖąĄą▓, čćč鹊ą▒ čü ąĘą░čĆąĄčÄ ąĮą░ ą┐čĆąĖčüčéčāą┐ ąĖą┤čéąĖ. ąØąŠ ąĮąĄčé čüč鹥ą┐ąĮčÅą║ąŠą▓ čā ą│ąŠčĆąŠą┤čüą║ąĖčģ
čüč鹥ąĮ, čü ą╗ąĄčéą░ ąĮąĄ čüą╗čŗčģą░čéčī ąŠ ąĮą░ą▒ąĄą│ą░čģ. ąĀą░ąĘą▓ąĄ čćč鹊 ą┐ąŠ čāą║čĆą░ąĖąĮą░ą╝ ąĘąŠčĆčÅčé ą▓ąĄčüąĖ
ą╝ą░ą╗čŗą╝ąĖ čüąĖą╗ą░ą╝ąĖ, ą┐ąŠą┐čāą│ąĖą▓ą░čÄčé čüą╝ąĄčĆą┤ąŠą▓ ą┤ą░ čģąŠą╗ąŠą┐ąŠą▓.
ąØąĄčüą┐ąŠą║ąŠą╣ąĮąŠ ąöąĖą▓ąĄčÄ. ąÜčāą┤ą░ ąĮąĖ ą│ą╗čÅąĮąĄčé ŌĆō
ą┐čāčüčé ą│ąŠčĆąŠą┤, č湥čĆąĄąĮ ąĖ ąĮąĄąĘčĆčÅčć, čĆąŠą▓ąĮąŠ čüą╗ąĄą┐ąŠą╣. ąóąŠą╗čīą║ąŠ ąĮą░ čģąŠą╗ą╝ąĄ, ą▓ č鹥čĆąĄą╝ąĄ
ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÅ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆą░ ąĪą▓čÅč鹊čüą╗ą░ą▓ą╗ąĖčćą░, ąŠą│ąŠąĮąĄą║ ą▒čĆąĄąĘąČąĖčé, čüą║čāą┐ąŠą╣ ą┤ą░
čéčĆąĄą▓ąŠąČąĮčŗą╣, ą▒čāą┤č鹊 ą▓ ą▒ą░ąĮąĄ, ą║ąŠą│ą┤ą░ čāą┐čŗčĆąĖ[1] ą╝ąŠčÄčéčüčÅ.
ąś ą▓ ąĮąĄą▒ąĄ čćąĖčüč鹊 ŌĆō ą║ą░ąČą┤ą░čÅ ąĘą▓ąĄąĘą┤ąŠčćą║ą░ ąĮą░ ą╗ą░ą┤ąŠąĮčī ą┐čĆąŠčüąĖčéčüčÅ, ąĮąŠ čü čéčīą╝ąŠčÄ
ą┐ąŠą┤ąĮčÅą╗ą░čüčī ąĮą░ą┤ ą¤ąŠą┤ąŠą╗ąŠą╝ čéčāčćą░ ąĮąĄč鹊ą┐čŗčĆąĄą╣[2].
ąóą░ą║ ąĖ ą╝ąĄą╗čīč鹥賹░čé ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ, čĆąŠčÅčéčüčÅ, ą░ ąĖąĮą░čÅ čü čĆą░ąĘą╗ąĄčéą░ ą▓čåąĄą┐ąĖčéčüčÅ ą▓
ą▒ąĄą╗čāčÄ ąöąĖą▓ąĄąĄą▓čā ą▒ąŠčĆąŠą┤čā, čĆą░čüą┐ą╗ą░čüčéą░ąĄčé ą║čĆčŗą╗ą░ ąĖ čüą║čĆąĄąČąĄčēąĄčé ą║ąŠą│ąŠčéą║ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ
ą║ąŠąČą░ąĮąŠą╝čā ą░ą╗ą░ą╝čā[3].
ąÉ ąöąĖą▓ąĄą╣ čĆąŠą▓ąĮąŠ ąĘą░ą║ą░ą╝ąĄąĮąĄą╗, ą╝ąŠčćąĖ ąĮąĄčé čĆčāą║čā ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī ąĖ čüą▒čĆąŠčüąĖčéčī čü ą│čĆčāą┤ąĖ
čéą▓ą░čĆčī ą╝ąĄčƹʹ║čāčÄ. ąÆčüąĄ ąĮą░ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖą╣ č鹥čĆąĄą╝ ą│ą╗čÅą┤ąĖčé. ąÆą┤čĆčāą│ ą┤ą░ čĆą░čüą┐ą░čģąĮčāčéčüčÅ
ą▓ąŠčĆąŠčéą░, ą▓čŗčüą║ąŠčćąĖčé ą│ąŠąĮąĄčå ąĮą░ ą▒ąĄą╗ąŠą╣ ą╗ąŠčłą░ą┤ąĖ, čćč鹊ą▒čŗ ą║ą╗ąĖą║ąĮčāčéčī čüčéą░čĆčåą░ ą║
ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆčā. ąōąŠąĮčåčŗ‑č鹊 čüą║ą░čćčāčé, ą┤ą░ ą▓čüąĄ ą╝ąĖą╝ąŠ ąöąĖą▓ąĄąĄą▓ąŠą╣ čģąŠčĆąŠą╝ąĖąĮčŗ. ąØąĄčāąČąĄą╗čī
čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĖąĘąŠą▓ąĄčé ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ąöąĖą▓ąĄčÅ, čćč鹊ą▒ ą┐ąŠą▓ąĄą┤ą░čéčī ąĄą╝čā ąŠ ą┐ąŠčģąŠą┤ąĄ ąĮą░
ąÜąŠčĆčüčāąĮčī‑ą│ąŠčĆąŠą┤[4].
ąĪąĄą╝čī ą┤ąĄąĮ ą╝ąĖąĮčāą╗ąŠ, ą║ą░ą║ ą▓ąŠąĘą▓čĆą░čéąĖą╗čüčÅ
ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ čü ą┤čĆčāąČąĖąĮąŠą╣. ąŻąČ ąĖ ą┐ąĄčłąĖąĄ ąŠą┐ąŠą╗č湥ąĮčåčŗ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤čÅčé, ą┐ąŠą▓ąŠąĘą║ąĖ čü
ą┤ąŠą▒čŗč湥ą╣ ą┐ąŠą┤ čüč鹥ąĮą░ą╝ąĖ čüą║čĆąĖą┐čÅčé, ą░ ą║ąĮčÅąĘčī ąĖąĘ č鹥čĆąĄą╝ą░ ąĮąĄ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčé, ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĮąĄ
ąĘąŠą▓ąĄčé. ąæčŗą▓ą░ą╗ąŠ, ąĖąĘ ą▓čüąĄčģ ą┐ąŠčģąŠą┤ąŠą▓ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ ą┐ąŠčāčéčĆčā ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ ą▓čģąŠą┤ąĖą╗. ąÜąŠą╗ąĖ
ąĘą░čüčéą░ąĮąĄčé ąĄą│ąŠ ą▓ąĄč湥čĆ ąĮąĄą┤ą░ą╗ąĄą║ąŠ ąŠčé ąÜąĖąĄą▓ą░ ŌĆō ą╗ą░ą│ąĄčĆąĄą╝ ą▓čüčéą░ąĮąĄčé ąĖ ąĮąŠčćčī
ą┐ąĄčĆąĄąČą┤ąĄčé, čģąŠčéčÅ ą▒ąŠčÅčĆąĄ ą┤ą░ ą┐čĆąŠčüč鹊ą╗čÄą┤ąĖąĮčŗ čéą░ą║ ąĖ ą┐ą╗ąĄčēčāčéčüčÅ ą┐ąŠ čāą╗ąĖčåą░ą╝,
ą▓ąĖčüąĮčāčé ąĮą░ čüč鹥ąĮą░čģ, ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÅ ą┤ąŠąČąĖą┤ą░čÄčćąĖ. ąØčŗąĮąĄ ąČąĄ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ čü čéčīą╝ąŠčÄ
ą▓ ą│ąŠčĆąŠą┤ ą▓čüčéčāą┐ąĖą╗, čĆąŠą▓ąĮąŠ čéą░čéčī[5] ą╗ąĖą▒ąŠ
ą▒ąĄą│ą╗čŗą╣ čü ą▒ą░čĆą░ą╗ąĖčēą░[6].
ąĪąĄą╝čī ą┤ąĄąĮ ą╝ąĖąĮčāą╗ąŠ, ą░ ąŠąĮ ą¤ąĄčĆčāąĮčā‑ą▒ąŠą│čā čéčĆąĄą▒čŗ ąĮąĄ ą║ą╗ą░ą╗ ąĖ čü ą┤čĆčāąČąĖąĮąŠą╣ čüą▓ąŠąĄą╣
ąĮąĄ ą┐ąĖčĆąŠą▓ą░ą╗ ą▓čüą╗ą░čüčéčī. ąØąĄą╝ąŠąĄ ą▒ąĖą╗ąŠ[7] čā
ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖčģ ą▓ąŠčĆąŠčé ą╗ąĖčłčī ą▓ąĄč鹥čĆ ą║ą░čćą░ąĄčéŌĆ”
ąśą╗čī ąĮąĄ ąĮčāąČąĮčŗ ą▒ąŠą╗čīčłąĄ ą╗ąĄč鹊ą┐ąĖčüčåčŗ ąĖ
ą┐ąĄčüąĄąĮąĮąĖą║ąĖ ąĘąĄą╝ą╗ąĄ ąĀčāčüčüą║ąŠą╣?
ąóą░ą║ ą▒čŗ ąĖ čéą░čēąĖą╗čüčÅ ąöąĖą▓ąĄą╣ ą▓ čüą▓ąŠąĖčģ ą┤čāą╝ą░čģ,
ąĮąŠ ą┐čĆąĖą▒ąĄąČą░ą╗ąĖ čéčāčé ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ[8] ąöąĄą▓čÅčéą║ąŠ
ąĖ ą¢ą╝čāčĆą░ ą┤ą░ ą▓ąĄčüčéčī ą┐ąŠą▓ąĄą┤ą░ą╗ąĖ. ąæčāą┤č鹊 ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ąŠčéčĆąĖąĮčāą╗ ą¤ąĄčĆčāąĮą░‑ą▒ąŠą│ą░ ąĖ
ą▓ ąÜąŠčĆčüčāąĮąĖ čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║čāčÄ ą▓ąĄčĆčā ą┐čĆąĖąĮčÅą╗. ąś ą▒čāą┤č鹊 č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓čüčÄ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĀčāčüčüą║čāčÄ
ą║čĆąĄčüčéąĖčéčī čüčéą░ąĮąĄčéŌĆ”
ŌĆō ą×čüč鹥čĆąĄą│ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÅ! ŌĆō ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ
ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ. ŌĆō ą×ąĮ ą┐ąŠčüą╗čāčłą░ąĄčé č鹥ą▒čÅ. ą×ą║čĆčāąČąĖą╗ąĖ, ąŠą║čĆčāčéąĖą╗ąĖ ąĄą│ąŠ ą│čĆąĄą║ąĖ‑ą┐ąŠą┐čŗ, ąĮą░
čāčłąĖ čłąĄą┐čćčāčé čĆąĄčćąĖ ą╝ąĄą┤ąŠą▓čŗąĄ, čüčāą╗čÅčé ą│ąŠčĆčŗ ąĘąŠą╗ąŠčéčŗąĄ, ą░ą▒čŗ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ąĄčĆčā
čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║čāčÄ ą┐čĆąĖąĮčÅą╗. ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ‑č鹊 ąĪą▓čÅč鹊čüą╗ą░ą▓ą╗ąĖčć ąĖ čłą░ą│čā ą▒ąĄąĘ ąĮąĖčģ čüčéčāą┐ąĖčéčī
ąŠą┐ą░čüą░ąĄčéčüčÅ, ąĖ čüą╗ąŠą▓ąŠ ą▓čŗą╝ąŠą╗ą▓ąĖčéčī. ąÉ ą┐čĆąĖą╝ąĄčé ąĀčāčüčī čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüčéą▓ąŠ, ąĮąĄ ą║ąĮčÅąĘąĖ ŌĆō
ą┐ąŠą┐čŗ ąĮą░ą╝ąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖčéčī čüčéą░ąĮčāčé, ąĖ čāą╣ą┤ąĄčé ąĀčāčüčüą║ą░čÅ ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą▓ ą┐ąŠą╗ąŠąĮ ąĖąĮąŠąĘąĄą╝čåą░ą╝, ą▓
čĆą░ą▒čüčéą▓ąŠ čāą╣ą┤ąĄą╝, ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮą░ ąĀčāčüąĖ ąĘąĮą░čéčī ąĮąĄ ąĘąĮą░ą╗ąĖ, ą▓ąĖą┤ąĄčéčī ąĮąĄ ą▓ąĖą┤ąĄą╗ąĖŌĆ”
ąØąĄ ą┐ąŠč鹊ą╝čā ą╗ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ą│ą╗ą░ąĘ ąĮąĄ
ą║ą░ąČąĄčé ąĖ ą║ čüąĄą▒ąĄ ąĮąĄ ąĘąŠą▓ąĄčé?
ąÆąĄčĆąĮąĄčéčüčÅ čüčéą░čĆąĄčå ą▓ čģąŠčĆąŠą╝čŗ, ą┐čĆąĖčüčÅą┤ąĄčé ą║
čüč鹊ą╗čā ąĖ čüąĮąŠą▓ą░ ąĘą░ą╝čĆąĄčé. ąóąŠą╗čīą║ąŠ čüčāčģąĖąĄ ąČąĄą╗čéčŗąĄ ą┐ą░ą╗čīčåčŗ čćčāčéčī čłąĄą▓ąĄą╗čÅčéčüčÅ,
čēčāą┐ą░čÄčé čćąĖčüčéčŗąĄ čģą░čĆą░čéčīąĖ. ąóčĆąĄčüąĮąĄčé ąŠą│ąŠąĮčī čüą▓ąĄčćąĖ ŌĆō ą▓ąĘą┤čĆąŠą│ąĮąĄčé ąöąĖą▓ąĄą╣, ąŠą║ąĖąĮąĄčé
ą│ą╗ą░ąĘą░ą╝ąĖ čüč鹥ąĮčŗ, ą┐ąĄčĆąŠ ą╗ąĄą▒ąĄą┤ąĖąĮąŠąĄ ą▓ čĆčāą║čā ą▓ąŠąĘčīą╝ąĄčé, ą┤ą░ čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠą▓ąĖčüąĮąĄčé čĆčāą║ą░
ąĮą░ą┤ ą│ąŠčĆčłąŠčćą║ąŠą╝ čü č湥čĆąĮąĖą╗ą░ą╝ąĖ. ąÉ ą╝čŗčüą╗ąĖ čćč鹊 ąĮąĄč鹊ą┐čŗčĆąĖ, ąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą▒ąĄąĘą╝ąŠą╗ą▓ąĮąŠą╣
čéčāč湥ą╣, ą╗ąĖą┐ąĮčāčé, čåą░čĆą░ą┐ą░čÄčéŌĆ”
ą¤ąĄčĆąĄą┤ č鹥ą╝ ą║ą░ą║ ąÜąŠčĆčüčāąĮčī ą▓ąŠąĄą▓ą░čéčī,
ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ ąĪą▓čÅč鹊čüą╗ą░ą▓ą╗ąĖčć ą║ čüčéą░čĆčåčā ąĮą░ą▓ąĄą┤ą░ą╗čüčÅ. ąØąŠčćčī čüč鹊čÅą╗ą░ ąĮąĄ ą║čĆą░čłąĄ
ąĮčŗąĮąĄčłąĮąĄą╣ ŌĆō č鹥ą╝ąĮą░čÅ ą┤ą░ čéčĆąĄą▓ąŠąČąĮą░čÅ. ą×ą┤ąĖąĮ ą▓ čģąŠčĆąŠą╝čŗ ą▓ąŠčłąĄą╗, ą┤ąŠą▓ąĄčĆąĄąĮąĮąŠą│ąŠ
čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅčĆąĖąĮą░ ąĘą░ ą┐ąŠčĆąŠą│ąŠą╝ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗.
ŌĆō ąøą░ą┤ąĮąŠ ą╗ąĖ ąČąĖą▓ąĄčłčī, ą┤ąĄą┤čāčłą║ąŠ? ŌĆō
čüą┐čĆąŠčüąĖą╗. ŌĆō ą£ąŠąČąĄčé, ą▓ č鹥čĆąĄą╝ ą╝ąŠą╣ ą┐ąŠą╣ą┤ąĄčłčī? ąÆąĄą╗čÄ čüą▓ąĄčéą╗ąĖčåčā č鹥ą▒ąĄ ąŠčéą┤ą░čéčī ą▓
ą┐ąŠą║ąŠčÅčģ ą╝ąŠąĖčģ ąĖ čüą╝ąĄčĆą┤ąŠą▓ ą▓ čāčüą╗čāąČąĄąĮąĖąĄ.
ŌĆō ąĪčéą░čĆ čÅ, ą░ąČąĄ ą▒čŗ ą▓ ą┐ąŠą║ąŠčÅčģ čéą▓ąŠąĖčģ
ąČąĖčéčī, ŌĆō ąŠčéą▓ąĄčćą░ą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣. ŌĆō ąæąŠą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠ čéą▓ąŠąĖ ą┐ąŠą║ąŠąĖ, ą║ąĮčÅąČąĄ, ąĘąĄą╝ą╗ąĖ ąĮąĄ
ą┤ąŠčüčéą░čéčī.
ŌĆō ąÜąŠą╗ąĖ ą▓ čģą░čĆą░čéčīčÅčģ ąĮčāąČą┤ą░ ąĄčüčéčī ŌĆō ą▓ąĄą╗čÄ
ą║čāą┐čåą░ą╝ ąĘą░ ą╝ąŠčĆąĄ ą┐ą╗čŗčéčīŌĆ”
ŌĆō ąś ą▓ čģą░čĆą░čéčīčÅčģ[9] ąĮčāąČą┤čŗ
ąĮąĄčé.
ą×ą┐čāčüčéąĖą╗ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╣ ą║ąĮčÅąĘčī ą│ąŠą╗ąŠą▓čā, čüą┐ąĖąĮčā
čüčüčāčéčāą╗ąĖą╗.
ŌĆō ąĪą╗ąŠą▓ąŠ ą╝ąĮąĄ čéą▓ąŠąĄ ąĮą░ą┤ąŠą▒ąĮąŠ, ąöąĖą▓ąĄą╣,
čāč鹥賹ĄąĮčīčÅ ąĖčēčā. ąóčÅąČą║ąŠ ąĮą░ čüąĄčĆą┤čåąĄ, ą┤ąĄą┤čāčłą║ąŠ, ą┤čāą╝čŗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąŠą▒ą╗ąŠąČąĖą╗ąĖ ŌĆō
ąĘą▓ąĄčĆąĄą╝ ą▒čāą│ą░čéąĖ[10] čģąŠč湥čéčüčÅŌĆ”
ąóąŠ čćčāą┤ąĖčéčüčÅ, ą┐čĆąŠą┐ą░ą┤ąĄčé ąĘąĄą╝ą╗čÅ ąĀčāčüčüą║ą░čÅ, ąĖ čüčéčĆą░čģ čüąĄčĆą┤čåąĄ ą│čĆčŗąĘąĄčé, ą░ č鹊 ŌĆō
ą▒ąĄąĘą▒čāčĆąĖąĄ ąĮą░ą┤ ąĀčāčüčīčÄ ąĖ ąĘąĄą╝ą╗čÅ ą▒ą░čüąĮąĄąĮąĮą░čÅ[11],
ą╗ąĖčłąĄ čÅ ą░ą║ąĖ ą▒ąĄąĘą┤ąŠą╝ąŠą║ ąĮą░ ąĮąĄą╣ŌĆ”
ŌĆō ą¤ąŠą╗ąĮąŠ, ą║ąĮčÅąČąĄ! ŌĆō čāčüą┐ąŠą║ąŠąĖą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣. ŌĆō
ąÜą╗ą░ą┤ąĖ čéčĆąĄą▒čŗ ą¤ąĄčĆčāąĮčā‑ą▒ąŠą│čā ą┤ą░ ą▓ąĄą┤ąĖ ą┤čĆčāąČąĖąĮčā čüą▓ąŠčÄ ąĮą░ ąÜąŠčĆčüčāąĮčī. ąÉ ą║čĆčāčćąĖąĮą░
čéą▓ąŠčÅ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ čĆą░ąĘą▓ąĄąĄčéčüčÅ, ą░ą║ąĖ ą┐ąĄčĆčüčéčī[12] ąĮą░
ąĘąĄą╝ą╗čÄ ą┐ą░ą┤ąĄčé.
ŌĆō ąæčĆą░čé ą╝ąŠą╣, ą»čĆąŠą┐ąŠą╗ą║, ą▓ąŠ čüąĮąĄ čüąĮąĖčéčüčÅ, ŌĆō
ą│ą╗čāčģąŠ ą┐čĆąŠą╝ąŠą╗ą▓ąĖą╗ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ. ŌĆō ąóąŠą║ą╝ąŠ ąŠčćąĖ ąĘą░ą║čĆąŠčÄ‑ą┤ąĄčüąĮąĖčåčā ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ čéčÅąĮąĄčé ąĖ
čĆąĄčēąĄčé[13]:
ąĘą┤čĆą░ą▓čüčéą▓čāą╣, ą▒čĆą░čé.
ąÆčüą║ąĖąĮčāą╗ ą│ąŠą╗ąŠą▓čā ąöąĖą▓ąĄą╣, ąŠą│ą╗čÅą┤ąĄą╗ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ
ą║ąĮčÅąĘčÅ, ąĮąŠ čüą┤ąĄčƹȹ░ą╗čüčÅ ąŠčé čāą┐čĆąĄą║ą░. ą¤ąŠą╝ąĮąĖą╗ čüčéą░čĆąĄčå ą┤ąĄą┤ą░ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆą░, ąśą│ąŠčĆčÅ
ąĀčÄčĆąĖą║ąŠą▓ąĖčćą░, ąĖ ąŠčéčåą░ ąĄą│ąŠ, ąĪą▓čÅč鹊čüą╗ą░ą▓ą░, ą┐ąŠą╝ąĮąĖą╗. ą£ąĮąŠą│ąĖąĄ ą╗ąĄčéą░ ą┐ąĖčüą░ą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣
ąŠ čüą╗ą░ą▓ąĮčŗčģ ą┐ąŠčģąŠą┤ą░čģ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖčģ, ąŠ ą▒ąĖčéą▓ą░čģ čü ą┐ąĄč湥ąĮąĄą│ą░ą╝ąĖ ą┤ą░ čģą░ąĘą░čĆą░ą╝ąĖ, ąŠ
ą│ąŠčĆąĄ ą╗čÄč鹊ą╝ ąĖ ąŠ čĆą░ą┤ąŠčüčéąĖ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą╣ ą┐ąĄčüąĮąĖ čüą╗ą░ą│ą░ą╗ ąĖ č鹥賹Ėą╗ ą┐ąŠč鹊ą╝ ą║ąĮčÅąĘąĄą╣
ą║ąĖąĄą▓čüą║ąĖčģ. ąś ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ ą▓ ą║čāą┐ąĮąŠą╝čŗčüą╗ąĖąĖ čü ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╝ąĖ ą║ąĮčÅąĘčīčÅą╝ąĖ, ąĖą▒ąŠ ąĮąĄ
čüą╗ąĄą┤ ą╗ąĄč鹊ą┐ąĖčüčåčā ą┤ąĄą╗ą░ą╝ ąĖčģ ą╝ąĄčłą░čéčī, ąĖ čü ą▒čĆą░č鹊čāą▒ąĖą▓čåąĄą╝ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆąŠą╝ ą╗ą░ą┤ąĖą╗,
ą┐ąĄčĆąĄčćąĖčéčī ąĄą╝čā ąĮąĄ čģąŠč鹥ą╗, ą┤ą░ąČąĄ ąĄčüą╗ąĖ ą┐čŗą╗ą░ą╗ąŠ ą▓ąŠ ą│ąĮąĄą▓ąĄ čüąĄčĆą┤čåąĄ ąöąĖą▓ąĄąĄą▓ąŠ.
ŌĆō ą×čéą▓ąĄą┤ąĖ ąĖ čĆą░ąĘą▓ąĄą╣ ą┤čāą╝čŗ ąĖ čüčéčĆą░čüčéąĖ ą╝ąŠąĖ,
ą┤ąĄą┤čāčłą║ąŠ, ŌĆō ą┐ąŠą┐čĆąŠčüąĖą╗ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ. ŌĆō ąóčŗ ąČąĄ ą▒ąĄčüąĄą┤ą╗ąĖą▓čŗą╣, čéą▓ąŠąĄ čüą╗ąŠą▓ąŠ ą░ą║ąĖ
ą▒ą░ą╗čīčüčéą▓ąŠ[14],
ą░ą║ąĖ ą╝ąŠą▓čī[15] ą┐ąŠčüą╗ąĄ
ą▒čĆą░ąĮąĖ. ą¤ąŠą║ą░ ąĮą░ ąÜąŠčĆčüčāąĮčī‑ą│ąŠčĆąŠą┤ čü ą┤čĆčāąČąĖąĮąŠą╣ čģąŠąČčā, čüą╗ąŠąČąĖ ą╝ąĮąĄ ą┐ąĄčüąĄąĮčī, ą░ąČąĄ
ą▒čŗ ą╝ąĖą╗ąŠčüąĄčĆą┤ąĖąĄ ą║ąŠ ą╝ąĮąĄ ą┐čĆąŠą▒čāą┤ąĖą╗ą░ ąĖ ą╝čāą┤čĆąŠčüčéčī ą▓ąĄą╗ąĖą║čāčÄ. ąĪą╗ą░ą▓čā čÅ ą╝ąĄč湊ą╝
ą┤ąŠą▒čāą┤čā, ą░ ą╝čāą┤čĆąŠčüčéčī č鹊ą║ą╝ąŠ ąŠčé čüą╗ąŠą▓ą░ čéą▓ąŠąĄą│ąŠ, ąöąĖą▓ąĄą╣ŌĆ”
ąĪą╗ąŠąČąĖą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣ ą┐ąĄčüąĮčī ą┤ą╗čÅ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆą░
ąĪą▓čÅč鹊čüą╗ą░ą▓ą╗ąĖčćą░, ąĘą░ą┐ąĖčüą░ą╗ ąĮą░ ą┐ąĄčĆą│ą░ą╝ąĄąĮč鹥 ąĖ čüą┐čĆčÅčéą░ą╗ ą▓ ą╗ą░čĆąĄčå. ąóąĄą┐ąĄčĆčī ą▒čŗ
ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠą▒ą░ą╗ąŠą▓ą░čéčī ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖą╣ čāą╝ ąĖ čüąĄčĆą┤čåąĄ, ą┤ą░ ąĮąĄ ą║ą╗ąĖčćčāčé čüčéą░čĆčåą░ ą║
ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą╝čā ą║ąĮčÅąĘčÄ. ąÆąĄčĆąĮąŠ, ą▓ ą║čĆąĄčēąĄąĮąĖąĖ ąĮą░čłąĄą╗ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ ą▒ą░ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąŠčé ąĮąĄą┤čāą│ąŠą▓
čüą▓ąŠąĖčģŌĆ”
ąÜ ą┐ąŠą╗čāąĮąŠčćąĖ ąĮąĄ čüč鹥čĆą┐ąĄą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣. ąØąŠą▓čŗąĄ
č湊ą▒ąŠčéčŗ ąĮą░ą┤ąĄą╗, ą▓ąŠą╗ąŠčüčŗ ą│čĆąĄą▒ąĄčłą║ąŠą╝ čĆą░čüč湥čüą░ą╗, čćąĖčüč鹊ą╣ č鹥čüčīą╝ąŠčÄ ą┐ąŠą▓čÅąĘą░ą╗ ąĖ
ą║ą╗ąĖą║ąĮčāą╗ ąŻą╗čŗą▒čā ŌĆō čāč湥ąĮąĖą║ą░ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ, čüčŗąĮą░ čģąŠą╗ąŠą┐čīąĄą│ąŠ. ąØąĄ ąŠč鹊ąĘą▓ą░ą╗čüčÅ čāąĮąŠčé[16],
ą▓ąĖą┤ąĮąŠ, ąĘą░čüąĮčāą╗ ą║čĆąĄą┐ą║ąŠ. ąŚą░ą│ą╗čÅąĮčāą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣ ą▓ čćčāą╗ą░ąĮ, ą│ą┤ąĄ čüą┐ą░ą╗ ąŻą╗čŗą▒ą░,
ą┐ąŠčłą░čĆąĖą╗ ąĮą░ ą┐ąŠčüč鹥ą╗ąĖ ŌĆō ąĮąĄčé ąĄą│ąŠ! ą¤ąŠčģąŠą╗ąŠą┤ąĄą╗ąŠ čüąĄčĆą┤čåąĄ: ą▓ čŹčéą░ą║čāčÄ čéčĆąĄą▓ąŠąČąĮčāčÄ
ąĮąŠčćčī čāčłąĄą╗ ąĖ ąĮąĄ čüą┐čĆąŠčüąĖą╗čüčÅ ą┤ą░ąČąĄ. ąĪą│ąĖąĮąĄčé ąŠčéčĆąŠą║, ąĖ čüąŠą▓čüąĄą╝ ąŠą┤ąĖąĮ ąŠčüčéą░ąĮąĄčéčüčÅ
ąöąĖą▓ąĄą╣ŌĆ” ąŻą╗čŗą▒ą░ čü ą╝ą░ą╗ąŠą╗ąĄčéčüčéą▓ą░ ąČąĖą╗ čüąŠ čüčéą░čĆčåąĄą╝, ą┐ąŠą╗čÄą▒ąĖą╗čüčÅ ąĄą╝čā ą║ą░ą║ čüčŗąĮ ąĖ ą▓
ą┐ąĖčüčīą╝ąĄ ą┐čĆąŠą▓ąŠčĆąĮčŗą╣ ą▒čŗą╗. ąöąĖą▓ąĄą╣ čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╗čüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖą╝ ą║ąĮčÅąĘąĄą╝
čģą╗ąŠą┐ąŠčéą░čéčī, čćč鹊ą▒čŗ čāč湥ąĮąĖą║ą░ ą▓ąŠą╗čīąĮčŗą╝ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ąŠą╝ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī. ąÜąĖąĮčāą╗čüčÅ čüčéą░čĆąĄčå
ąĮą░ ą║čĆčŗą╗čīčåąŠ, ą░ ąĮą░ą▓čüčéčĆąĄčćčā ąŠą┐čÅčéčī ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ.
ŌĆō ąÆąĄą┤ą░ąĄą╝ ą╝čŗ! ŌĆō ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ. ŌĆō ąÉąČąĄ čü
ąĘą░čĆąĄčÄ ą║čĆąĄčēąĄąĮąĖąĄ ą▒čāą┤ąĄčé! ąøąĖčłąĄ čüąĄą╣čćą░čü ą┐čĆąŠąĘąĮą░ą╗ąĖ! ąŻ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÅ čü
ą▓ąĄč湥čĆą░ ą┐ąŠą┐čŗ ą│čĆąĄč湥čüą║ąĖąĄ ą┤ą░ ą▒ąŠą╗ą│ą░čĆčüą║ąĖąĄ č鹊ą╗ą║čāčéčüčÅ, čüčāą┤čÅčé, čĆčÅą┤čÅčé, ą░ą║ąĖ
ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĀčāčüčüą║čāčÄ ą║čĆąĄčüčéąĖčéčī! ąŻčéčĆąŠą╝ čāą║ą░ąĘ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖą╣ ą▒čāą┤ąĄčé, ą░ąČąĄ ą▒čŗ ą▓čüąĄ
ą▒ąŠčÅčĆąĄ, č湥ą╗čÅą┤čī, čģąŠą╗ąŠą┐čŗ ąĖ ą┐čĆąŠčćąĖąĄ ą╗čÄą┤ąĖčłą║ąĖ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą▒ąĄčĆąĄą│ ąöąĮąĄą┐čĆą░
ą┐čĆąĖąĮąĖą╝ą░čéčī ą║čĆąĄčēąĄąĮąĖąĄ! ąÉ ą║č鹊 čāą║ą╗ąŠąĮąĖčéčīčüčÅ ą┐ąŠčüą╝ąĄąĄčé ŌĆō čüąĖą╗ąŠčÄ ą┐ąŠą▓ąŠą╗ąŠą║čāčé!
ąöąĖą▓ąĄą╣ ŌĆō č鹊 čģąŠčéčī ąĖ ąĮąĄ ą▒ąŠčÅčĆąĖąĮ ąĖ ąĮąĄ
čüą╝ąĄčĆą┤, ąĮąĄ čģąŠą╗ąŠą┐ ąĖ ąĮąĄ ąĖąĘą│ąŠą╣ ąĖ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘčŗ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖąĄ ąĄą╝čā ąĮąĄą║ą░čüą░ąĄą╝čŗ, ą░ ąĄčēąĄ
ą┐čāčēąĄ ąĘą░čéčĆąĄą▓ąŠąČąĖą╗čüčÅ ąŠąĮ. ąÆąŠą╗čīąĮąŠą╝čā‑č鹊 č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║čā, ą║ą░ą║ąĖčģ ą╝ą░ą╗ąŠ ąĮą░ ąĀčāčüąĖ ąĄčüčéčī,
ą▓čüąĄą│ą┤ą░ ą▒ąŠą╗čīąĮąĄą╣ ąŠčé ą┐čĆąĖą║ą░ąĘąŠą▓ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖčģ.
ŌĆō ąØąĄ ą▓čĆą░ąĘčāą╝ąĖčłčī čéčŗ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą▓ąĄą╗ąĖą║ąŠą│ąŠ
ą║ąĮčÅąĘčÅ! ŌĆō ąĮą░čüąĄą┤ą░čÄčé ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ. ŌĆō ą£čŗ č鹥ą▒čÅ čćčāčéčī ąĮą░ čüą╝ąĄčĆčéčī ą║ ąĮąĄą╝čā ąĮąĄ
ą┐ąŠčüą╗ą░ą╗ąĖ, ąĮąĄ čćą░čÅą╗ąĖ čāąČ ąĖ ąĘą░čüčéą░čéčī, ą┤čāą╝ą░ą╗ąĖ, ą▓ č鹥čĆąĄą╝ąĄ čéčŗŌĆ” ąÉ ą║ąŠą╗ąĖ ąČąĖą▓ąŠą╣ ŌĆō
čüąŠą▒ąĖčĆą░ą╣‑ą║ą░, ąöąĖą▓ąĄą╣, ą▒ąŠčĆąŠčłąĄąĮčī[17] čüą▓ąŠčÄ,
ą╝čŗ č鹥ą▒čÅ ą▓ č湥čĆąĮčŗąĄ ą╗ąĄčüą░ ą┐ąŠą▓ąĄąĘąĄą╝ ą┤ą░ čüą┐čĆčÅč湥ą╝ ą▓ čéą░ąĖą╗ąĖčēąĄ. ąśą▒ąŠ čü ąĘą░čĆąĄčÄ ąĮąĄ
ą║ąĮčÅąĘčī, čéą░ą║ ą┐ąŠą┐čŗ č鹥ą▒čÅ ą╝čāčćąĖčéčī čüčéą░ąĮčāčé, ą░ čéčĆąĄą▒ąĖčēą░[18] ąČąĄčćčī.
ąŻąČ ąĮčŗąĮč湥 ąĮąŠčćčīčÄ ą║ąŠčüčéčĆčŗ ą▓ ąÜąĖąĄą▓ąĄ čĆą░ąĘą│ąŠčĆą░čÄčéčüčÅ, ą┤čĆčāąČąĖąĮąĮąĖą║ąĖ ą┤ą░ ą▒ąŠčÅčĆąĄ čüą░ą╝ąĖ
ąĖą┤ąŠą╗ąŠą▓ čĆčāą▒čÅčé, čģą░čĆą░čéčīąĖ čü ą┐ąĖčüčīą╝ąŠą╝ ąČą│čāčé ąĖ ą╗čÄą┤ąĖčłą║ą░ą╝ čüą▓ąŠąĖą╝ ą▓ąĄą╗čÅčé!
ąÆąĘą┤čĆąŠą│ąĮčāą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣. ąöą░ čćč鹊 ąČąĄ čŹč鹊
ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ, ą▓ čāą╝ąĄ ą╗ąĖ ąŠąĮ? ąöą░ą▓ąĮąŠ ąĄčüčéčī ąĮą░ ąĀčāčüąĖ čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║ą░čÅ ą▓ąĄčĆą░, ą░
čéčĆąĄą▒ąĖčēą░ ąĮąĖą║č鹊 ąĘąŠčĆąĖčéčī ąĮąĄ čüą╝ąĄą╗, ąĖą┤ąŠą╗ąŠą▓ čĆčāą▒ąĖčéčī ąĮąĄ ą┐ąŠą║čāčłą░ą╗čüčÅ. ąØą░ ąÜąŠčĆčüčāąĮčī
ą┤čĆčāąČąĖąĮčā čāą▓ąŠą┤ąĖą╗ ąĖ čüą░ą╝ čéčĆąĄą▒čŗ ą║ą╗ą░ą╗. ąÆąĄčĆąĮčāą╗čüčÅ čü čćčāąČąĖą╝ ą▒ąŠą│ąŠą╝ ąĖ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ŌĆō
čĆčāą▒ąĖčéčī? ąŁą║ąĖą╣ ą▒ąŠą│ čģčĆąĖčüčéąĖą░ąĮčüą║ąĖą╣, ąŠą┤ąĖąĮ čģąŠč湥čé ąĮą░ą┤ ą╗čÄą┤čīą╝ąĖ čüąĖą┤ąĄčéčī, ą┤čĆčāą│ąĖčģ
ą▓ ąŠą│ąŠąĮčī čüą░ąČą░ąĄčé. ąÆąĄčĆąĮąŠ ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ ą▒ąĄą┤čā ąŠčé ąĮąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠčĆąŠčćąĖą╗ąĖ. ąōą╗čÅąĮčāą╗ čüčéą░čĆąĄčå
ąĮą░ č鹥čĆąĄą╝ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖą╣ ŌĆō ą▓ąŠ ą┤ą▓ąŠčĆąĄ ąŠą│ąŠąĮčī ą┐ąŠą╗čŗčģą░ąĄčé, ą╗čÄą┤ąĖ ą▓ąŠą║čĆčāą│ čüąĮčāčÄčéŌĆ”
ąĪą┐ąŠčģą▓ą░čéąĖą╗čüčÅ, ą┤ąŠčüčéą░ą╗ ąĘą░ą▓ąĄčéąĮčŗą╣ ą╗ą░čĆąĄčå čü čģą░čĆą░čéčīčÅą╝ąĖ, ąĘą░ą┐ąĄą╗ąĄąĮą░ą╗ ą▓
čģąŠą╗čüčéąĖąĮčā, ą▓ąŠą╗čģą▓ą░ą╝ ąŠčéą┤ą░ą╗.
ŌĆō ąóčāčéą░ ą▓čüčÅ ą╝ąŠčÅ ą▒ąŠčĆąŠčłąĄąĮčī, ŌĆō čüą║ą░ąĘą░ą╗. ŌĆō ąÉ
čüą░ą╝ čÅ ą║ąŠ ą║ąĮčÅąĘčÄ ą┐ąŠą╣ą┤čā.
ŌĆō ąØąĄ čģąŠą┤ąĖ! ŌĆō ąĘą░ą║čĆąĖčćą░ą╗ąĖ ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ. ŌĆō
ą¤ąŠą│čāą▒ąĖčé č鹥ą▒čÅ ąÆą╗ą░ą┤ąĖą╝ąĖčĆ, čĆą░ąĘ ą┐ąŠą┐ąŠą▓ č鹊ą║ą╝ąŠ čüą╗čāčłą░ąĄčé. ąÉ ą┐ąŠą┐čŗ ąĮą░čāčüčéčÅčé ąĄą│ąŠ ŌĆō
ą┐ąŠą│čāą▒ąĖčé!
ŌĆō ąØąĄ ą┐ąŠčüą╝ąĄąĄčé ąĮą░ čüčéą░čĆčåą░ čĆčāą║čā ą┐ąŠą┤ąĮčÅčéčī, ŌĆō
ąĘą░ą▓ąĄčĆąĖą╗ ąöąĖą▓ąĄą╣. ŌĆō ą» ąČ ąĄą│ąŠ ą▓ąŠ ą╝ą╗ą░ą┤ąĄąĮč湥čüčéą▓ąĄ ą┐ąĄčüč鹊ą▓ą░ą╗, ą▓čüąĄą╝ ą╝čāą┤čĆąŠčüčéčÅą╝
ąĘąĄą╝ąĮčŗą╝ čāčćąĖą╗.
ą¦čāčéčī čüą║čĆčŗą╗ąĖčüčī ą▓ąŠ čéčīą╝ąĄ ą▓ąŠą╗čģą▓čŗ, ą┐ąĄčĆąĄą┤
ąŠčćą░ą╝ąĖ ąöąĖą▓ąĄčÅ ąŻą╗čŗą▒ą░ ą▓čüčéą░ą╗, čüąĖčÅąĄčé ą▓ąĄčüčī, ąĮą░ ą│ąŠą╗ąŠą▓ąĄ ŌĆō čłąĄą╗ąŠą╝ čģą░čĆą░ą╗čāąČąĮčŗą╣[19].
ŌĆō ąŁą║ąŠ ą▓čŗčĆčÅą┤ąĖą╗čüčÅ! ŌĆō čĆą░čüčüąĄčĆą┤ąĖą╗čüčÅ
čüčéą░čĆąĄčå. ŌĆō ąĀąŠą▓ąĮąŠ ą┐ąŠč鹥賹ĮąĖą║ ą║ąĮčÅąČąĄčüą║ąĖą╣.
ŌĆō ą×ą┐ąŠą╗č湥ąĮąĖąĄ ą┐ąŠą┤ čüč鹥ąĮą░ą╝ąĖ čāąČ, ą┤ąĄą┤čāčłą║ąŠ! ŌĆō
ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ ąŻą╗čŗą▒ą░. ŌĆō ąĪ ą▒ąŠą│ą░č鹊ą╣ ą┤ąŠą▒čŗč湥ą╣ ąĖą┤ąĄčé. ąÉ ąĮą░čĆąŠą┤‑č鹊 ąĖ ąĮąĄ ą▓ąĄą┤ą░ąĄčé!
|